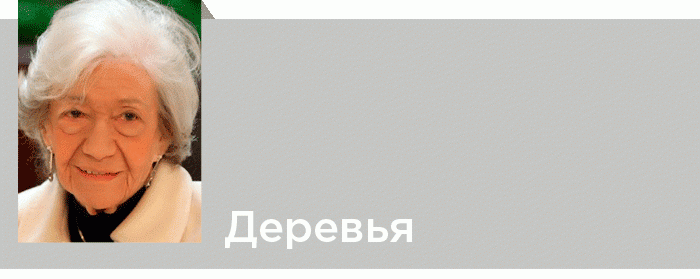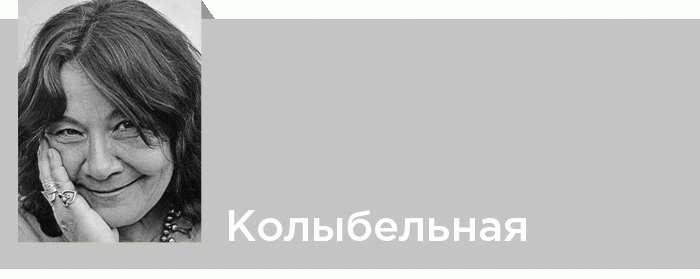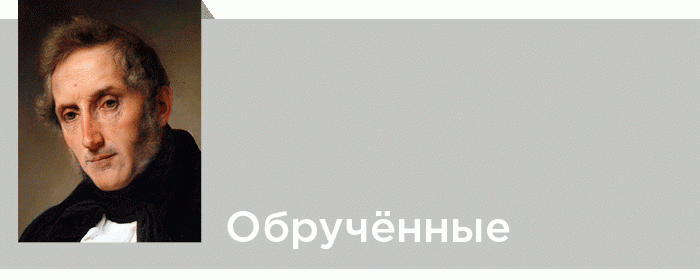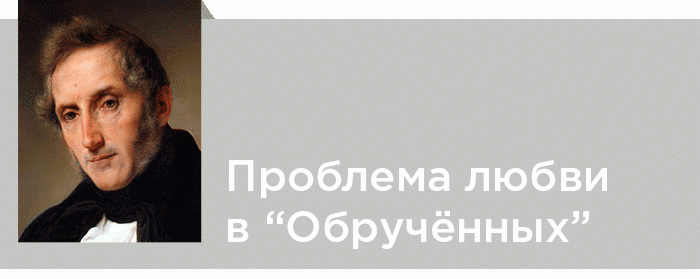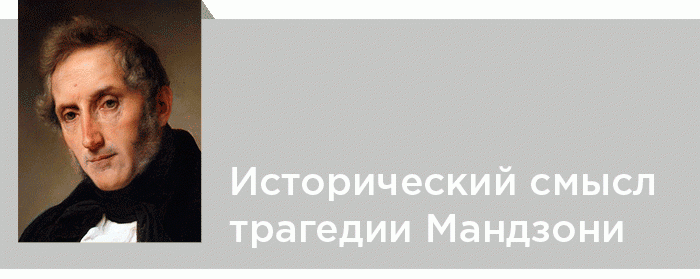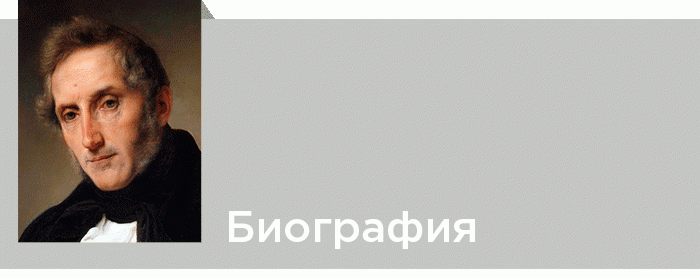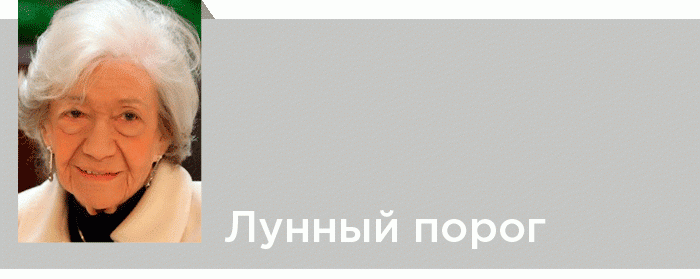Алессандро Мандзони и его роман «Обручённые»
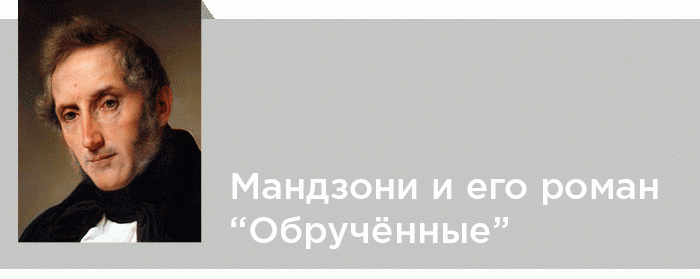
Н. Прожогин
1977 году на открытие фестиваля «Флорентийский музыкальный май» давали оперу Джузеппе Верди «Навуходоносор», или «Набукко», как сокращенно называют ее итальянцы. Ранняя, третья по счету в творчестве великого композитора, она редко ставится теперь даже в Италии, а за ее пределами известна почти исключительно по прекрасному хору «Va, pensiero, sull'ali dorate...» — «Лети, мысль, на крыльях златых...». Угнетенные, угнанные в рабство люди обращаются к попранной иноземным тираном родине, и их скорбное, поначалу тихое, едва слышное пение, нарастая волнами, превращается в громогласный, зовущий к борьбе за свободу гимн. Этот хор и был своего рода гимном Рисорджименто — движения за освобождение от иностранного гнета и объединение Италии.
Осуществляя новую постановку «Набукко», Лука Ронкони — один из самых интересных итальянских театральных режиссеров нашего времени — решил показать и ту общественно-политическую атмосферу, в которой эта опера родилась в 1842 году в миланском театре «Ла Скала», вернуть ей ее первоначальное звучание. Для этого на авансцене было установлено несколько рядов кресел, а по краям устроено нечто вроде лож, где одновременно с публикой, заполнявшей зал, рассаживались артисты, одетые в костюмы современников Верди.
Этот двойной спектакль достигал своего апогея в картине со знаменитым хором... Предутренние сумерки. Догорающий костер с сидящими вокруг него пленниками Их пение усиливается, нарастает по мере того, как на небосклоне разгорается заря. И вот восходит солнце. Его свет заливает сцену внезапно: на ней не библейская пустыня, а то, что должно было возникать в этот момент перед мысленным взором людей эпохи Рисорджименто — пейзаж Прекрасной Страны, как величали они свою Италию. И. тут «публика Верди» не выдерживала, вскакивала со своих мест. Одни с воодушевлением присоединялись к хору, другие — большей частью австрийские офицеры — с возмущением покидали спектакль, превратившийся в политическую манифестацию.
Постановка имела заслуженный успех. Она действительно воскрешала атмосферу того времени, когда в потрясавших своды театральных залов возгласах «Viva Verdil» — «Да здравствует Верди!» зашифровывался патриотический лозунг, подразумевалось, что буквы, составляющие фамилию любимого композитора, означают «Vittore Emanuele — Rp d'Itaìia» — «Виктор Эммануил — король Италии». Объединение страны под его короной было тогда ещё делом будущего.
Ключ, найденный Ронкони для Прочтения оперы Верди «Набукко», подходит и к роману Мандзони «Обрученные».
Слово «Рисорджименто» иногда переводят как «Возрождение», что не совсем точно. Правда, для этого понятия нет русского эквивалента. Оно связано с глаголом, означающим «вновь подняться», «воспрянуть».
Именно таков был на родине Алессандро Мандзони исторический процесс, с которым совпали годы его жизни. Он родился в 1785 году в Милане — главном городе Ломбардии, находившейся под австрийским господством, в то время как остальная Италия была раздроблена на несколько государств, казалось, давно погрузившихся в беспробудную спячку. Умер Мандзони в 1873 году, два года спустя после того, как взятый штурмом королевскими берсальерами папский Рим стал столицей объединенной Италии.
Сколько бурных событий пришлось на его жизнь! Вспомним некоторые из числа наиболее крупных. Походы генерала Бонапарта, изгнавшего австрийцев из Италии, и рождение республик, превращенных, однако, вскоре императором Наполеоном в королевства, находившиеся под его полным контролем. Крушение наполеоновской империи, Венский конгресс и реставрация старых порядков. Заговоры карбонариев и восстания патриотов, жестоко подавляемые, нередко с помощью иностранной интервенции. Создание Джузеппе Мадзини общества «Молодая Италия», ставившего целью завоевание независимости, единства и свободы всей страны. Революция 1848-1849 годов. Первая и вторая войны за итальянскую независимость. Освободительные походы Джузеппе Гарибальди. Дипломатические маневры Камилло Кавура. Наконец, шаг за шагом, объединение страны под эгидой Пьемонта во главе с Виктором Эммануилом II...
Некоторым из этих событий предшествовали, другим — сопутствовали ошибки, внутренние распри, а то и предательства, что усугубляло тяжесть потерь, вело к новым арестам, ссылкам, казням. Разгоревшиеся в ходе борьбы страсти не скоро остыли и после объединения страны. Мадзини умер, находясь у себя на родине на нелегальном положении. Гарибальди, уединившись на маленьком острове Капрера, предпочел провести остаток жизни по существу в добровольной ссылке.
Что касается биографии Алессандро Мандзони, то она небогата внешними событиями. Мандзони не участвовал в военных походах, не сражался на баррикадах и не состоял в тайных обществах. Аристократ, он придерживался в политике умеренно-либеральных взглядов, но превратил дело борющейся национальной буржуазии в свое дело. Католик, он был решительным противником объединения страны под властью пап (в этом лишь видимое противоречие, именно как католик Мандзони хотел, чтобы церковь занималась духовными, а не мирскими делами, что, однако, объективно имело прогрессивное политическое значение). Впрочем, он никогда не декларировал своих идей с трибун. И все же его мнение, мысли имели огромное влияние.
Каковы этапы его пути к этому роману?
Мандзони гордился своим дедом по матери и в молодости присоединял его фамилию к своей — маркиз Чезаре Беккариа был автором известного во всей Европе трактата в духе идей просветительства XVIII века «О преступлениях и наказаниях» (в России Екатерина II вдохновлялась им при составлении своего законодательного «Наказа»).
Отец Алессандро не был графом, как это часто пишут, но принадлежал к благородному сословию, владел крупными земельными наделами, в частности в окрестностях озера Комо, где будет развертываться действие «Обрученных». Впрочем, будущий писатель рано был лишен обстановки семейного очага. Когда Алессандро исполнилось шесть лет, его мать рассталась со своим мужем, чье отцовство, кстати, ставится под сомнение биографами писателя, и уехала в Париж со своим новым другом — единственной подлинной любовью в ее жизни, графом Карло Имбонати. В память его Мандзони сложит в 1806 году оду — одно из своих первых значительных произведений.
Но пока ему предстояло провести десять лет в религиозных колледжах, результат чего может показаться на первый взгляд неожиданным: молодой Мандзони проявлял равнодушие к вопросам религии. Получив школьное образование, он с головой окунается в светскую жизнь, усердно посещая миланские салоны, в которых знакомится с известными литераторами. В своих первых поэтических опытах Мандзони подражает Альфьери, Монти, Парини — поэтам-классицистам, чье творчество, однако, уже отмечено признаками грядущего романтизма.
В 1805 году Алессандро приезжает к матери, живущей по-прежнему в Париже. Он принят в прозванном «республиканским очагом» салоне мадам де Кондорсе — вдовы знаменитого философа. Молодой итальянец с жадностью вслушивается в политические дискуссии последних представителей французской революции и энциклопедизма XVIII века. Там же он знакомится и завязывает дружбу с литературным критиком и историком К.-Ш. Форьелем — автором труда «Данте и корни итальянского языка и литературы», своим будущим переводчиком.
В 1807 году Мандзони отправляется в Милан навестить больного отца, но уже не застает его в живых. Тогда же он познакомился с дочерью женевского банкира Энрикеттой Блондель, которая на следующий год, шестнадцатилетняя, станет его женой. Невеста из кальвинистской семьи, но это не имеет для Мандзони значения, венчание происходит по протестантскому обряду.
Вступление в брак по взаимной любви сопровождается, однако, глубоким душевным кризисом, причины которого биографы писателя так и не смогут внятно объяснить. Как бы то ни было, в итоге Мандзони становится ревностным католиком. В католицизм обращается и его жена, после чего ее родители порывают отношения с молодыми супругами. Этим шагом отмечен крутой поворот в жизни Мандзони, в формировании моральных и общественно-политических взглядов, которые найдут выражение в его дальнейшем творчестве, начиная со «Священных гимнов», писавшихся в 1812-1815 годах с добавлением к ним семь лет спустя еще одного.
В 1814 году Мандзони с матерью, женой и двумя маленькими детьми переезжают из Парижа в Милан. Там, в центре города, на улице Мороне он покупает дом, в котором останется на всю жизнь, выезжая, практически за одним исключением, лишь в загородную виллу в Брузульо, завещанную его матери Карло Имбонати.
Из литературных произведений Мандзони этого периода выделяются трагедии «Граф Карманьола» (опубликована в 1820 году) и «Адельгиз» (1822), а также оды «Март 1821 года», связанная с готовившимся пьемонтцами, хотя так и не состоявшимся освободительным походом в Ломбардию, и «Пятое мая», посвященная памяти Наполеона (обе написаны в 1821 году). Уже эти его произведения сыграли заметную роль в становлении итальянского романтизма.
Оставаясь верным своему замкнутому характеру, Мандзони, которому вскоре суждено было стать общепризнанным главой итальянской романтической школы, не принимал участия в ожесточенных журнальных баталиях против сторонников классицизма. Правда, его перу принадлежит обстоятельное «Письмо г-ну Ш. о единстве времени и места в трагедии» (1823) — ответ на критику французским литератором Шове трагедии «Граф Карманьола» — и «Письмо о романтизме», написанное в том же году, но как частный ответ маркизу Чезаре д'Адзельо и напечатанное лишь в 1846 году.
В целом в итальянском романтизме четче определялось то, что отвергалось — мифологические сюжеты, слепое подражание античным авторам, правило единства времени и действия в драматургии, — нежели то, что утверждалось. Романтизм в Италии принял «умеренные» формы. Он не породил мятущихся, «байронических» образов, не слишком углублялся в мистицизм. Присущее итальянцам чувство гармонии не позволяло впадать в крайности. Да и как могло быть иначе в стране, фундаментом культуры которой оставались искусство античности и Возрождения.
В 1821 году Мандзони начал работу над романом «Обрученные», который выходит в свет отдельными томами в 1825-1827 годах. Готовя новое его полное издание, писатель в 1827 году совершит поездку во Флоренцию, чтобы, как он говорил, «прополоскать свое белье в Арно» — очистить рукопись от ломбардских диалектизмов, приблизить язык романа к флорентийскому диалекту, лежавшему в основе итальянского литературного языка. Этому он придавал чрезвычайное значение: его произведение должно было быть прочитано и понято всеми итальянцами вне зависимости от того, где и под чьей властью они живут.
...«Уходящий к югу рукав озера Комо весь изрезан мысами и бухтами, образованными выступами и впадинами двух непрерывных горных кряжей, которые тянутся по его берегам...» Эти строки, открывающие первую главу романа Мандзони, известны итальянцам со школьной скамьи, тек же как нам строки лермонтовские: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука...» И как ни соблазнительно для читателя, но все же не обязательно побывать на Кавказе, чтобы живо представить себе обстановку, в которой развертывается действие «Героя нашего времени», так не обязательно колесить и по дорогам Ломбардии, следуя установленным на обочинах указателям, ведущим к «деревне Ренцо и Лючии», к «дому портного», к «замку дона Родриго», чтобы воочию увидеть места, населенные воображением итальянского писателя героями его романа.
Для своего произведения Мандзони избрал излюбленный романтиками жанр исторического романа, следуя в этом примеру Вальтера Скотта, которым зачитывалась в то время Европа. Описанные события происходят с ноября 1628-го по 1630 год. Место действия — Миланское герцогство, находившееся тогда под испанским владычеством, и соседняя с ним провинция Бергамо, принадлежавшая Светлейшей республике Венеции. Перейдя разделявшую их по реке Адда границу, и спасался от своих преследователей главный герой романа крестьянин-ремесленник Ренцо Трамальино.
Обрученные — это он и его невеста, крестьянская девушка Лючия Монделла. Роман — это история преодоления препятствий на пути к их соединению, которому хочет помешать живущий в той же округе феодал — сластолюбивый дон Родриго. Его слуги — брави, эти предшественники современных мафиози, настолько запугали приходского священника трусоватого дона Аббондио, что тот придумывает всяческие предлоги, только бы не венчать обрученных. Попытка обмануть его, разыграв сцену, после которой Ренцо и Лючия могли бы считать себя повенчанными, окончилась неудачей. Тем временем настойчивые преследования дона Родриго принуждают девушку искать убежища в монастыре, откуда ее, однако, похищают...
Дальнейшие злоключения обрученных развертываются на фоне исторических событий — мантуанской войны, в ходе которой ландскнехты грабили лежавшие на их пути деревни (ими была разграблена и родная деревня Ренцо и Лючии). Они же занесли в Ломбардию страшную опустошительную эпидемию чумы.
Однако в конечном счете, пройдя через эти и многие другие испытания, Ренцо и Лючия обретут друг друга. Они заживут счастливой семьей, дружно работая в собственной прядильне, что Мандзони, мечтавший о расцвете экономики будущей объединенной Италии, отметит с особым удовлетворением. Носители зла будут в романе наказаны или обращены на путь истинный. Справедливость восторжествует благодаря введенным в повествование, конечно, романтизированным, но имеющим исторические прообразы персонажам — кардиналу Федериго Борромео, монаху отцу Христофору и обращенному к добру, хотя поначалу злодею еще более страшному, чем дон Родриго, могущественному феодалу из рода Висконти, которого Мандзони выводит под именем Безымянного. И здесь он следовал примеру авторов старинных хроник, опасавшихся называть по имени иных синьоров.
Читатель «Обрученных» оценит, с каким мастерством, хотя, быть может, несколько медленно по вкусам нашего стремительного времени, развертывает автор сюжет своего романа. Что же касается ставшего уже традиционным упрека в адрес Мандзони по поводу «длиннот» — тех, действительно уводящих в сторону от магистральной линии, как бы вставных новелл, в которых рассказывается предыстория появляющихся по ходу действия персонажей, то ведь, взятые сами по себе, они читались бы с интересом не меньшим, чем, скажем, «Итальянские хроники» Стендаля. Это относится, в частности, к жизнеописанию «синьоры» — монахини из Монцы — персонажа, тоже имеющего исторический прообраз, фигуры одновременно трагической и зловещей, у которой Лючия по неведению ищет защиты.
Сравнение произведений литературы и изобразительного искусства соответствующего периода особенно наглядно выявляет черты, присущие той или иной художественной школе. Так, образам итальянской литературы классицизма, нашедшей наиболее законченное выражение в поэзии, вполне соответствуют скульптуры Кановы. Вспомним его по-своему прекрасные, но столь отвлеченно-условные в их холодной красоте «Гебу» или «Амура и Психею» в ленинградском Эрмитаже, не говоря уж об установлений во дворе миланской галереи Брера бронзовой статуе Наполеона, о которой достаточно сказать, что император французов представлен в противоположность романтикам, подчеркивавшим его длиннополую шинель и надвинутую на глаза треуголку, обнаженным в облике Марса-Миротворца.
Проза Мандзони находит себе аналогии в живописи художников-романтиков. К сожалению, итальянская романтическая живопись практически неизвестна за границами этой страны. Но здесь нам поможет наш художник — Карл Брюллов, чье первое пребывание в Италии приходится на 1823-1835 годы. Сколько общего в манере изображения, да, кажется, и в самом облике мандзониевской Лючии, когда она впервые предстает перед читателями на страницах романа, с брюлловской девушкой на картине «Итальянский полдень». Не случайно, конечно, ведшие в Италии арьергардные бои классицисты ставили в вину Мандзони «вульгарность» его персонажей, так же как наши приверженцы академизма выговаривали художнику за то, что его «модель была более приятных, нежели изящных соразмерностей».
Зато можно представить себе энтузиазм всех тех, кто после высеченных, или словно высеченных, из холодного камня фигур, искусно расставленных в похожей на театральные декорации обстановке, увидел в литературе и искусстве показавшихся им поистине живыми людей с такими естественными жестами, мимикой, а главное — выражающих их собственные чувства и переживания. Цель романтиков — пробудить интерес широкой публики к литературе и искусству, нести через них любовь к родной стране, а в произведениях на исторические сюжеты и звать на борьбу, была достигнута.
Запоминаются не только внешность и характеры людей, массовые сцены, но и описанные в романе Мандзони пейзажи Северной Италии и, пожалуй, особенно — интерьеры тех хижин и замков, монастырей и постоялых дворов, тратторий и чумных бараков, в которые вводит нас писатель. Почти всегда он находит для них точные, зримые детали. Таково кресло в кабинете доктора Крючкотвора, обтянутое коровьей кожей, прибитой гвоздиками с крупными шляпками — некоторые из них от времени вывалились, оставив неприкрепленными углы обивки. Таков мерцающий свет фитиля догорающего ночника, который, не успев придать предметам определенные очертания, являл для глаз до смерти напуганной Лючии, попавшей в замок Безымянного, лишь быструю смену каких-то призрачных образов. Подобных деталей у Мандзони множество, и они тоже соответствуют приемам современной ему романтической живописи с ее пристрастным воссозданием обстановки в картинах на исторические, как и его роман, темы.
Но читатель обратит, конечно, внимание и на те нередкие в книге эпизоды, которые напомнят ему мелодраму и, следовательно, могут показаться слабыми в художественном отношении.
Вспомним, однако, что первоначально слово «мелодрама» не имело того уничижительного смысла, который теперь в него вкладывается, и употреблялось лишь в прямом его значении – музыкальная драма. Впрочем, разве и сейчас не забываем мы ради музыки Беллини, Доницетти, того же Верди «мелодраматичность» их произведений. Между тем люди Рисорджименто ценили сюжет опер не меньше музыки. Так, одна из самых «мелодраматичных» опер Доницетти «Анна Болейн» (вторую из шести жен английского короля Генриха VIII, ложно обвиненную в супружеской неверности, отправляют на плаху, чтобы освободить трон для ее соперницы), по авторитетному свидетельству Джузеппе Мадзини, наполняла души чувством ненависти к тирании. И вполне закономерно, что прекрасный портрет певицы Джудитты Паста в написанной для нее роли Анны Болейн, созданный Карлом Брюлловым (обратимся вновь к его творчеству), прежде чем найти свое место в Театральном музее «Ла Скала», экспонировался на выставке, посвященной истории Рисорджименто.
Мелодрама пользовалась в Италии XIX века огромной популярностью. В целом же оперы (конечно, лишь малая их часть выдержала испытание временем) писались тогда там в количестве едва ли не большем, чем ныне снимается кинофильмов — одному Доницетти принадлежат семьдесят четыре оперных произведения! И, что может показаться неправдоподобным, многие из них имели аудиторию обширнее, чем литературные произведения. Оперные театры существовали во всех сколько-нибудь крупных городах страны, а их залы, иные из которых вмещали до полутора-двух тысяч слушателей, были почти всегда переполнены. В то же время продажа нескольких сот экземпляров книги оценивалась как крупный успех. После выхода первого издания «Обрученных» старшая дочь Мандзони Джулия писала одному из друзей: «Мы испытали большую радость, видя успех произведения папа; поистине он превзошел не только наши ожидания, но и все надежды; менее чем за двадцать дней было продано более шестисот экземпляров».
Стоит ли удивляться, что мелодрама — это гениальное воплощение художественных и политических взглядов итальянской буржуазии в период ее борьбы за национальную независимость, оказывала влияние на литературу, как и на другие виды искусства. Ее влияние, в том числе влияние и конкретной оперы — «Последний день Помпеи», сочинения, ныне почти забытого, но в свое время весьма популярного композитора Джованни Пачини (автора семидесяти трех опер!),— шедшей в «Да Скала» с декорациями известного театрального художника Алессандро Санквирико, сказалось не только в названии прославившей Брюллова картины.
Конечно, при всех живописных достоинствах этой картины нам приходится предпринимать некоторые усилия, чтобы представить то значение, которое имела она для современников. Об этом хорошо сказал Н. В. Гоголь: «Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века... Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление... выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою». Представим же, что вместо стихийного бедствия — извержения вулкана — речь идет о чумной эпидемии. «Выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою» — эти слова могут быть отнесены и к роману Мандзони.
Не откликаясь ли на вкусы, характер художественного восприятия итальянской публики, восторженно принявшей картину «Последний день Помпеи» (одно лишь «отступление от правды жизни» усмотрели в ней критики — отсутствие извергаемого Везувием пепла на одежде людей) и настойчиво требовавшей от русского художника нового шедевра, придал Брюллов уже откровенно «мелодраматический» характер сцене, изображенной им в картине «Смерть Инесы де Кастро»? Злодеев, подобных убийцам этой несчастной жертвы очередного тирана, мы встретим и на страницах романа Мандзони. Можно не сомневаться, что «мелодраматичность» их образов не только не снижала, но усиливала их художественное воздействие на читателей.
Об этом следовало сказать не для того, конечно, чтобы оправдывать Мандзони, в чем он не нуждается, а напротив, чтобы выявить те своего рода исторические особенности его произведения, которые ныне уже не «работают», но составляют существенную сторону его романа как литературного памятника эпохи.
Несколько в ином контексте, но в общем в том же плане нужно остановиться на образе кардинала Федериго Борромео, сыгравшего в романе важную роль в судьбах Ренцо и Лючии, и эпизоде обращения на путь истинный злодея Безымянного. В обоих этих случаях католическая риторика дает о себе знать в книге особенно сильно.
Об образе кардинала Федериго у нас обычно писали, что этот исторический персонаж идеализирован писателем, и это так. Однако одной констатации этого факта недостаточно. Воплощая в его лице не только носителя деятельного, активного начала, но и мыслителя, наделенного высокими моральными качествами, благочестием, чувством справедливости, сострадания к угнетенным и униженным, Мандзони, очевидно, соединяет подлинные или приписываемые легендой черты двух исторических персонажей. Первый — кардинал Карло Борромео, причисленный католической церковью к лику святых, вошедший в историю Миланского герцогства как законодатель, энергичный и решительный организатор, проявивший себя таковым особенно во время эпидемии чумы 1576-1577 годов. Второй — кардинал Федериго Борромео, скончавшийся год спустя после другой, описанной в романе, чумной эпидемии 1630 года, который был склонен к ученым, литературным трудам и, по меткому замечанию итальянского историка Марко Роши, являлся как бы «аристократической метафорой» своего двоюродного брата Карло. Соединить в одном персонаже два эти лица должно было быть для Мандзони тем более соблазнительно, что их синтез рождал нужную ему фигуру романтического героя, отвечавшего к тому же его собственному идеалу благородного аристократизма.
Известно, что, работая над романом, писатель штудировал многочисленные литературные источники — исторические и философские труды своих предшественников Рипамонти, Муратори, Джойа, Верри и других. Но читая описанные с таким мастерством и столь выразительно сцены чумной эпидемии, трудно отвлечься от мысли, что он использовал и находившиеся у него перед глазами «изобразительные материалы», в частности полотна художника XVII века Джованни Баттиста Креспи, прозванного Черано, — автора выставляемого раз в году в миланском кафедральном соборе цикла колоссальных по размерам картин, посвященных житию святого Карло Борромео. Отметим попутно, что ломбардская школа живописи XVI-XVII веков с ее сильной реалистической струей, отвечающей рационализму характера ломбардцев, занимает важное место в культуре этой области Италии. А ломбардской культурой роман Мандзони пропитан насквозь, что редко ускользает от читателя-итальянца, хотя часто остается незамеченным в других странах.
Что касается эпизода с внезапным «обращением» Безымянного, то с ним дело обстоит и проще и сложнее одновременно. Конечно, после писателей-реалистов второй половины XIX века, после «диалектики души» в произведениях Льва Толстого этот эпизод выглядит не то что литературно слабым, психологически неоправданным, но прямо-таки провалом, дырой в художественной ткани романа. Однако итальянские читатели относятся к этому вполне спокойно. Жители страны, в которой католицизм долго играл столь значительную роль, с детства привыкли слышать о подобных превращениях, начиная с обращения Савла до жизнеописания Франциска Ассизского. Быть может, не случайно поэтому и то, что обстоятельства обращения самого Мандзони к католицизму остаются до конца невыясненными.
Итальянские исследователи не раз сравнивали Мандзони с Толстым. Действительно, на первый взгляд их сближает как внимание к жизни простых людей, так и поиски морально-нравственных ответов на вопросы, которые ставила современная им жизнь. Однако подход двух писателей к этим вопросам существенно разнится. На это указал Антонио Грамши.
Находясь много лет в фашистских застенках, руководитель итальянских коммунистов вел записи, опубликованные значительно позже под названием «Тюремные тетради». Немалое место отводится в них итальянской литературе и, естественно, творчеству Мандзони. Так, Грамши выявляет противоречие в суждениях одного из итальянских исследователей, утверждавшего, что роман «Обрученные» полностью соответствует взглядам Толстого на роль искусства, в подтверждение чего тем приводилось два примера. С одной стороны, влияние «непосредственного и инстинктивного» мышления Платона Каратаева на жизненные взгляды Пьера Безухова. С другой — воздействие на «низших существ» таких «возвышенных умов», как отец Христофор и кардинал Борромео, «которые всегда умеют найти для них слово, которое просвещает и ведет».
В этом-то, писал Грамши, и кроется различие между находившимся под влиянием идей католической контрреформации Мандзони и Толстым с его «демократическим» пониманием Евангелия. «Для Толстого характерно именно то, что непосредственная и инстинктивная мудрость народа, высказанная даже в случайно оброненном слове, освещает и предопределяет кризис образованного человека». Разговор же несчастной Лючии со всемогущим Безымянным имеет лишь косвенное отношение к пробуждению совести и последовавшему моральному кризису этого литературного персонажа.
Тут же Грамши отмечает, что духовной жизнью у Мандзони живут только «синьоры» — отец Христофор, Борромео, Безымянный, даже дон Родриго, но не народные персонажи, для каждого из которых автор к тому же находит случай, чтобы «разыграть» его, посмеяться над ним.
Эта запись сделана в контексте более широкой занимавшей Грамши проблемы — отсутствие в итальянской литературе национального народного романа (кстати, он считал, что итальянская мелодрама «в некотором смысле является народным романом, положенным на музыку»). Таким образом, его мысль заключается в том, что созданию подлинно народного романа Мандзони помешала, в частности, идеология контрреформации. Но сколь бы суровыми ни выглядели суждения Грамши, они, конечно, не отрицают роли и значения «Обрученных» ни для итальянской литературы, ни для движения Рисорджименто. Грамши лишь определяет место, которое занимает в них этот роман.
Продолжая его мысль, можно сказать, что Мандзони был выразителем взглядов тех слоев умеренно-либеральной буржуазии, включая «светских католиков», которые в конечном счете и пришли к власти в Италии, воспользовавшись плодами движения Рисорджименто. Выразителем и даже «пророком». Читая в романе сцены голодных бунтов, уличных волнений, которые явно не импонируют автору, невольно думаешь о том, как будут «мешать» решительные военные действия Гарибальди осторожным политическим маневрам правительства Виктора Эммануила II.
Разумеется, в то время, когда освобождение и объединение страны было еще лишь целью, почти мечтой, значение «Обрученных» ставилось чрезвычайно высоко куда более широкими кругами, нежели только патриотически настроенной ломбардской аристократией. Патриотическое звучание книги не исчерпывалось аналогией, которую читатель безошибочно видел, сопоставляя испанское владычество в романе и австрийское в современной ему жизни. Уже одно слово «тиран» пробуждало в нем чувство праведного гнева. Сама ткань произведения была создана из близкой, стоящей перед глазами действительности, и страдания народа, причиненные чумой пусть и не в прямом смысле, взывали к уму и сердцу читателя, ненавидевшего гнет чужестранцев.
Национальной гордости итальянцев не могло не льстить и то, что произведение их писателя вызвало высокую оценку выдающихся деятелей культуры за рубежом, начиная с Гёте. В России роман был впервые издан уже в 1833 году. Еще раньше его прочел, очевидно во французском переводе, пушкинский Онегин.
И Мандзони был при жизни провозглашен в Италии Великим. Не великим писателем, а просто — Великим, с большой буквы.
О том, какое впечатление производил он на современников, свидетельствует письмо В. А. Жуковского поэту-слепцу И. И. Козлову о встрече с Мандзони: «Я просидел у него часа два, и, конечно, эти два часа принадлежали к прекрасным часам моей жизни: я насладился живым чувством симпатии, симпатии к чему-то высокому, что приносит в душу какой-то светлый порядок и производит в ней на минуту совершенную гармонию, которая есть ее истинное назначение... Что мы говорили, вообще помню, но передать письму не умею. Знаю только то, что эти немногие минуты были для меня счастливы, как в старину подобные минуты с Карамзиным, при котором душа всегда согревалась и яснее понимала, на что она на свете».
[…]
...До недавнего времени считалось общепризнанным, что «рукопись анонима», на которую Мандзони ссылается как на первооснову своего сочинения, — не более чем литературный прием. Но вот в 1960 году профессор Туринского университета Джованни Джетто опубликовал в журнале «Леттере италиане» статью «Отголоски романа эпохи барокко в «Обрученных». В ней говорилось об обнаруженной в Национальной библиотеке Турина объемистой, насчитывающей 439 страниц убористого текста книге «История Пропащего кавалера», вышедшей из-под пера ныне забытого писателя Паче Пазини (1583-1644) и изданной в год смерти автора в Венеции.
В этой книге описываются злоключения некоей Лючианы, которую любит Друзо, но которая, будучи похищена могущественным синьором Страппакуори (Сердцеедом), заключена в зловещий и таинственный замок, охраняемый брави. Однако Лючиане, вверенной попечительству Аньезе (в «Обрученных» это имя матери Лючии), удается ускользнуть из рук своих похитителей... Подробно описана в книге и эпидемия чумы, современником которой был автор.
Итак, сходство не только сюжетов, но и имен действующих лиц, совпадение ряда деталей с «Обрученными». Похоже, что «рукописью анонима» мог служить для Мандзони роман Пазини. Эта находка вызвала было в итальянской прессе сенсацию. Как же теперь относиться к роману Мандзони? Насколько он оригинален? Однако сенсация быстро развеялась. Очевидно, что книга, которая могла послужить ему литературным источником, ни в малейшей степени не выдерживает сравнения с «Обрученными» ни по литературным достоинствам, ни по общественной значимости.
После «Обрученных» художественное творчество Мандзони фактически прекратилось. Из написанного им в последующие годы назовем «Историю позорного столба» — повесть на морально-нравственную тему. Положив в основу ее один из подлинных случаев осуждения невинных людей за якобы умышленно распространявшуюся ими чуму, Мандзони продолжал борьбу с невежеством и изуверством. Эта повесть была опубликована в качестве приложения к изданию романа 1840 года.
Писатель вел замкнутый образ жизни, встречался в основном только с друзьями — приятный собеседник в узком кругу, он в многолюдном обществе заикался больше обычного. В зрелом возрасте обострилось нервное заболевание, ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Часто его охватывало чувство беспокойства, и тогда он испытывал потребность двигаться, ходить, но, страдая агорафобией — боязнью открытого пространства, не мог выходить без сопровождающего.
В 1833 году умерла его обожаемая жена Энрикетта, родившая ему девять детей; лишь двое из них пережили его. В 1841 году умерла, не менее обожаемая, жившая с ним мать. Между двумя этими потерями он, по совету друга и последователя — писателя Томазо Гросси, женился вторично. И этот брак, продолжавшийся двадцать четыре года, до смерти в 1861 году его второй жены — Терезы Борри, в первом замужестве Стампа, был счастливым.
В 1850 году Мандзони был назначен сенатором. В 1872-м получил звание почетного гражданина Рима — столицы объединенной Италии.
4 января 1873 года, выходя из церкви Сан Феличе, Мандзони упал на лестнице и сильно ударился головой о ступени. Поначалу казалось, что все обойдется благополучно, но вскоре он потерял сознание. Приходя в себя, пробовал шутить: «Это заслуженная кара за то, что я так злоупотреблял своей бедной головой». У него появилась мания бросать в огонь все, что окажется под рукой, — едва спасли от сожжения рукопись «Обрученных».
22 мая Алессандро Мандзони скончался у себя дома, на улице Мороне, в возрасте восьмидесяти восьми лет.
Другой великий художник Рисорджименто Джузеппе Верди, не терпевший официальных церемоний, не принимал участия в похоронах Мандзони. Живя в своем поместье Сант Агата, он писал: «Я не присутствовал, но мало кто был более опечален и взволнован в то утро, чем я, хотя и находился далеко. Теперь все кончено! С ним исчезла самая благородная, самая высокая наша слава. Я читал многие газеты. Ни одна не говорит о нем как бы следовало. Много слов, но не прочувствованных глубоко. Однако нет недостатка в укусах. Не пощадили даже Его. Какой же мы отвратительный народ!»
Под «укусами» Верди имел в виду отзывы церковных газет. «Оссерваторе каттолико» воздавала двусмысленную почесть усопшему — человеку «доброму, даже благочестивому, и в своих заблуждениях скорее ошибавшемуся, чем виновному». Клерикальные круги не прощали писателю-католику даже после смерти его позиции в осужденной папой Пием IX «пагубнейшей итальянской революции», как характеризовали в этих кругах Рисорджименто.
3 июня Верди предложил коммуне Милана написать «Реквием», чтобы исполнить его в первую годовщину смерти Мандзони. Предложение было принято, хотя и не без возражений — один из коммунальных советников протестовал против участия гражданской администрации в религиозной церемонии. Год спустя эти опасения оказались развеяны. После торжественного исполнения «Реквиема» в церкви Сан Марко та же газета «Оссерваторе каттолико» с раздражением писала: «Мы поговорим об этой музыке, когда она будет исполнена в театре, где ее место; она не несет на себе никакого отпечатка святости, не выражает ничего религиозного...»
Верди, как и Гарибальди, виделся с Мандзони лишь однажды. И тот, и другой нанесли визиты уже престарелому писателю. Визит Верди организовали две женщины. Джузеппина Стрепони — в прошлом известная певица, его супруга, друг, страж, даже громоотвод, о который разряжался нелегкий характер гения. И Клара Маффеи — графиня, хозяйка знаменитого миланского литературно-музыкального или, что в то время было равнозначно, общественно-политического салона, игравшего заметную роль в истории Рисорджименто. При этом Джузеппина, очевидно, надеялась, что знакомство с писателем-католиком окажет «благотворное влияние» на откровенно безбожного композитора. В этом отношении ее расчет не оправдался. Она писала: «Есть люди добродетельнейшие, испытывающие необходимость верить в бога; и другие, столь же совершенные, которые счастливы, не веря ни во что и лишь точно следуя предписаниям строгой морали. Мандзони и Верди!.. Два этих человека заставляют меня задумываться, они для меня поистине предмет для размышлений. Но мое несовершенство и невежество делают меня неспособной распутать эту темную проблему».
В действительности, не сознавая того, она, по крайней мере частично, уже ее решила. Именно «строгая мораль», которой оба придерживались, сближала католика Мандзони и. атеиста «манджапрети» — «пожирателя попов», как говорят итальянцы, Верди. Сближала и общность политических взглядов, приведших аристократа по происхождению и духу Мандзони и выходца из народа Верди в один и тот же стан боровшейся за освобождение и объединение страны буржуазии. Не случайно, справедливо отмечает итальянский музыковед Рубенс Тедески, есть общее и в их творчестве. Оба, каждый в своей области, стремились говорить на доходчивом и понятном для всех итальянцев языке. Перекликаются темы, персонажи их произведений, будь то носители неправедной власти или жертвы ее произвола.
Можно добавить много других причин, побудивших Верди взяться за «Реквием». Уже несколько лет иные крикуны противопоставляли «ученую музыку» ненавистных ему «вагнеристов» его почерпнутым в народе мелодиям, и он, считая, что пережил свое время, решил оставить оперное творчество. Но не менее глубокое разочарование испытывал он и по поводу того, во что вылилась героическая эпопея Рисорджименто, так и не принесшая народу того благоденствия и счастья, о котором горячо мечтало его поколение.
Словом, личное слилось с общественным, и Верди создает произведение, которое нередко сравнивают с фреской другого «пессимиста» — его соотечественника — «Страшный суд» Микеланджело. «Реквием» посвящен памяти Мандзони, но это и реквием по целой эпохе, по всем ее героям, по их несбывшимся идеалам. Верди использует мотивы своих опер, столь тесно связанных с духом Рисорджименто, но одновременно приходит и к музыкальным открытиям, перебрасывающим мост из прошлого в будущее, в которое он, после длительного молчания, войдет со своими новаторскими «Отелло» и «Фальстафом».
«Реквием» — лучшее из всего, что было сказано языком искусства о Мандзони и об эпохе Рисорджименто.
...В 1901 году умер Верди. Проводить его в последний путь на улицы Милана вышли тысячи людей. Согласно завещанию покойного, похороны совершались без речей и оркестра. Все шли молча, соблюдая глубокую тишину. Вдруг кто-то запел: «Va, pensiero, sull'ali dorate...» — «Лети, мысль, на крыльях златых...» И многотысячная толпа, словно только и ждала этого сигнала, подхватила мелодию.
Дух несбывшихся идеалов Рисорджименто и сейчас жив в Италии — в ее народе, разумеется. Роман Алессандро Мандзони «Обрученные» остается одной из великих книг итальянской литературы.
Л-ра: Иностранная литература. – 1984. – № 5. – С. 175-182.
Критика