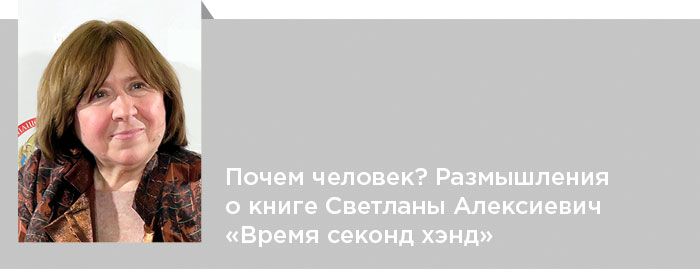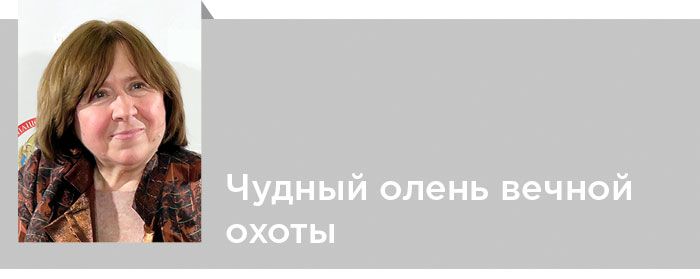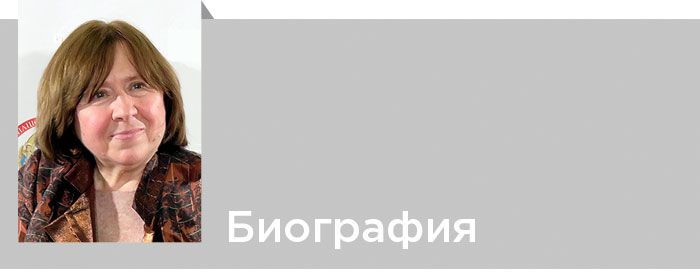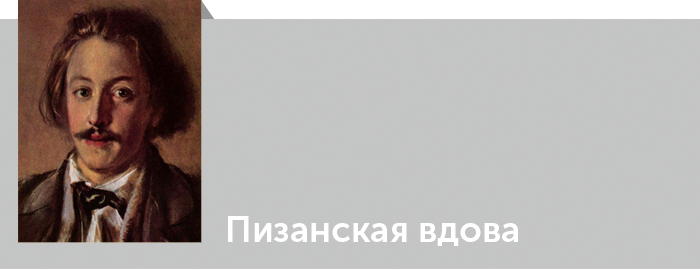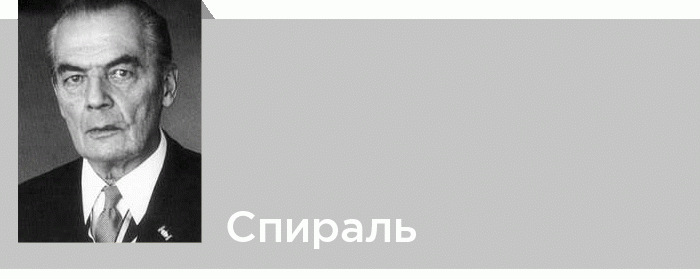«Документ должен жить по законам искусства» (история «Домашнего» социализма в книге Светланы Алексиевич «Время second-hand»)
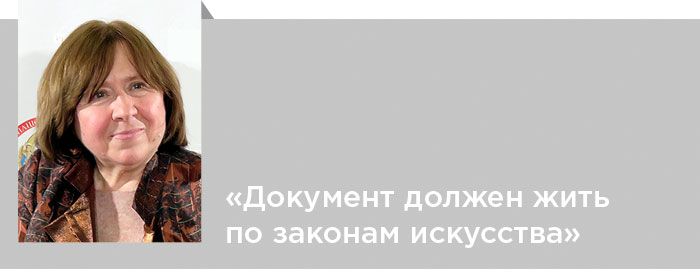
УДК 82/821
В.Н.Крылов
Статья посвящена анализу книги С.Алексиевич «Время секонд хэнд». Это заключительная часть цикла «Голоса утопии», в котором знаменитая белорусская писательница прощается с советским временем и пытается «честно выслушать всех участников социалистической драмы». Анализ ведется в контексте ее уникального документально-художественного метода, основанного на творчески сконцентрированных беседах с реальными людьми. Делается попытка показать, как создается эффект преображения документальных свидетельств в эстетический феномен.
Ключевые слова: документ, факт, искусство, С.Алексиевич.
V.N.Krylov
«THE DOCUMENT MUST LIVE IN HARMONY WITH THE LAWS OF ART» (THE HISTORY OF «DOMESTIC» SOCIALISM IN «SECOND HAND TIME » BY SVETLANA ALEKSIEVICH)
The article analyzes the book of S.Aleksievich Second- hand Time. This is the final part of Voices of Utopia series, in which the famous Belarusian writer says goodbye to the Soviet era and tries to “listen honestly to all participants of the socialist drama”. The analysis is conducted in the context of the writer’s unique fiction-nonfiction method based on creatively concentrated conversations with real people. An attempt is made to show how the effect of transforming documentary evidence into an aesthetic phenomenon is created.
Key words: document, fact, art, S.Aleksievich.
Одна из ведущих тенденций современной русской литературы – усиление документальной составляющей в составе художественных текстов. Известен общий интерес современных ученых к художественно-документальным жанрам. Об этом свидетельствует проведение крупных научных конференций: «Дневники русских писателей: литературный и исторический контекст» (Варшава, 2005), «Синтез документального и художественного в литературе и искусстве» (Казань, 2006, 2008, 2010, 2012), «Литература и документ: теоретическое осмысление темы» (Москва, ИМЛИ РАН, 2008). Если названную тенденцию рассматривать в контексте литературного развития XX века, то следует подчеркнуть, что она вызревала постепенно.
Во-первых, значимы поиски писателей серебряного века. Интенсивность общественной жизни начала XX века (особенно после 1905 г.) приводит к тому, что литература вымысла уходит на второй план, возрастает роль «текстов жизни», они оказываются нередко важнее вымысла.[1] Во-вторых, влияние событий первой и второй мировых войн (так, С.Алексиевич признает особое влияние на собственный опыт «Блокадной книги» Л.Я.Гинзбург). «Реальность XX века оказалась такова, что сказать правду о ней стало сверхзадачей писателя, решить ее только привычными художественными средствами дано на поверку немногим, большинству же на помощь приходит именно документ» [3: 138].
Знаменитая белорусская писательница Светлана Алексиевич, создатель уникального метода, основанного на творчески сконцентрированных беседах с реальными людьми, книгой «Время секонд хэнд» завершила пятикнижный цикл «Голоса утопии», в котором прощается с советским временем и пытается «честно выслушать всех участников социалистической драмы» [4: 7]. С сокращенным вариантом книги российский читатель познакомился в журнале «Дружба народов» в рубрике «Проза. Doc» («Время secondhand. Конец красного человека», 2013, №№ 8, 9), а в конце 2013 года издательство «Время» выпустило полное издание книги в Собрании произведений С.Алексиевич.
Отторжение от литературы вымысла (fiction) – принципиальная позиция С.Алексиевич. Объясняя интерес искусства к факту, С.Алексиевич на «Круглом столе» «Мемуары на сломе эпох», организованном журналом «Вопросы литературы», отмечала: «В современной культуре документу время от времени указывают на его место где-то во втором или третьем эшелоне литературы. На облучке. Но сегодняшняя картина мира и человеческой души не под силу прежним законам искусства, слишком она многовариантна, человек протестует против того, чтобы исчезнуть бесследно, «восстание масс», каждый ощущает право творить свою жизнь. Без документов и свидетельств за этим не уследить, картина останется неполной. Документ входит в искусство на новых правах» [5: 41]. Раскрывая некоторые черты своего творческого метода, С.Алексиевич высказывает и ряд интересных идей и по поводу специфики документа в художественном пространстве. Для нее «путь души важнее самого события», поэтому не на первом месте – «как это было», а – что человек пережил, понял о самом себе». «Мой факт – не событие, а чувство; а сюжет – жизнь. Я пишу историю чувств в надежде, что человек всегда хочет прочитать о другом человеке, а не о войне или Чернобыле» [5: 38]. Эта авторская установка дана в своеобразном авторском вступлении к книге: «Историю интересуют только факты, а эмоции остаются за бортом. Их не принято впускать в историю. Я же смотрю на мир глазами гуманитария, а не историка. Удивлена человеком…» [4:11] (вспоминается толстовские слова о принципиальной разнице между взглядом на историю художника и историка, о праве писателя на художественную правду, выраженные в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»). Если не искать в потоке времени человека вообще («вечного человека», по ее словам), а ограничиться только человеком войны, человеком эпохи Сталина, хрущевской оттепели или горбачевской перестройки, тогда поиск документальных свидетельств имеет результатом только журналистику, а не литературу как вид искусства. Подобная сверхзадача превращает книги С.Алексиевич не в собрание «сырых» документов, а в книгу, имеющую внутреннее единство, объединенную авторской мыслью.
Самым сложным для автора оказывается труд осмысления, как добиться того, чтобы документ жил по законам искусства («мне нужен факт, работающий как знак») [5: 39]. В интервью «Российской газете» она так говорила о замысле книги: «...Хочу понять новое время, выслушать людей. В книге будет десять историй из той жизни, которая называлась социализмом. И десять новых историй из нашей жизни сейчас, которая еще никак не называется. Я дополню их разговорами на кухне и современным уличным шумом: о чем говорили, вспоминали, мечтали 20 лет назад и сейчас» [6].
Перед читателем проходит множество монологов-исповедей преимущественно самых обычных людей. И в этом писательница продолжает традицию русской классической литературы как «копилки, коллекции страданий маленького человека» [5: 40]. Но обращение к человеку простому продиктовано и принципиальной позицией: «только свои тексты обычно говорят простые люди», а люди культуры, интеллигенты, чаще говорят текст с чужого голоса» [5: 39]. Только голос простого человека может донести реплику деда по поводу путча в Москве: «Ты копай глубже и не слушай, что они там болтают. Наше спасение в земле – уродит картошка или не уродит» [4: 143]. Пожалуй, единственное исключение в книге – история маршала Ахромеева. Однако и она подается через воспоминания других лиц (из интервью неназванной героини на Красной площади в декабре 1991 года, инженера, «патриота», коммуниста), даются отрывки из материалов следствия, из последних записей, где звучит «голос» самого маршала в телепрограмме «Взгляд», в интервью, в письме к Горбачеву, в записной книжке за август 1991 года. Каждый из монологов характеризует и человека, и его восприятие исторического события. Образ Ахромеева дается и в преломлении информированного свидетеля («редкого свидетеля» как некое исключение из правила – из аппарата Кремля). А замыкается композиционное «кольцо» снова отрывками из интервью (но уже 1997 г.) – конструктора, бизнесмена, кондитера, офицера, студента. Такое построение позволяет ввести в повествование фактор времени. «В девяностые …да, мы были счастливыми, к той нашей наивности уже не вернуться. Нам казалось, что выбор сделан, коммунизм безнадежно проиграл. А все только начиналось…»[4: 14]. В интервью 1997 г. конструктор, защищавший Ельцина у Белого дома, говорит: «Россия …Об нее вытерли ноги. Каждый может дать ей по морде. Превратили в западную свалку поношенного тряпья, просроченных лекарств. Хлама! (Мат). Сырьевой придаток, газовый краник…Советская власть? Она была не идеальная, но она была лучше того, что сейчас. Достойнее» [4: 139].
Основную структурообразующую функцию в книге выполняет образ автора-повествователя. В художественно-документальных жанрах «повествователь в произведении постоянно «обнажает прием» – т.е. указывает на источник и меру достоверности фактов и свидетельств о былом», но «свойства открытости образа повествователя обращены не вглубь текста», образуя «как бы замкнутый защитный образный пласт документального произведения, определяют жанровые характеристики и в целом выделяют документальные структуры как особо организованные» [7: 174]. Особая роль повествователя в документальной литературе определяют две тенденции: стремление к «сувереннности» и подчинение диктату действительности [7: 178].
Все роли, в которых находится Алексиевич как реальное частное лицо в беседах со своими героями (писатель, журналист, актер, социолог, психоаналитик), как бы отсекаются, и автор (повествователь) выступает уже только как «сосед по времени» (по трифоновскому выражению). Автор максимально скрывает свое присутствие в книге, он один из многих, «соучастник»: «У коммунизма был безумный план – переделать «старого» человека, ветхого Адама. И это получилось… может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homosoveticus. <…> Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители. Несколько лет я ездила по всему бывшему Советскому Союзу, потому что homo soveticus – это не только русские, но и белорусы, туркмены, украинцы, казахи … Теперь мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не перепутаешь. Узнаешь сразу! Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей – у нас свой словарь, свои представления о добре и зле, о героях и мучениках. У нас особые отношения со смертью» [4:7]. Только временами автор обнаруживает себя, когда к нему обращается собеседник, как, например, герой говорит: «Только советский человек может понять советского человека» [4:137] или она признается, что «Ленина не читала»» [4:128].
Как верно отмечала рецензент книги Татьяна Морозова, «Время секонд хэнд» – это не модный сегодня вербатим, где автор сознательно самоустраняется, давая возможность проявиться индивидуальному или коллективному бессознательному. Алексиевич заявляет о себе и как собеседник, наводящий вопросами на нужный разговор, и как автор, в чьем сознании эти разрозненные рассказы не просто превращаются в свидетельство о времени, но становятся исследованием характера, сознания и нашего современника, и человека вообще – так мощны и серьезны те нравственные, психологические, философскорелигиозные пласты, которые открываются перед читателем. Казалось бы, люди просто рассказывают о том, что запомнили из детства, какими были праздники, как пережили войну или заключение, как влюблялись, на что надеялись и чем оказалась жизнь на самом деле, а складываются эпические картины, погрузившись в которые перестаешь задавать вопросы, почему у нас все так и может ли быть иначе» [8].
Стараясь занять позицию «хладнокровного историка, а не историка с зажженным факелом», С.Алексиевич обнаруживает свою волю во всей конструкции книги – и во внешней архитектонике, и во внутренних композиционных со/противопоставлениях. Можно выделить в книге несколько инвариантных тем, проходящих через все повествование и служащих основой связанности текста книги – его (как принято говорить в теории филологического анализа текста) – когезии и когерентности. Это – темы отношения к социализму, к коммунистической идее, тема желанной (ожидаемой) свободы, самоубийства тех, кто прирос к идее, культ слова, литературы в советскую эпоху – и разочарования в нем.
Так называемая композиционная «рама» книги включает в себя введение от автора «Записки соучастника», задающее вектор восприятия истории «домашнего» социализма и основное повествование, разделенное на две части: «Утешение Апокалипсисом» и «Обаяние пустоты». В свою очередь, каждая из частей предваряется своеобразным своим введением, составленным из безымянного хора голосов «Из уличного шума и разговоров на кухне», а вслед за ними идут десять личных историй (название каждой начинается с предлога «о»), а завершается книга «Примечанием обывателя». И, разумеется, яркая примета внешнего оформления книги – ее метафорическое название. Это потому, как объясняла писательница, что «все пользуются тем, что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом» [4: 503]. Отдельного исследования заслуживает изучение того, как вошли в книгу несколько значительно переработанных историй из книги «Зачарованные смертью». Переработка затронула и содержание, и названия исповедей (например, в «Зачарованных смертью» «История с мальчиком, который писал стихи через 100 лет после четвертого сна Веры Павловны» превращена в историю «О милостыне воспоминаний и похоти смысла»).
Весьма перспективным был бы анализ книги с точки зрения такой проблемы, волнующей сегодня историков, специалистов по исторической психологии и социологии истории, как понимание истории с точки зрения личного опыта, того, что есть качественно различные психологические позиции субъекта по отношению к историческому событию: участника, свидетеля, современника, наследника. » [9].
Внутренне книга выстроена как народная хроника внутреннего опыта, повседневной жизни от 1991 до 2012 года. Включая в книгу истории самых разных людей, в чем-то похожих друг на друга, но в то же время проживших и проживающих свою неповторимую жизнь, автор создает образ времени, в котором «красный человек» жив и теперь.
Литература
1. Крылов В.Н. «Усталость» от вымысла, или о синтезе художественного и документального в литературе серебряного века // Филология и культура. Philology and Culture. – 2012. – № 4 (30). – C. 22 – 25.
2. Корниенко С.Ю. Марина Цветаева «Живое о живом»: fiction и non- fiction // Филология и культура. Philology and Culture. – 2012. – № 4 (30). – C.116 – 120.
3. Местергази Е.Г. Документальное начало в литературе // Теоретико-литературные итоги XX века. – Т.1. – М.: Наука, 2003. – С. 134 – 160.
4. Алексиевич С. Время секонд хэнд. – М.: Время, 2013. – 512 с.
5. Алексиевич С. В поисках вечного человека // Вопросы литературы. – 2000. – №1. – С. 37 – 43.
6. Юферова Я. Мы устали жить без любви. Интервью со С.Алексиевич.
7. Явчуновский Я.И. Документальные жанры: образ, жанр, структура произведения. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1974. – 232 с.
8. Морозова Т. Люди беды и страданий // Знамя. – 2014. – №4.
9. Нуркова В.В. История как личный опыт // Историческая психология и социология истории. – 2009. – № 1. – С. 5 – 27.
Крылов Вячеслав Николаевич – доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы и методики преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.
420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18.
Krylov Vyacheslav Nikolaevich – Doctor of Philology, Professor, Department of Russian Language and Instruction, Institute of Philology and Intercultural Communication, Kazan (Volga Region) Federal University.
18 Kremlyovskaya Str., Kazan, 420008, Russia
Поступила в редакцию 10.06.2014
[1] См. об этой тенденции [1,2].