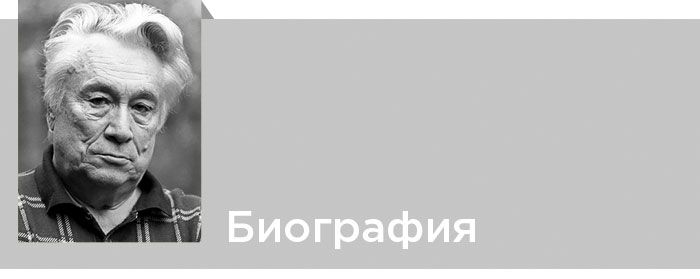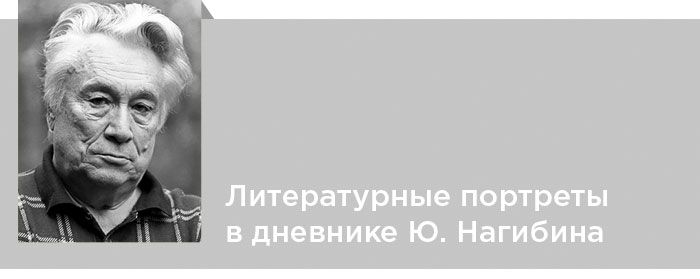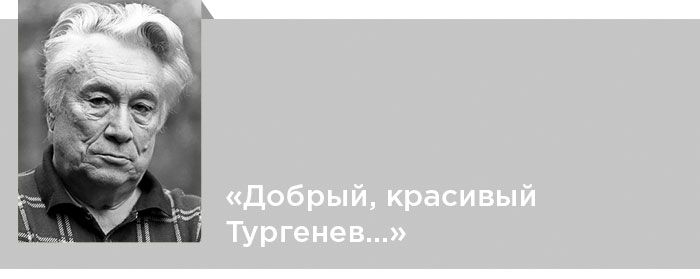Юрий Нагибин. Человек и дорога
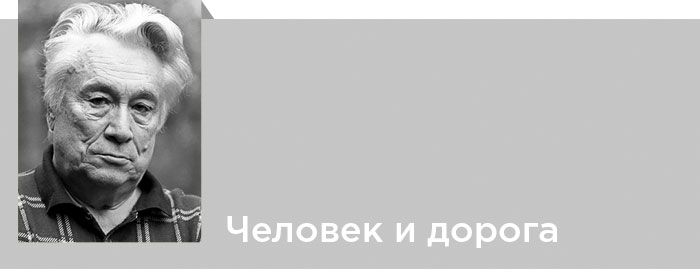
Могучие рустированные шины жуют дорогу. Пятитонный грузовик с высоченным контейнером в кузове оставляет за собой на заснеженном грейдере не след, а какую-то коричневую кашу. Можно подумать, он старается, чтобы уж никто другой не повторил за ним этот путь. На прямой он злобно расшвыривает комья снега и гравий, проминая настил до мягкой глинистой основы; на подъемах с ревом отваливает от дороги целые куски — жирные комья глины оползают в кювет; на спусках, свистя и шипя пневматическими тормозами, напрочь сдирает с дороги шкуру. Он то быстро катится вперед, то еле ползет, рыча мотором, то бессильно скользит под уклон, и каждая перемена в его движении отражается на многострадальном теле дороги. Но грузовику нет до этого дела. Рачьи глаза его фар устремлены в даль, подернутую ранним ноябрьским сумраком. Всему чужой, посторонний, движется он вперед: чужой лесу, чужой полю, чужой деревенькам с придавленными снегом крышами, чужой замерзшей реке и старой водяной мельнице в стеклянной бороде сосулек. Он полон своей далекой целью, своим ревом, воем и скрежетом, своей душной, горькой вонью, даже воздух у него свой — он движется в голубоватом плотном облачке.
И до него никому нет дела: ни лесу, ни полю, ни деревне, ни реке, ни мельнице. Разве метнется иной раз под колеса захлебнувшийся лаем пес или погонится, пытаясь ухватиться за крыло, мальчишка на одном коньке да, заслышав издали надсадный гуд, не оборачиваясь, свернет к обочине розвальни колхозный возчик. Встречных и попутных машин нет — поздно, и день субботний, — не с кем грузовику перемигнуться фарами, обменяться хриплым сигналом.
Вечереет быстро. В избах зажигаются огни, на деревенских улицах — редкие фонари, в небе — луна, и рядом с грузовиком возникает огромная уродливая угольно-черная тень. Тень стелется по снегу, карабкается на деревья, скользит по стенам изб, она то обгоняет грузовик, то идет колесо в колесо, то отстает от него.
Но огромный, могучий, яростный в своей борьбе с дорогой грузовик — всего только мертвая жестянка. Чужая воля, чужая одушевленность наделяют его этой шумной горячей жизнью, этим упорством и неутомимостью. В кабине, держа ноги в стоптанных кирзовых сапогах на педалях, а руки на крестовине руля, вглядываясь красными воспаленными глазами в даль, сидит худощавый паренек лет двадцати четырех, с широкой плоской грудью и налипшими на измазанный автолом лоб темными колечками волос. Его армейская ушанка без звездочки сдвинута на затылок, ватник распахнут. В кабине тепло от мотора, ватные штаны немного сползли, обнажив меж поясом и рубашкой полоску смуглого юношеского тела.
Водитель первого класса Бычков смертельно устал, он работает вторую смену подряд, без сна и отдыха, проделал он на этом грузовике почти тысячу километров по скверным, разбитым дорогам с тяжелыми, неудобными грузами. Больше всего устает у него спина, потому что каждый груз чувствует он спиной, будто несет его на себе. Подъем — и его тянет за шею и лопатки назад; спуск — и будто целый дом навалился, становится нечем дышать; притормозил — и словно кто-то злобный уперся в поясницу коленом. Но от этого груза у него болела и спина, и ребра, и вся грудная клетка. В контейнере заключен трансформатор, срочно нужный на самом дальнем и отсталом четвертом участке. Это груз с боковой неустойчивостью — он не только на повороте, но и при каждом движении руля кренит машину набок, грозя опрокинуть в кювет; и Бычков невольно выламывает тело в другую сторону, так что трещат ребра и хрускают, смещаясь, позвонки.
Черт бы побрал и трансформатор, и четвертый участок, где всегда аврал, всегда чего-то недостает и все требуется в край, в обрез. Черт бы побрал начальника автоколонны Косачева, сунувшего ему эту ездку. И черт бы побрал его самого, согласившегося ехать, когда ехать должен был вовсе не он, а Панютин. С обидой и желчью Бычков в который раз вспоминал, как окрутил его Косачев. Утром этого дня немолодой, лет под сорок, шофер Панютин забрал из роддома жену, принесшую ему двойню. Очумев от своего позднего отцовства, он кое-как проволынил полсмены, а затем отпросился домой. Едва он ушел — потребовалось везти на четверку трансформатор. Косачев сразу к Бычкову: выручай! Конечно, он наотрез отказался, какое дело ему до Панютина с его двойняшками? Раз должен работать, так работай, а он свое отышачил и сейчас пойдет пиво трескать. Но Косачев ушлый, всегда знает, чем взять человека: «Я, конечно, могу заставить его, да на этих женатиков надежда плоха. Дорога опасная, ночная, груз трудный, а у него близнята на уме. Ладно еще, коль просто застрянет, а ну-ка гробанет трансформатор?.. Нет, тут нужен человек свободный, а который в детских писках, тому доверить нельзя!» Знает начальник колонны, что недолюбливает Бычков людей женатых, устроенных, — на том и поймал. Захотелось Бычкову доказать, что Панютин, хоть и муж, и отец, и глава семьи, а он, Бычков, бобыль, ни кола ни двора, а все больше Панютина стоит, — вот и расплачивайся боками! А главное, теперь-то уж ясно, что Косачев Панютина освободил от этой проклятой поездки только из уважения к его отцовству. Да еще потому, может, что берег его: дорога-то и верно дрянь, особенно на подъеме у четвертого участка, а тут еще груз такой! Одно дело — гробанется Панютин, глава семьи; другое — он, Бычков, одиночка. Спишут в расход — и все. И оттого еще горше и злей становится на душе, и мысль привычно сворачивает к тому, что исковеркало его жизнь. Правда, она всегда при нем, эта мысль не покидает его ни в дороге, ни во хмелю, даже ночью, когда он спит, является она к нему снами. Но, бывает, она спокойной, привычной тяжестью дремлет на дне души, а то вдруг с непереносимой силой терзает сердце и мозг.
Алексей и сам не мог бы сказать, когда полюбил он Тосю. Когда полюбил он мать? Всегда любил, как только почувствовал в себе сердце. Всегда они были вместе, с детских лет, — на улице, на реке, на вырубке, полной сладкой, пахучей земляники, на школьных переменках. А если и оказывались врозь, то тут же начинали искать друг друга. Жених и невеста — так звали их все на деревне. Прошли годы, Алексей и Тося уже не в смех, а взаправду стали женихом и невестой. И, уходя в армию на действительную, он не просил Тосю помнить и ждать. Он просто поцеловал ее в полные прохладные губы, поглядел в глаза, пожал руку и уехал, самый спокойный из всех, кому доводилось разлучаться.
Все четыре года, что Алексей прослужил в армии, он исправно получал от Тоси письма и фотокарточки.
Ее лицо с годами мало менялось, оно становилось лишь еще круглее, чище и глаже, еще прямее и открытее глядели светлые, спокойные глаза. И он сам не мог бы сказать, почему к исходу третьего года разлуки овладела им жгучая тоска. Тщетно искал он отгадку в Тосиных карточках и письмах. Все тем же невозмутимым спокойствием дышало округлившееся лицо, все та же прямизна взгляда, и письма были все так же немногословны, просты и полны поклонов от родственников, друзей и знакомых. Движимый каким-то смутным чувством, он тоже сфотографировался и на оборотной стороне карточки написал слышанные где-то стихи:
Если нас разлучила судьба,
Пусть на память тебе остается
Неподвижная личность моя.
В ответ пришло обычное, спокойное и короткое письмо, и Бычков не знал, радоваться ему или печалиться, что Тося никак не откликнулась на его тревожный призыв.
Он отслужил действительную и в новенькой, с иголочки форме с погонами сержанта, значком отличника-танкиста на груди, в хромовых, собранных гармошкой сапогах, в фуражке с черным околышем, косо сидящей на вьющихся волосах, в белом целлулоидном подворотничке — сверкающий, как новый гривенник, вернулся в родную деревню. И тут узнал, что Тося год назад вышла замуж за районного агронома. Мать уговорила бывшую невесту сына скрыть от него правду, по-прежнему писать ему письма и слать карточки, будто ничего не случилось. «Иначе быть беде, — сказала ей старуха, — армейская служба строгая, а Алексей беспременно что-нибудь такое сделает, что погубит свою головушку». Бычкова и по сию пору дивила необыкновенная прозорливость матери: как угадала она в нем, тихом, скромном, немудрящем пареньке, тайную залежь разрушительных сил? Может, в слепой его преданности раз избранной подруге проглянулся ей залог скрытой в нем бури?
Что-то сломалось в Алексее. Он стал выпивать и, пьяный, пошел однажды бить агронома. Но, увидев немолодого, узкотелого человека в очках на длинном, тонком носу, с худыми, всосанными щеками, не нашел на нем места, куда б сладко было влепить кулак. Встретилась ему как-то Тося — она жила теперь в соседней деревне, — мелькнуло: «Задавлю!» — и опять впустую потратился запал. Под скрещенными на груди, по локоть голыми, сильными и нежными Тосиными руками увидел он маленький округлившийся живот — быть ей скоро матерью. Она тоже поглядела на него, смугло-бледного, кудрявого, с темными, блестящими, яркими от боли глазами, и сказала не то удивленно, не то о чем-то жалея:
— Вон ты какой стал!.. — и тихо прошла мимо.
Не смог он ужиться в деревне, да и не хотел губить себя на глазах матери. С год скитался он по стране. В Крыму возил курортников по извилистым горным дорогам в маленьком дребезжащем автобусе, — да не по сердцу пришлись веселые, счастливые, беззаботные люди; побывал на Волжской стройке, где глушил себя работой и водкой, там ему понравилось больше, — да попал туда поздно, кончилась стройка; заносило его и на Алтай, на целину, и даже на Дальний Восток. Где только он ни скитался, а от себя не ушел. С полгода назад попал он сюда, в суровый Ладожский край, на строительство высоковольтной линии, — и приглянулся ему угрюмый покой здешних мест, темные еловые леса, пустынные, одинокие дороги, особняком стоящие мачтовые сосны, уныло гудящие кронами, прохладная сдержанность старожилов и непритязательная простота товарищей по работе.
Он уже ничем не походил теперь на того скромного, опрятного парня, каким вернулся из армии. Хоть нелегко разрушалось то, что закладывалось годами, но недаром говорят: капля камень точит. А он был не каменный, и не капля его точила. Научился Алексей часами торчать в дымной, вонючей забегаловке, где слепой баянист — глаза ему будто птица выклевала из глубоких, темных орбит — без устали и подъема играл «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и — особо для Алексея, получив трояк в сухую, цепкую лапу, — его любимый «Синий платочек». Научился пить водку без закуски, коротко сходиться и в кровь ссориться с людьми, которых видел в первый и последний раз в жизни, научился с девчатами раньше слов пускать в ход руки, научился не думать ни о настоящем, ни о будущем — вот только о прошлом не думать не научился. Его нисколько не трогало, что иные соседи по общежитию сторонились его, что девушки построже и почище не хотели иметь с ним дела, что начальник автоколонны Косачев почти не скрывал презрения к нему и держал на работе лишь потому, что он «отчаянный»: всегда возьмется проехать — и проедет — там, где другие спасуют. На длинных дорогах стройки ему случалось находить дружков себе под пару, таких же, как он, отбившихся от жизни. Правда, не очень-то он в них нуждался, им не развеять было его большого одиночества, да он и не стремился к тому. Он полюбил свое сиротство, полюбил долгую, пустую дорогу с ее тяготами и усталостью. И сейчас, в злобе на Косачева, на Панютина и на себя самого, он не был искренен до конца. Где-то в глубине души он даже радовался этой неожиданной и трудной поездке: он любил дорабатываться до «точки». Забвение от рабочей усталости он пока еще предпочитал забвению от вина…
Стрелка спидометра дрожит около цифры двадцать, при такой скорости он едва ли доберется до четверки раньше, чем через три часа. Спать перехотелось, и даже маятниковое покачивание «дворника», смывающего с лобового стекла клейкую изморозь, уж не укачивает, как в начале пути.
Луна скрылась за облака, и простор по обе стороны дороги обрезался. Впереди, там, где обрывался свет фар, дорога упиралась в черную стену ночи, и казалось — машина разобьется об эту непроглядную, твердую тьму. Но стена не давала приблизиться к себе, она отодвигалась все дальше и дальше, и дорога наращивалась ей вслед, будто рождаемая светом фар. Порой из черного небытия на обочину выпрыгивали то куст, то дерево, то старый, полусгнивший верстовой столб и, просуществовав краткий миг, исчезали.
Зеленая, в замерзших круглых капельках, еловая лапа повисла над дорогой, заиграла радужными переливами, но вдруг погасла и, темная, грузная, тяжело охлестнула лобовое стекло, просыпала на капот стеклянную хрупь и сгинула. Машина вошла в лес и, отмахивая стволы и ветви, двинулась по лесному коридору. Ветки скребли кузов и дверцы машины, царапали крышу, колотили по колесам; в мерный, привычный гуд мотора, казавшийся водителю тишиной, нагло и настырно ворвался шум посторонней жизни. Лицо его покривилось досадой. Оберегая свое одиночество и непричастность ко всему, что за окнами кабины, он прибавил газу и, когда стрелка спидометра скакнула вверх, включил пятую скорость. Машину стало кидать, нарушившаяся устойчивость добавочной болью отозвалась в теле Бычкова, но шорох ветвей утишился, все внешние звуки стали мельче, чаще, дробнее, и он почти вернул свою тишину.
Наконец лес остался позади, Бычков сбавил скорость, и ход машины стал вновь натужлив и ровен. Затем по возросшему давлению на спину он почувствовал, что дорога неприметно пошла под уклон. Желтые лучи фар поголубели и съежились, в них заклубился туман. Он переключил фары на ближний свет, будто подобрал его под передние колеса машины. Туман реял от самой земли, и глубокие борозды, бугры и рытвины разбитого грейдера, окутанные голубоватой волнующейся дымкой, казались живыми волнами реки. По обоим берегам этой реки, навстречу машине, побежали белые, похожие на карликовых человечков, каменные столбики. Туман заклубился еще гуще, и настоящая, невидимая за ним река метнула под колеса машины гулко и мягко проседающие доски деревянного мостика. Машина одолела бугор и вырвалась из тумана в чистую бархатную тьму. Впереди возникли огни деревни, Бычков переключил свет, и длинный луч серебром растекся в темном окне ближней избы.
Несмотря на холодный, не морозный даже, а знобкий, как то нередко бывает в стык осени и зимы, ветреный, неприютный вечер, молодежь гуляла. Прямо посреди улицы шли танцы. Шум мотора заглушал музыку, тьма скрывала баяниста от глаз Бычкова, и странны были ему эти, как во сне, кружащиеся пары. Выхваченные из мрака фарами, они будто не замечали, что на них надвигается громада грузовика, они все кружились и кружились, будто были бесплотными духами, сквозь которые грузовик мог пройти, как сквозь туман. Бычков нажал на кнопку сигнала, и громкий, долгий, унылый звук прорезал ночь. Пары неохотно расступались, иные выпархивали из-под самых колес грузовика, когда Бычков уже не видел их за прямым срезом капота, но никто не прекратил танца, не оборвал плавного, зачарованного кружения.
«Вот скаженные!» — усмехнулся про себя Бычков, расправил тело, с хрустом зевнул и вспомнил, что под сиденьем лежит непочатая четвертинка водки. Это его обрадовало, хотя пить ему сейчас не хотелось. Просто было приятно знать, что она лежит там, холодненькая и скользкая. Ну и пусть пока полежит. Он достал из кармана мятую пачку «Прибоя», встряхнул, вынул зубами папиросу, чиркнул зажигалкой, закурил.
Машина подошла к околице, и справа на дороге мелькнула фигура женщины с поднятой рукой. По сути, только эту белую, отчетливо выделяющуюся в ночи руку и успел увидеть Бычков. Он резко затормозил, но его протащило еще на добрый десяток метров вперед. Прошло время, пока женщина добежала до машины.
— Подвезете, товарищ водитель? — услышал он запыхавшийся голос.
Бычков высунулся из кабины. Темно, но все же он сразу увидел, что женщина молода, лет двадцати пяти, не больше. Взгляд его привычно пробежал сверху вниз, ощупав и оценив выбившиеся из-под платка светлые волосы в искринках снега, постекленевшие от ветра и холода, чистое круглое лицо, тугую грудь, сдавленную жеребковым жакетом. И он недобрым голосом сказал:
— Садись!..
Когда женщина взбиралась на высокую ступеньку, предварительно кинув в кабину две связанные узлом, туго набитые авоськи, он увидел круглое, обтянутое шелковым чулком колено и высокий черный резиновый ботик. Ишь вырядилась!
Женщина наконец уселась, пристроила в ногах свои авоськи и счастливо выдохнула:
— Надо же — как повезло! Я уж и не надеялась нынче на четверку попасть! — И вдруг испуганно спохватилась: — А вы на четверку едете?
— На нее самую.
Теперь Бычков разгадал причину своего недоброго чувства к этой незнакомой женщине: чем-то она неуловимо напоминала Тосю. Ни в чертах лица, ни в фигуре сходства не было. Тося выше, худее, темноволосая, большеглазая, большеротая; эта — подбористей, короче и крепче статью, черты лица мелкие, точеные: маленькие нос и рот, небольшие светлые глаза, светлые волосы. Пожалуй, лишь спокойная круглота овала была у них общей. Но дело не в том. От этой женщины сразу же повеяло на него Тосиной определенностью и прохладой, исключающей всякую короткость. То, что она даже не взглянула на него, устраиваясь в кабине, что в ее словах и жестах не мелькнуло никакой игры, естественной при знакомстве молодой женщины с молодым мужчиной, даже в той пренебрежительной бесцеремонности, с какой она задрала ногу на ступеньку, проглядывал характер независимый — и вместе узкий и неглубокий, — Тосин характер…
Он тронул машину с места. Женщина чуть приподнялась и расправила юбку, чтоб не помять. На ее круглом спокойном лице отразилась обычная ублаготворенность путника, наконец-то поверившего, что движется к своей цели.
Бычков ждал, что она о чем-то спросит его, ну хотя бы: откуда, мол, держишь путь или когда доберемся до четверки, — но женщина молчала и даже не глядела в его сторону. И в этом было что-то от Тоси, от Тосиной душевной скупости. Недаром в пору детства и юности хватало с нее его дружбы, она даже не заводила подруг.
— А вы что — живете на четверке? — спросил Бычков.
— Ага! — кивнула она, не поворачивая головы.
— Местная?
— Нет, мы с Тихвина.
— А сюда как попали?
— Как все — нанялась.
— Замужняя?
Женщина отрицательно мотнула головой.
— А гуляешь с кем? — переходя на «ты», спросил Бычков.
— Еще чего! Я не для гулянок сюда ехала.
И в этих ее словах не было никакой игры, ни намека на кокетство.
— А для чего ж ты ехала? — спросил Бычков.
— Для чего все, для того и я, — сказала она упрямым голосом.
— Башли, что ль, зашибать?
Женщина не ответила, но Бычков понял, что угадал. И он почувствовал свое превосходство над этой опрятной, нарядно одетой, знающей себе цену женщиной: его-то мало интересовали заработки.
— На приданое копишь? — усмехнулся он.
— Может, и на приданое, — ответила она с вызовом.
— А где работаешь-то?
— В магазине.
— Ну, этак ты быстро скопишь, — сказал Бычков.
Она не отозвалась, спокойно и неподвижно глядя перед собой.
Бычков постарался представить себе ее будущего мужа. Он рисовался ему вроде Тосиного агронома: немолодой, хлипкий, узкотелый тип в очках. Почему-то такие вот крепкие, самостоятельные, всерьез строящие свою жизнь девчата любят брать в мужья солидных, городских людей с образованием. «Ведь не пойдет она за такого простого парня, как я», — с обидой подумал Бычков. И ему остро захотелось насолить этому неведомому агроному, вечно становящемуся на его пути, этому вкрадчивому тихоне, отбивающему лучших девчат у настоящих боевых парней.
— Ну, такую кралечку и без приданого возьмут! — сказал он и, сняв руку с баранки, умял ватное плечо женщины.
Быстрым движением, словно ожидая этого, она откинула его руку. Он ухватил ее под локоть, потянул к себе. Она вырвалась и, когда он повторил попытку, взяла его за пальцы и, заломив их довольно больно, отвела и положила на баранку.
— Эк тебя разымает! — сказала она без особой, впрочем, обиды. — Выпимши, что ли?
— Нет! — усмехнулся Бычков. — Хорошо, что напомнила!
Притормозив, он нагнулся, нашарил в обтирочном тряпье холодную, как ледышка, четвертинку, достал ее и, стукнув донышком о колено, вышиб пробку.
— Долбанем?
Женщина брезгливо передернула плечами.
— Я ее, гадость такую, в рот не беру.
— Вольному воля!
Вопреки ожиданию, водка почему-то не пошла, и Бычков сделал только два больших глотка. Приятное тепло все же разлилось по телу, а голова не только не затуманилась, напротив — прояснела, и притупившиеся от усталости чувства обрели дневную остроту. Сквозь привычную вонь солярки и автола он услышал едковатый запах отошедшего в тепле меха и аромат то ли духов, то ли одеколона в смеси с пахучей пудрой. И опять что-то шевельнулось в Бычкове. Он просунул правую руку женщине за спину и попытался обнять.
— Пусти!.. Слышь! — Она резко вырвалась.
— Ладно строить-то! — с досадой сказал Бычков.
— Чего тебе надо? — спросила женщина, впервые повернувшись к нему.
И странно, даже когда она сердилась, лицо ее сохраняло неподвижность. Весь гнев сосредоточился в глазах, маленьких, светлых, блестящих.
Бычков и сам не знал, чего ему надо. Он слишком вымотался, устал, чтобы чего-нибудь хотеть. Пожалуй, хотелось одного — на миг почувствовать себя хозяином положения, чтобы от него, Бычкова, зависела судьба его стародавнего врага и счастливого соперника. Случись так, он бы наверняка оставил ее в покое: пренебречь властью куда слаще, чем использовать ее. Но упрямое сопротивление женщины разожгло в нем злобу. Он вновь с силой потянул ее за плечи.
— Пусти!.. Не такая я!.. Пусти!.. Я сойду!..
— Не шуми, — сказал он спокойно. — Не то впрямь ссажу.
— Ссаживай!.. Я и сама не поеду!..
Бычков остановил машину, перегнулся через колени женщины и распахнул дверцу. В кабину пахнуло резкой, пронизывающей студью.
— Слазь, — не глядя на нее, сказал Бычков.
Женщина шмыгнула маленьким носом, поправила авоськи и не двинулась с места.
— Слазь, что ли! — лениво сказал Бычков.
— А ты не будешь приставать? — сказала она вдруг, склонясь к нему и просяще заглядывая в глаза. — Не будешь, миленький?
«Вон уж миленьким стал! — усмехнулся про себя Бычков. — Ну, этим меня не возьмешь!»
Он переключил свет на малый, достал переноску и вылез из машины. Холод и тьма охватили его со всех сторон. Да, неважно сейчас остаться одному на дороге. Откинув крышку капота, он проверил уровень масла, затем вытащил пробку радиатора, откуда с шипением выстрелил горячий, седой пар, проверил, не выкипела ли вода. Поколотил каблуком в твердые как камень шины; став на колени, подергал канаты, державшие контейнер, и вернулся на место.
Женщина сидела, надув губы. И снова ее чистое круглое лицо, опрятная, нарядная одежда вызвали в Бычкове злость и раздражение. Ее гладкие щеки, ее потемневшие от растаявшего на них снега волосы, ее молодая тугая грудь, ее крепкие ноги с круглыми коленями были не для него. Так же как не для него оказались другие темные волосы, другое круглое лицо с твердыми ямочками на щеках, другое сильное, неузнанное тело.
Бычков достал папиросу, стал разминать в пальцах и порвал. Швырнув папиросу за окошко, вынул другую и закурил. Дым из неразмятого табака тянулся плохо, не доходил до души, Бычков вышвырнул и эту папиросу.
— Поедем, что ли? — тихо и нетерпеливо сказала женщина.
Бычков положил руку ей на колено. Женщина не шелохнулась. Тогда он включил вторую скорость, и грузовик, дрогнув всем могучим составом, стронулся. Разогнав его, Бычков последовательно включил третью, четвертую и, наконец, пятую скорость. После этого он вернул руку на колено женщины. Споткнувшись о металлическую застежку резинки, рука его скользнула дальше, и Бычков почувствовал под ладонью живое тело. Женщина сидела, оборотив лицо к боковому стеклу, и словно не замечала его прикосновения. Бычков слегка провел рукой по ноге женщины, холодной, нежной, беззащитной. Невозможная, щемящая нежность и жалость хлынули ему в сердце. Он медленно потянул руку назад, очень тихо и осторожно, словно боялся оскорбить женщину этим движением, вздрогнул, снова зацепившись за металлическую застежку, и облегченно вздохнул, наконец-то выпростав руку.
Он положил ладонь на баранку и сразу снял. На ней, словно второй покров, прилипший к коже, легким холодком сохранялось запретное прикосновение, и от ладони током шло по всему существу Бычкова смятенное чувство стыда, жалости, раскаяния и непонятной, необъяснимой радости.
— Ты не бойся… — произнес он хрипло и трудно. — Не такой уж я… — Он не знал, как определить себя, и не докончил фразу.
Женщина глядела прямо перед собой на подмерзшее, непрозрачное лобовое стекло, выпятив пухлые губы и часто моргая светлыми колючими ресницами.
— Правда, я не такой, — повторил Бычков. — Жизнь меня обидела, люди обидели…
Женщина молчала.
— Ну, можете вы понять меня? — тоскливо сказал Бычков, заглядывая ей в глаза. — Сдуру я, с обиды!..
— От меня вам никакой обиды не было, — уронила она наконец.
— Да не от вас! — И горячо, путано принялся рассказывать ей о том, о чем не говорил никому и никогда, ни трезвый, ни пьяный: о своей любви, об измене, о боли, сломавшей душу.
Она не прерывала его ни одним словом, но губы ее оставались такими же надутыми, а лицо запертым. Она не простила ему обиды, и Бычков, понимая, как нехорошо, нечисто ее обидел, желал лишь, чтобы она позволила ему выговориться до конца. Тогда она увидит, что не пропащий он человек, есть в нем живая душа, и простит его.
— Полтора года мыкаюсь по белу свету, а все места не нахожу… Самому глядеть на себя тошно… А я ведь дом люблю, семью люблю, деток люблю… Коли прилеплюсь к кому сердцем, все отдам, чтобы дорогому человеку хорошо со мной было…
Он говорил и с каждым словом сильнее чувствовал, что эта молчаливая, скромная, чистая женщина, первая поверенная его обманутого сердца, становится ему все нужнее и ближе. И скупое «ага!», каким она изредка подтверждала, что слушает, теплом отзывалось в сердце.
Ее сходство с Тосей уже не мешало ему, — напротив, та, прежняя Тося словно приняла новый образ, слилась с этой женщиной, растворилась в ней.
Смутно угадывая за тихим, скромно замкнутым обликом своей спутницы прочную житейскую трезвость, что было мило ему, в противовес нынешней его постылой незаземленности, Бычков говорил:
— Я за деньгами не гонюсь — и то больше полутора тысяч зарабатываю. А по моей жизни и половины не проживешь. Я матери каждый месяц тысячу посылаю. Она, бедная, не рада этим деньгам, плачет над ними. «Мне, — пишет, — ничего от тебя не надо, у меня дом, хозяйство, а и сама работаю, да и дочь при мне». У матери только и свету в окне — чтоб я своим домом зажил, а она бы внуков качала. А я, вправду вам скажу, никакой работы не боюсь, было б только для кого…
Бычков робко посмотрел на свою спутницу. Она сидела все так же прямо, неподвижно, строгая, чинная, но, видно, что-то отпустило ее внутри, в лице появилась успокоенность, губы не дулись больше, а ровно и мягко розовели. Радуясь этому пробудившемуся доверию, Бычков тихо говорил:
— Вы любого про меня спросите, всякое скажут: и зашибает, мол, и то да се, а чтобы там лодырь или работник плохой — такого не услышите. А по-моему, коль человек не остыл к работе, его не поздно на правильную дорогу вывесть. Как вы думаете?.. — спросил он с надеждой.
Женщина не ответила. Бычков подождал и осторожно заглянул ей в лицо. Тихое, ровное, глубокое дыхание выходило из ее полуоткрытого маленького рта, а глаза под светлыми иголочками ресниц были прикрыты. Она спала. Это не обидело, напротив — умилило Бычкова как новый знак доверия. Она не боялась его, она как бы поручила ему себя — значит, сказанное им дошло до ее сердца. И в этом доверчивом, беззащитном сне почудился ему молчаливый ответ на невысказанный им прямо вопрос. И тогда из самых глубин его существа всплыло нежное, горячее, опаляющее, надежное, заветное слово.
— Жена!.. — произнес он одними губами. — Жена!..
Одинокая слеза обожгла ему щеку. Он смутился, засмеялся и вытер щеку о плечо.
Будто горохом дробно ударяло по лобовому стеклу — машина въехала в дождь. Так нередко случается в эту пору — за один день переезжаешь из зимы в осень, из осени в зиму. Гонимые ветром, стежки дождя летели навстречу грузовику, как темные короткие стрелы. Капот покрылся мелкими фонтанчиками. Завыл ветер под жестью крыльев, и в жар, идущий от мотора, вплелись студеные, пронизывающие нити. Бычков стянул с себя ватник и бережно, стараясь не коснуться, укутал ноги женщины.
Мокрый ветер дул изо всех щелей машины, но горячий, быстрый бег крови защищал Бычкова от холода. Он слышал слабое дыхание спящей, и в нем пело чувство путника, после долгих странствий вернувшегося в родимый дом. И, как путник, вернувшийся издалека, он не мог наговориться. Пусть не доходит до женщины звук его голоса, все равно она слышит его как бы внутренним слухом. И Бычков говорил и говорил о былом, о настоящем, о будущем, о тоске своей по близкому человеку, о том, что он спасен этой встречей…
Внезапно Бычков замолчал и приник к стеклу. Сквозь дождь вперемежку со снегом увидел он на дороге темную фигуру человека. Он придавил пальцем кнопку сигнала и тут же отдернул, испугавшись, как бы резкий звук гудка не разбудил его спутницу. Человек на дороге нелепо размахивал руками и что-то кричал. Бычков помигал фарами, чтоб тот убирался, и, когда человек отскочил в сторону, промчался мимо, не снижая скорости. «Место занято, дорогой товарищ!» — высказал он вслух, будто человек мог услышать его.
Четвертый участок возник впереди и вверху россыпью электрических огней. Он раскинулся на взлобке холма, за рекой. Бычков с разгона въехал на лед и почувствовал под колесами машины странную, зыбкую, податливую мягкость. Там, откуда он ехал, реки были прочно закованы в лед, по ним тянулись наезженные снеговые дороги. А тут было черт знает что — какое-то полужидкое месиво. Но у Бычкова оставался один только выход: мчаться вперед. Остановишься — и застрянешь навек, потом никакой силой не вытащишь. К тому же от реки до вершины холма, куда забралась четверка, вела крутая дорога, и машине был нужен разгон.
Лучи фар загодя открыли опасность: они уперлись в крутой подъем дороги и растекались по влажной мясистой глине, которую, верно, в течение целого дня поливало и квасило дождями. Дороги, в сущности, не было, ее начисто смыло водой. Была изборожденная глубокими, полными воды рытвинами рыжая полоса меж глубоких канав, по которым бежали ручьи. Решение возникло мгновенно… Бычков переключил скорость, задохнувшись, принял на себя тяжкую инерцию груза и тяжело, на второй скорости, пополз вверх.
Поначалу казалось, что все идет благополучно. Грузовик дрожал, кренился — вот-вот опрокинется, — зарывался носом в колдобины, черпал грязь и мутную воду, но упорно одолевал крутизну. Затем Бычков почувствовал, что у машины заносит зад, что ее медленно и неудержимо тянет вбок и вниз. Дело было не в пробуксовке задних колес — оползала сама дорога, увлекая за собой грузовик.
Она уплывала из-под колес, заводя их к кювету, грузовик шел боком, как собака деревенской улицей. А Бычков мог противопоставить всему этому лишь ровное, неспешное и неуклонное движение вперед. Он не смел ни прибавить газу, ни переключить скорость — это было бы гибелью. Нельзя было и остановиться, его бы неудержимо потянуло назад. Он мог бороть дорогу лишь выдержкой и железным терпением, ровной неизменностью усилия, а это было дьявольски трудно, потому что каждая мышца, каждый нерв требовали вспышки, резкого, волевого действия, рывка, удара бойца. «Нельзя!» — твердил он себе, ровно и несильно давя носком сапога на педаль акселератора и легонько выкручивая баранку в сторону заноса машины. Нога, лежащая на педали газа, казалось, немела, деревенеющую икру словно сводило судорогой, но он не поддавался этой обманной боли. Нога мстила ему за то, что он не позволял ей нажать со всей силой на акселератор, высвободить ненужную, губительную сейчас мощь мотора…
А женщина все спала, откинувшись в угол кабины. Она вверила ему себя целиком, и лучше было умереть, чем обмануть ее веру. Впереди Бычков видел полосу бурой, прошлогодней травы; если он сумеет добраться туда, то колеса получат упор. Тогда потребуется лишь последний, сильнейший рывок — и машина одолеет подъем.
Мокрые ладони скользили по баранке руля, едкий пот травил глаза, он смаргивал его на скулы. Теплые капли текли по щекам, солили запекшийся рот. Бурлящая дождевой водой канава была в каких-нибудь двух-трех метрах, когда Бычков почувствовал вдруг, что колеса «схватили» дорогу. Он резко выжал газ, освобождая всю замертвевшую в ноге силу, — грузовик тряхнуло, дернуло и словно выбросило на гребень подъема. Впереди, до самого поселка, открылась разбитая, в толстых складках и глянцевитых лужах, такая надежная теперь дорога.
Бычков вытер лицо подолом рубахи, облизал соленые губы. Каждая жилочка, каждый мускул были скручены ноющей, тянущей болью, будто он на себе вынес грузовик со всем его грузом.
Он поглядел на свою спутницу. Она сладко спала, не ведая о его поединке с дорогой. Так и должно быть: он охраняет ее покой и сон, все трудное, тягостное, что может встретиться на пути человеческом, он берет на себя, у него крепкая спина, он вынесет любой груз, одолеет любую кручу, лишь бы она была рядом.
Поселок еще не спал, во многих домах и бараках горел свет. Горел он и над входной дверью и в широких окнах магазина, у которого Бычков остановил грузовик. Женщина не просыпалась, когда машина мучительно борола дорогу, но сейчас внезапный покой разом скинул с нее сон. Она зябко встряхнулась, провела тылом ладони по глазам, зевнула и стала нашаривать свои авоськи. Под руку ей попался ватник Бычкова, она положила его на сиденье. Найдя авоськи, она сдвинула их к краю кабины, неумело, двумя руками, открыла дверцу и спрыгнула на землю. Затем сняла авоськи. Перегнувшись через сиденье, Бычков с улыбкой следил за ее чуть неловкими спросонок, но сильными и решительными движениями.
— А что теперь с нами будет? — спросил он с выжидательной нежностью.
Женщина что-то протягивала ему, и Бычков хотел взять это что-то из ее маленького кулака и уже коснулся пальцами… как вдруг понял, что это деньги. Словно ожегшись, он отдернул руку, и две смятых в комок пятирублевки упали в грязь.
— Вы… вы что?.. — пробормотал он испуганно.
Женщина нагнулась и подобрала деньги.
— Совести у вас нет! — сказала она зло и стала копаться в сумочке. — До Выселок десятку берут!..
— Да ты что? — с тоской закричал Бычков. — Смеешься, что ль, надо мной?
Женщина нашла нужную бумажку и протянула Бычкову.
— Тринадцать, больше не дам!
— Погоди… — Бычков чувствовал, как обнажается его оскал в жалкой, жуткой, какой-то расползающейся улыбке. — Ты, значит, не слышала, чего я тебе говорил?
— Всех слушать — слухалок не хватит. Берешь деньги или нет?
— Да как ты можешь? — в отчаянии крикнул Бычков и от бессилия выругался.
— Не очень-то хулюгань, здесь тебе не шоссейка. Живо в милицию отправлю!
Бычков поглядел на ее мелкое, злое, но и в злобе не ставшее открытым лицо, запертое, деловое лицо маленькой, убогой хищницы и понял, что ему некого винить, кроме себя самого. Он все придумал про эту женщину, ей никакого дела не было до него. Она притворялась, будто слушает, чтобы он оставил ее в покое и вез дальше; а поняв, что ей нечего опасаться, — спокойно уснула.
— Не «хулюгань», — передразнил он с презрением и болью. — Говорить научись, халява!
Он с лязгом включил скорость и так рванул с места, что выжатая колесами грязь охлестнула блестящие черные ботики женщины.
На базе четверки было пусто, если не считать заспанного сторожа в дремучем тулупе. Бычков накинулся на старика. На кой ляд требовали они трансформатор, если и принять-то его некому? Сволочи и бюрократы! Им плевать, что человек башкой рискует, чтобы доставить груз!.. Обалдевший сторож кинулся к телефону, а Бычков залез обратно в кабину. Его всего трясло. Он застегнул ватник, подтянул ноги к животу, собрал в ком тепло своего тела. Ничто не помогало, знобкая, противная дрожь пронизывала до кончиков пальцев.
А потом прибежали какие-то люди, много людей, среди них начальник четверки, пожилой, седоголовый инженер. Они силком вытащили Бычкова из кабины, жали ему руки, хлопали по спине, обнимали, а начальник четверки хотел даже поцеловать его, но Бычков отстранился, и начальник ткнул его холодными, жесткими усами куда-то под челюсть, и все они говорили, что Бычков геройский парень, и такой, и этакий. Оказывается, они выслали вперед своего работника, чтобы предупредить водителя о том, что проезда нет. И какой же он молодчага, что не послушался и выручил, да что там — спас четверку! Бычков вспомнил человека, махавшего руками на дороге, на которого он, охваченный своим новым счастьем, просто не обратил внимания…
— Довез — и ладно! — сказал он грубо. — Разгружайте скорее, устал я…
Начальник участка уговаривал его пойти отдохнуть: общежитие тут рядом с базой, грузовиком займется дежурный шофер. Но Бычков не стал его слушать: не сон и не отдых были ему нужны сейчас.
Когда с разгрузкой было покончено, он залез в кабину и вывел грузовик за ворота. В конце длинной и уже темной улицы — час был поздний — по-прежнему ярко светилась вывеска над входом в забегаловку. Бычков представил себе, как войдет в жаркую, едко пропахшую пивом духоту, как опрокинет в рот граненый, отсвечивающий зеленым на гранях стакан водки, как разойдется по жилам тепло и вдруг ударит в голову одуряющим дурманом, растопив живую память и боль в сладкой хмельной тоске, и как хлынет в эту тоску песня о синем платочке, и тогда он совсем забудет себя…
Легкий, чуть слышный, нежный запах все еще держался в кабине. В нем уже ничего не осталось от запаха дешевого одеколона, пудры и мокрого меха, и оттого он пробудил в Бычкове память не о недавней его спутнице, а о той, другой, еще не встреченной им. Сегодня он глупо и жалко ошибся. Ну что же, зато он узнал, что она есть. Она в нем, она уже слита с его существованием, только б не потерять ее в себе, и тогда она явится воочию, на дневной или на ночной дороге, явится навсегда. Он легко и глубоко вздохнул, и утихла мучившая его дрожь.
Огромный грузовик, уверенно шедший к своей цели, вдруг затормозил, шипя тормозами, круто свернул, дал задний ход и, брызнув мощным светом фар в освещенное окно забегаловки, развернулся и покатил назад.
1958