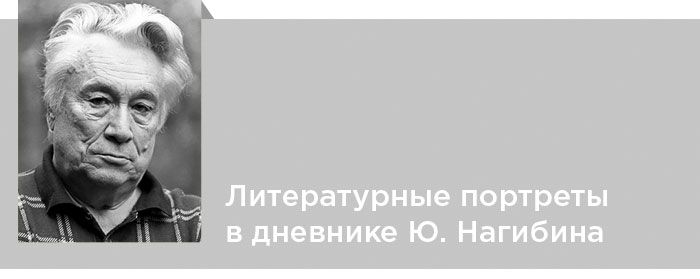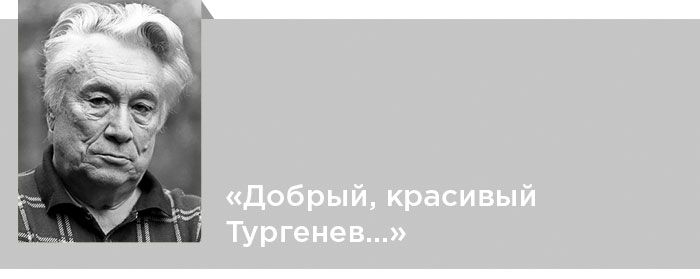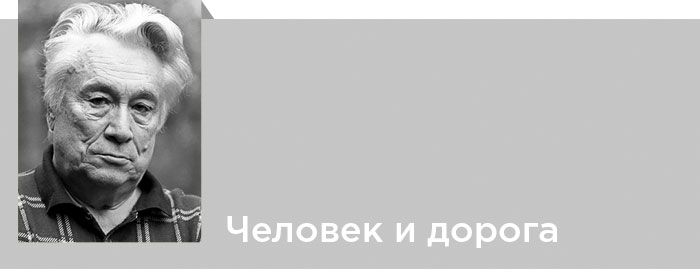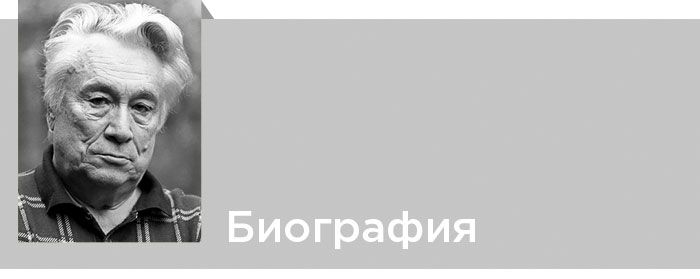Эпоха, время и любовь в неореалистической прозе Юрия Нагибина

О.А. Кирпа
В статье анализируются особенности автобиографизма в последних произведениях Ю. Нагибина. Доказывается, что для образа автора характерна информированность об описываемых событиях, заинтересованность в том, о чем идет речь, субъективность и утверждение своей собственной правоты мнения или суждения. Писатель активно использует различные формы интертекста, высказывает свои писательские предпочтения, оценивает себя самого в связи и в сравнении с литературными персонажами и сюжетами.
Ключевые слова: автобиографизм, документализм, интертекст, публицистичность.
О.А. Кірпа. Эпоха, час та кохання у неореалістичній прозі Ю. Нагибіна.
У статті аналізуються особливості автобіографізму у останніх творах Ю. Нагибіна. Доводиться, що для образу автора властиві поінформованість щодо подій, зацікавленість в тому, про що йдеться, суб'єктивність та утвердження власної точки зору. Письменник активно використовує різні форми інтертексту, він декларує власні письменницькі уподобання, оцінює себе у зв'язку з літературними персонажами та сюжетами.
Ключові слова: автобіографізм, документалізм, інтертекст, публіцистичність
О.А. Kirpa. Epoch, time and love in U. Nagibin's neorealistic prose.
The article analyzes the properties of autobiographism in U. Nagibin's last works. It is proven that the author is informed about the events described, is interested in them, is subjective and asserts the Tightness of his own opinion of judgement. The writer uses different forms of intertext actively, voices his literary preferences, evaluates himself in comparison and in connection to literary characters and plots.
Key words: autobiographism, documentalism, intertext, publicistic.
Писатели XX в., творчество которых представляет собой яркую и оригинальную страницу в истории русской литературы XX в., обновляли словесное искусство, опираясь на сделанное их предшественниками, и шли при этом совершенно разными путями. Помимо различных разновидностей модернизма в прошлом столетии влиятельным и плодотворным стал неореализм, мало затронутый модернистскими влияниями и продолжавший замечательные культурные и художественные традиции XIX в. Как и в Западной Европе, в русской литературе он охватывал творчество писателей различного дарования, к числу которых, несомненно, принадлежит и Юрий Нагибин. Последний год его жизни был ознаменован завершением трех автобиографических повестей: «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща» и «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» (1994). Как справедливо отмечает А.Г. Коваленко, «...он как бы заново пересматривает свою жизнь, переосмысливает ее под знаком оценок, продиктованных временем, опытом и судьбой. Свойственный писателю автобиографизм приобретает характер драматической исповедальности» [1, с. 485]. Цель данной статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать специфику автобиографизма писателя в его предсмертных повестях. К сожалению, эта проблема в литературоведении практически не затрагивалась. Об отдельных особенностях поэтики позднего творчества Ю. Нагибина писали лишь А. Коваленко [1], Ю. Кувалдин [2], В. Топоров [4].
Необычные для автобиографической прозы заглавия, избранные Ю. Нагибиным, дают возможность судить о смысловой доминанте этих произведений. Так, в названии повести «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» соединены название древнегреческого романа Лонга с устойчивыми выражениями той эпохи, давно и прочно вошедшие в сознание советских людей. Это устанавливает своего рода индивидуально-авторскую оксюморонную межтекстовую связь между древнегреческим романом, повествующем о невинной любви двух юных существ на фоне идиллических картин природы, и трех периодах советской власти (сталинского, хрущевского и брежневского). В заглавии повести «Моя золотая теща» выражается авторская оценка («моя золотая») и используется неожиданная номинация («теща»), которая определяет основное содержание произведения. Наконец, заглавие «Тьма в конце туннеля» привлекает внимание разрушением устойчивого выражения «Свет в конце туннеля» и является метафорой конца пути.
Повесть «Тьма в конце туннеля» охватывает отрезок жизни героя от предвоенного детства до конца 1980-х гг. В неспешный рассказ о своем детстве, юности герой включает описание людей и событий, окружавших его в коммунальной квартире, во дворе и школе, в институте, причем на первый план выдвигается проблема социального расслоения. Как известно, в основе автобиографических произведений лежит своего рода «автобиографическое соглашение», т.е. заявленное автором намерение, прочитываемое как в заглавии текста, в прологе или предисловии, так и в пояснениях или комментировании описываемых событий. В этой повести Нагибина есть и такая особенность, как представление автора о своем читателе: он отсылает читателя к его собственному опыту, дает возможность сравнить его с опытом авторским. Это связано с тем, что герой и повествователь в повести совпадают, повествователь рассказывает историю становления своей личности и наряду с индивидуальным – событиями, переживаниями, мыслями, – в его произведении возникает и типичное, пережитое его поколением. Однако воссоздавая события, которые зафиксировала его память, повествователь одновременно познает и себя самого, не всегда уверенный в том, что точно и верно понимает происходившее. «... мне многое остается непонятным. Если б я писал другую книгу, то, наверное, сумел бы придать цельность и убедительность картине своей тогдашней душевной жизни. Но я пишу эту книгу и не хочу быть умным сегодняшним умом. К тому же я убежден, что не понимаю себя тогдашнего» [3, с. 72-73].
Основным вопросом, над которым думает герой Нагибина, стал вопрос «кто я?», причем он вызван происхождением героя – кто его настоящий отец, кем ему приходится его отчим, – и общефилософским осмыслением самого себя в плане национальном, социальном и личностном. Так, отвлекаясь от основной нити повествования, он замечает: «В мою задачу не входит рассмотрение вопроса о положении евреев в Советском Союзе, мне это не по плечу, я пишу о себе, о судьбе и мировосприятии человека, прошедшего, по выражению остряка Губермана, "нелегкий путь из евреев в греки"» [3, с. 78]. Рефлексия героя, связанная с тем, что он может оказаться евреем, а также с тем, что он является русским, определяет особенности повествования, разделяя повесть на две части и придавая ей публицистичность. В первой части повести герой, как и каждый подросток, а потом юноша, проходит процесс самоидентификации и с удивлением обнаруживает, что для ровесников он чужой. Завоевывая свое место, отстаивая собственное достоинство и право быть если не «своим», то хотя бы не изгоем, он думает о судьбе евреев уже с высоты жизненного опыта. Когда же обнаружилось, что его отцом был русский человек, в сознании героя происходят перемены. Подчиняясь особенностям памяти, повествователь пропускает «периоды жизни» [3, с. 85], возвращается к наиболее существенным моментам жизни, важным разговорам, поступкам. В повествование вводятся известные имена (И. Шапаревич, В. Астафьев, В. Распутин, А. Солженицын), рассказ о литературных объединениях, журналах. Так, во время войны, оставшись в Москве, герой пишет бессмысленные агитационные материалы, содержание которых теперь не может вспомнить, в литературной среде, в кругу авторов «Нашего сотрапезника», в названии которого угадывается, конечно, «Наш современник», наблюдает за авторами «деревенской» прозы, считающими себя истинно русскими людьми. Повествователь не чувствует близости к писателям–«деревенщикам», особенно ему претит их антисемитизм, но и критику в их адрес он не считает справедливой: «...любой писатель все знает приблизительно, по памяти детства, понаслышке, по летучим наездам; если же он захочет узнать что–то досконально, глубоко и профессионально, то не сможет писать, времени не останется. Да ведь писание – это не фиксация жизненных явлений, а переживание их» [3, с. 136]. Обретение новой, желанной для героя национальности оказало значительное влияние на его внутренний мир. «Может ли человек чувствовать происходящую в нем перемену? – спрашивает он. – Мне кажется, нет. Во всяком случае, я этого никогда не чувствовал, хотя на протяжении долгой жизни такие перемены со мной происходили. Из дали лет их можно увидеть, особенно если тебя что-то подтолкнет» [3, с. 105]. С позиции прожитых лет повествователь увидел, как его герой, ощутив себя полноценным русским, пытался наверстать упущенные им возможности, почувствовать себя хозяином жизни: «Прилив русскости неизменно ожесточал меня, только теперь это стало куда серьезней, не изливаясь в мальчишеское рукоприкладство. Во мне происходил душевный переворот» [3, с. 131,139].
Личный опыт позволил повествователю судить о том, чем, на самом деле, оборачивается национальный вопрос. В повествование входит публицистическая струя и, отвлекаясь от событий собственной жизни, повествователь осмысляет первые годы перестройки или, как он говорит, «обновления»: «...вылупились антисемитизм, национализм, общество "Память" и ярая сталинистка Нина Андреева. <...> последующий помет, в котором были свобода слова, выборы взамен голосования, многопартийность и другие бледные копии западных свобод, оказался хилым, слабосильным, маложизнеспособным...» [3, с. 140]. Здесь важно, что автор стремится передать ту разнонаправленность социальных тенденций, которые были характерны для общественной жизни той поры. Резко и нелицеприятно повествователь говорит о том, чем оказались «сеятели и хранители», т.е. колхозники, от лица которых выступали чиновники; пролетариат, который в протестных акциях представляли только шахтеры; обыватели, «винтики», которые «злобствуют на всех и вся, не проявляя никакой гражданской активности» и т.д. А та часть народа, которая оказалась активной и штурмовала Останкинский телецентр и московскую мэрию, держала «над головой символы – серп и молот и свастика, портреты Ленина, Сталина и Гитлера; одни из них хотят генсека, другие – монарха, третьи – генерал-губернатора» [3, с. 140 – 142]. Таким образом, личный опыт самоидентификации, удачи и неудачи социальной адаптации героя становятся основой для осмысления судьбы целого народа, частью которого он себя осознает. В последних главах повести на первый план выступает автор-публицист, говорящий об ответственности своего народа, резко осуждающий национал-шовинизм, современные ему черносотенные организации и издания, позицию Солженицына, деятельность Анпилова. Автобиографические детали, факты, образы родных и близких повествователю людей сменяются общественно важным, актуальным, политически заостренным, обобщающим опыт целой страны, большого народа. «Как хочется поверить, что есть выход! – восклицает автор. – Как хочется поверить в свою страну! Трудно быть евреем в России. Но куда труднее быть русским» [3, с. 154]. Смысловая доминанта, заложенная в заглавии повести «Тьма в конце туннеля» неоднократно подтверждена текстом и, особенно, его финальными главами. Она выполняет своего рода типизирующую функцию, тогда как в заглавии другой повести Ю. Нагибина,«Моя золотая теща», содержательная доминанта иная. Заглавие повести выступает в функции индивидуализирующей («моя»). Если в повести «Тьма в конце туннеля» события жизни героя связаны с проблемами социального, национального бытия и описаны хронологически – от детства до преклонных лет, то в следующем произведении речь идет об одном эпизоде этой большой жизни.
Повесть «Моя золотая теща» начинается как рассказ о единственной любви героя – к Даше, причем повествователь дает лишь внешний рисунок событий от начала своей влюбленности до окончательного разрыва с любимой. Этого своего рода краткий пересказ обстоятельств и событий, которым посвящена его последняя повесть «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя». Видимо, поэтому между двумя произведениями так много пересечений, есть даже текстуальные совпадения. В жизни человека сложно отделить одни события от других, обычно они связаны между собой, взаимообусловлены, происходят одновременно и параллельно, потому повествователь вводит читателя в круг тогдашних переживаний своего героя, показывая, как «одно старое знакомство» неожиданно изменило его жизнь. Таким образом, в повести нарушается хронологический принцип повествования, подчиненный течению жизни: из нее взят один завершенный «сюжет», одна «история», ограниченная определенным временем – после измены Даши и до смерти тещи Татьяны Алексеевны.
Говоря об этой повести, Ю. Кувалдин отмечал, что в ней Ю. Нагибин стал своего рода «русским Генри Миллером». Он в конце своего жизненного пути «...решил досказать ранее недосказанное, может быть, даже табуированное в сознании писателя. Рекемчук понимал, что публикация "Моей золотой тещи" чревата скандалом, ведь риск не исчерпывался сценами запретной любви зятя и тещи. Нет, повесть содержала и остросоциальную картину нравов верхушки советского общества при Сталине, пуританских лишь декларативно и внешне, а на поверку – разнузданных до предела. Но вместе с тем мы понимали, что "Моя золотая теща" – одна из лучших его вещей, что она достигает классических образцов литературы» [2]. Главная тема повести – всеподчиняющая себе любовь. О герое своей повести Нагибин говорит поначалу в третьем лице: «... он вернулся с фронта», «...он был ее первым мужчиной», «...он изнывал от этой пытки» [3, с. 159, 161], прерывая повествование замечаниями такого типа: «Писать о прошлом гораздо легче, чем когда-то находиться в нем» [3, с. 167] или «... в литературе нельзя стыдиться, особенно когда речь идет о тебе самом; все, что пишет писатель о себе, должно быть откровенно, как исповедь» [3, с. 172]. И, наконец, нарушает сложившееся ранее соотношение, когда повествователь совпадает с героем: автор признается в том, что он и есть повествователь. «Зачем я путаюсь между "он" и "я"? Сам толком не пойму. Иногда мне кажется, что я совсем не знаю того молодого человека, который некогда был моим "я". И тогда, естественно, начинаю называть его "он", как бы не беря ответственности за чужие мысли и поступки. <...> Говоря о том далеком, неправдоподобном молодом человеке в первом лице, я невольно начинаю с ним сливаться. Может, в конце концов это "я" из прошлого приживется ко мне настоящему?» [3, с. 175]. И, нарушив изначальное «автобиографическое соглашение» с читателем, состоящее в том, что героем является некий юноша, «он», повествователь говорит: «Итак, это я ехал в большой правительственной машине...» [3, с. 175].
Несмотря на то, что в центре повествования находится «чисто животное, бессознательное чувство. Даже не чувство, а тяга, та неумолимая тяга, которая оглушает тетеревов...» [3, с. 195], – его развитие показано на широком социальном фоне. Женившись, герой оказался в незнакомой ему среде, в семье крупного советского начальника. Этот социальный слой герой прямо не называет, однако по некоторым замечаниям и по описаниям ежедневного быта, застолий, круга интересов, любви тещи к городскому романсу можно судить о том, что речь идет о мещанстве. Предмет его вожделения – «...женщина, нет, не стояла, высилась, источая золотой свет, творя вокруг себя некое сияние ...» [3, с. 180] твердо вела хозяйство в своем доме, реализовывала на Тишинском рынке «промтоварный лимит», а также гуманитарную помощь, привозимую в Москву из Америки и достававшуюся ей как жене крупного начальника, содержала бесчисленную родню и приживалок, воспитывала внука и неизменно требовала от зятя его скудную зарплату.
События в мире, в стране, в Москве, происходящее в партийных верхах и детали советского быта заслонены в повествовании описанием развивающегося чувства, переживаниями автора. Поэтому все, что так занимало людей вокруг, членов его семьи, что казалось им важным и определяло их жизнь, повествователем осмыслено иронически: он смотрит глазами писателя, погруженного не столько в события, сколько в их «переживание». Писателя выдает в нем не только поиск художественности, прекрасного даже в безобразном или безнравственном. Вспоминая, автор, как ивпервой повести, познает себя самого, стремится понять свои реакции, особенности поведения. Как в повести «Тьма в конце туннеля», автор-повествователь задумывается о себе, о том, как его социальное происхождение, воспитание и характер определяли его судьбу, поступки и, в конце концов, любовные отношения. Здесь достаточно последовательно осуществляется реалистический принцип отражения действительности с его детерминизмом и психологизмом. Как автор познает себя, так стремится осмыслить и свое поколение – тех юношей, которые относились к «категории вечных юнцов» [3, с. 185]. Им было свойственно созревать «очень поздно» или навсегда оставаться в юношеском возрасте. Причиной этому, по мнению автора, являлось противоречие между домашней «правдой» и школьной «ложью». Нагибин продолжает тут старую тему русской классической литературы, размышления, прежде всего, Лермонтова о судьбе поколения, «грядущее» которого «пусто и темно», правда, эта традиция имела и другое, чеховское истолкование («выдавливание раба ко капле»), однако в советских реалиях оно обратилось в свою противоположность: рабство насаждалось, поощрялось, воспитывалось.
Повествование насыщено «чужим» словом, которое вводится в виде цитат, реминисценций и аллюзий из стихотворений О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Пушкина, из известных советских песен. Своего рода культурным контекстом становятся полотна художников (Кустодиев, Леонардо да Винчи, Лиотар, Ренуар), упоминания авторов книг и их пройзведений (Гомер, Фрейд, Толстой, Тургенев, Дружинин, Сервантес, Гашек, Кафка, Селин), имен политических деятелей (Сталин и его окружение, Гитлер), актеров (Чаплин), спортсменов (Алан Силлитоу) и т.д. Причем автор задумывается о том, как лучше сформулировать, описать, сказать то, что в истории литературы и искусства было до него описано и сказано. Скажем, он пытается описать красоту Татьяны Алексеевны. На память ему приходит фрагмент из «Илиады», когда старцы неожиданно для самих себя поднялись при появлении Елены, или описания женской красоты у Толстого. Природа увлеченности Татьяны Алексеевны прежним зятем сопоставляется с рядом персонажей: Катерина Измайлова, приказчик, доктор Гааз. Теща происходила «если не из купеческой, то из торговой среды, – говорит он, – где привычное дело – семейный разбор с острым ножичком <...> Старый муж – скучающая жена – молодой приказчик – такая же привычная для купечества троица, как французские Брибри, Мабишь и Гюстав, воспетые Достоевским» [3, с. 227]. Здесь упоминаются также персонажи «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского. Ее равнодушие вызывает ассоциацию с «чаплиновскими миллионерами, которые спьяну ласкают бродяжку, протрезвившись, не узнают» [3, с. 241], чувство от близости с ней сравнивается с ощущением, как у «г оголевского колдуна».
В автобиографическом тексте Ю. Нагибина события индивидуальной жизни осмысляются через призму мировой литературы и искусства, последовательно проецируются на их ситуации, а характеристики людей опираются на представления автора о тех или иных литературных персонажах. Цитаты, как правило, служат в повести Нагибина средством самоидентификации или собственной характеристики, реминисценции выступают в функции авторской оценки других лиц. Однако не менее важно и то, что писатель, пытаясь понять себя прежнего, делает вывод и относительно человека вообще, что приводит к повышению многослойности своего и чужого «я». Он судит об особенностях психики, типичных реакциях, обычном поведении в определенной ситуации («Известно, что люди крайне невнимательны друг к другу...», «Мы придумываем людей себе на потребу...» [3, с. 224] и др.). Но в том, как писатель и его герои «придумывают людей себе на потребу», отражаются и особенности их характера, и реалии социальной действительности, в которую они были погружены. Различные элементы интертекста, таким образом, связывают автобиографическое повествование с широким кругом произведений литературы и искусства, в каком-то смысле обобщают изображенное и служат средством характеристики повествователя.
Последние повести Ю. Нагибина свидетельствуют о своеобразном развитии русской автобиографической прозы, являющейся важнейшим средством саморефлексии автора. В них совпадает повествователь и герой, а также (в двух последних повестях) повествователь и автор. Для образа автора в повестях Ю. Нагибина характерна информированность об описываемых событиях, ограничиваемая только особенностями его психики, заинтересованность в том, о чем идет речь, субъективность и утверждение своей собственной правоты мнения или суждения. Важнейшей особенностью автобиографических повестей писателя является активное использование различных форм интертекста. Они свидетельствуют, что текст принадлежит писателю, не только активно включенному в мировую и русскую литературу и искусство, но и прямо высказывающего свои писательские предпочтения, осознающего «литературный» характер своего мышления, оценивающего себя самого в связи и в сравнении с литературными персонажами и сюжетами. Повести Ю. Нагибина относятся к тому типу автобиографии, которые тяготеют к беллетризованной форме и включают в себя воспоминания о прошлом и связанном с ним лицах, реалиях, исторических фактах.
Литература
- Коваленко А.Г. Нагибин Юрий Маркович / А.Г. Коваленко // Русские писатели 20 века. Биографический словарь [Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. Чл. редкол. А.Г. Бочаров и др.]. М.:. Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия». Издательство «РАНДЕВУ-АМ», 2000. – С. 484-485.
- Кувалдин Ю. Заблудившийся писатель / Юрий Кувалдин // Ex Libris. Приложение к «Независимой газете». 17.06. 2004.
- Нагибин Ю. Моя золотая теща / Юрий Нагибин. – М.: ООО «Издательство ACT», 2004. – 521 [7] с.
- Топоров В. Гибель Нагибина / Виктор Топоров // Постскриптум: Литературный журнал (СПб.). – 1996. – Вып. 3 (5). – С. 266-280.