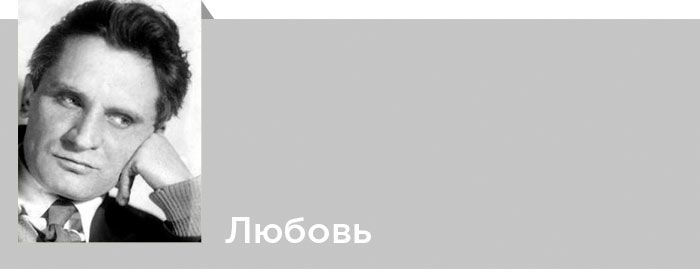Фигура нищего в нарративах Ю. Олеши

Г.А. Жиличева
В статье анализируются сюжетные и метасюжетные функции персонажа-нищего в художественных произведениях Ю. Олеши («Зависть», «Список благодеяний», «В мире»). Семантический потенциал фигуры нищего раскрывается с помощью интерпретации публицистических текстов (речи, статьи) и дневниковых записей. Проблема незавершенного текста рассматривается на примере фрагментов и набросков так называемого «романа о нищем», исследуются причины, мешающие реализации сюжета нищего в нарративе.
Ключевые слова: Олеша; нищий; двойник; сюжет; нарратив.
В дневниках и записях Ю. Олеши содержится много фрагментов, которые могли бы послужить основой для художественных текстов, но так и остались незавершенными. Исследователи объясняют эту особенность творчества писателя социо-культурными факторами, биографическим контекстом. Нас будет интересовать проблема «блокировки» сюжета, обладающего большим нарративным потенциалом: когда обдуманная, частично эксплицированная в художественных текстах и набросках история не может реализоваться полностью. Одним из самых интересных неосуществленных проектов Олеши является так называемый «Роман о нищем».
Известно, что концепция нищего возникает у Олеши как продолжение размышлений над важнейшей темой романа «Зависть» – конфликтом нового и старого мира. Не случайно одна из сцен первой редакции пьесы «Заговор чувств» (переделки романа «Зависть» для театра) называлась «Я нищий в этом новом страшном мире». За две недели до премьеры пьесы, которая состоялась 13 марта 1929 г., в авторецензии для еженедельника «Современный театр», Олеша пишет: «Мятежного молодого человека в моей пьесе зовут Николай Кавалеров. Однажды замечает он, что на грани двух эпох оказался он лишенным прошлого и не имеющим надежд на будущее. Оказался он нищим»1. Таким образом, нищета осознается как состояние героя, лишенного места в новом миропорядке, и, что очень хорошо видно по автопересказу, как начальный компонент сюжета о подобном герое («Однажды замечает он…»).
Кроме того, поскольку Олеша неоднократно комментирует в критических работах свое сходство с Кавалеровым, нищета оказывается не только свойством героя, но и своеобразной эмблемой метафизического состояния автора.
В речи на I Всесоюзном съезде советских писателей Олеша декларирует необходимость изменения мышления советских писателей, противопоставляя метафорику нищеты, старости, одиночества коллективизму, молодости и труду. Но тот фрагмент, где появляется уподобление писателя нищему, явно выбивается из общей риторической модели текста. Вместо оправданий и деклараций в речи появляется «вставной нарратив» о нищем страннике.
«Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим <…> Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем.
Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу, никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка – “писатель”.
Это ужасно умилительная для самого себя история, ужасно приятно жалеть самого себя.
Опустившись на самое дно, босой, в ватном пиджаке, иду я по стране и прохожу ночью над стройками. Башни строек, огонь, а я иду босой. Однажды в чистоте и свежести утра я прохожу мимо стены. Бывает иногда, что в поле, недалеко от заселенной местности, стоит полуразрушенная стена. Луг, несколько деревьев, чертополох, кусок стены, и тень от стены на лугу еще более четкая, прямоугольная, чем сама стена. Я начинаю идти от угла и вижу, что в стене арка – узкий вход с закругленной в виде арки вершиной, как это бывает на картине эпохи Возрождения. Я приближаюсь к этому выходу, вижу порог. Перед ним ступеньки. Заглядываю туда и вижу необычайную зелень… Может быть, здесь ходят козы. Я переступаю порог, вхожу и потом смотрю на себя и вижу, что это молодость, вернулась молодость»2.
Тематика речи о готовности стать советским писателем не предполагает описания пейзажа, стены, пасущихся коз и т.п. Нищий в данном фрагменте оказывается не только указанием на деградацию и экзистенциальную старость, но и эмблемой «отчуждения» от системы советской реальности (нищий идет над стройками страны). Такая автореферентная фигура (я воображаю себя нищим, у нищего кличка «писатель») особым образом расщепляет субъективность, позволяет наблюдать себя со стороны. Более того, с помощью идентификации с нищим автору удается мысленно преодолеть деградацию и в то же время акцентировать «разрыв» повествуемой истории. Не случайно после многократного повтора слова стена (6 раз) следует описание некоего выхода – но этот выход в картину эпохи Возрождения. При этом наррация прерывается, и начинается медитация, вводимая в текст глаголом «вижу». Видение же, в свою очередь, как бы вообще не имеет отношения к ситуации говорения на съезде. Но затем Возрождение ассоциативно связывается с возрождением в качестве советского писателя – история о нищем старике блокируется, и начинается история о молодости.
Появление нищего запускает механизм созерцания. Следовательно, история о нищем не может состояться как линейная хронотопическая событийность. Превращение в нищего фиксирует некий метафизический предел, за которым должно последовать радикально другое состояние, но оно не излагается как история, а лишь декларируется.
«Тогда, сочиняя “Нищего”, я заглядывал в волшебную арку и не понимал главного, не понимал, что я верю в молодость страны, что не свою молодость я хочу вернуть, а хочу увидеть молодость страны, то есть новых людей.
Теперь я их вижу. И у меня есть гордая мысль считать, что их начинающаяся молодость есть до известной степени возвращение моей молодости» (553).
В процитированном фрагменте неожиданное возвращение молодости означает и возвращение к себе, и возвращение в советскую молодую реальность, где нищего быть не может, и история нищего не может быть дописана. Поэтому в финале речи Олеша обещает, что будет творить для молодых комсомольцев и рабочих произведения с сюжетами о молодости.
Хотя Олеша и в статьях, и в речи описывает начальный этап сюжета «Зависти» как осознание героем своей метафизической нищеты, в самом романе Кавалеров нищету не рефлексирует, но зато чувствует себя лишенным места в иерархии реальности. (Поэтому герой не называется нищим, но сравнивается с Гамлетом, сыном, потерявшим наследство, шутом, комиком, бездомным).
Важнейшие эпизоды сюжета, связанные с пониманием «непринадлежности» миру, находятся на границе частей романа. В конце 15 главы Кавалеров рассматривает себя в зеркале, отмечая оптическую несовместимость своего лица и окружающего пейзажа. «Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно – частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь…»3. А затем Кавалеров видит приближающегося к зеркалу Ивана Бабичева, который ассоциируется с нищим напрямую. «Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди» (58) . Встреча с Иваном не только имеет значимые сюжетные последствия, но и влечет за собой смену нарративной инстанции. Кавалеров подходит к зеркалу – повествование еще в первом лице, Кавалеров отходит от зеркала вместе с Бабичевым – повествование уже в третьем лице, эксплицитный нарратор стал имплицитным. Встреча с нищим ведет к превращению повествующего «я» Кавалерова в Кавалерова-персонажа, то есть, по сути, к исчезновению субъекта, исчерпанности его дискурса. Получается, что даже в нарративе, где сюжет о нищем не занимает главное место, появление персонажа такого типа акцентирует сбой повествовательной логики. Если же сюжет о нищем должен стать центральным, то медитативное, созерцательное, автореферентное начало, эмблематизированное фигурой нищего, вступает в сложное взаимодействие с событийным планом произведения, и потенциально завершимый эстетический объект может оказаться нереализованным.
Некоторые современники писателя в своих воспоминаниях зафиксировали тот факт, что в 30–40 гг. тема нищеты постоянно появляется в разговорах и текстах Олеши. Мемуаристы даже отмечают совмещение черт нищего и богача в его психологии. Л. Славин пишет: «Он одновременно хотел быть и нищим, и миллионером. Нищим – чтобы продемонстрировать свое презрение к материальным благам (главное – в духовном!). Миллионером – потому, что он любил пышную, украшенную жизнь»4. Я. Смеляков вспоминает следующую историю: «Олеша вдруг получил большие деньги. Выпив и закусив, мы втроем пошли по предутренней весенней Москве, по ее погасшим переулкам. И по дороге, с молчаливого согласия хозяина, жена его Ольга Густавовна бросала всю дорогу тридцатки (тогда были такие красные денежные купюры) в открытые подвальные и полуподвальные форточки. Нищий любил волшебную жизнь»5.
Бедственное положение, творческая деградация ранее успешного писателя часто осознается исследователями как объяснительный принцип поэтики Олеши. Так, знаменитая книга А. Белинкова называется «Сдача и гибель советского интеллигента», В. Гудкова называет свое предисловие к одному из переизданий произведений Олеши – «Богач, бедняк», А. Жолковский заканчивает статью об Олеше рассуждениями о «блеске и нищете» его стиля6. Литературоведческие интерпретации, таким образом, в какой-то степени реализуют миф, созданный самим автором.
На сознательное выстраивание писателем «мифологии» нищеты обращают внимание В. Десятов и А. Куляпин. «Обе части архетипа “король / нищий” как раз и вырастают в творчестве Олеши из понятия “наследник без наследства”, отчасти восходя к роману Марка Твена “Принц и нищий”, сюжет которого Олеша считал самым поразительным во всем корпусе мировой литературы <…> “Королевские” элементы бытового поведения писателя подкреплены семантикой его патронима – Карлович, т.е. королевич»7.
Действительно, в своих текстах Олеша часто комментирует взаимодействие нищеты и царственности, нищеты и одаренности.На наш взгляд, в этой авторской мифологии «деградации»наиболее важными являются четыре взаимосвязанных момента.
Во-первых, творчество понимается как амбивалентное соотношение нищеты и гениальности. В дневнике Олеши приводится следующий анекдот с участием В. Маяковского.
«Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая “Вечорку”, вдруг кинул в мою сторону:
– Олеша пишет роман «Ницше»!…
– “Нищий”, Владимир Владимирович, поправляю я … – Это все равно, – гениально отвечает он мне.
В самом деле, пишущий роман о нищем – причем надо учесть и эпоху, и мои особенности как писателя – разве не начитался Ницше?»8.
Нищий и сверхчеловек противопоставлены в референтном плане: неимущий Олеша – и Маяковский, имеющий машину, пальто, трость (о чем Олеша не забыл сообщить), но сопоставлены в символическом: ведь ницшеанский сверхчеловек, например Заратустра, становится нищим проповедником.
Социальная деградация человека может быть намеренной (Заратустра спускается с горы к людям), необходимой для поэтического вдохновения. Поэтому история «гибели и сдачи» коррелируется с историей творческой победы. Интересно, что Олеша в дневниках неоднократно вспоминает о бедственном положении именно тех писателей, которых считает гениями (Данте, О. Уайлд). При этом он соотносит писателей с социальным низом, основываясь не только на биографических сведениях, но и на ассоциативных уподоблениях творцов странникам, юродивым, комедиантам.
Во-вторых, по логике писателя, нищета – одно из главных свойств литературных героев. Олеша как бы проецирует личную психологическую травму на архетипические сюжеты мировой культуры: вспоминает Эдипа и короля Лира, превращающихся в нищих странников, рефлексирует новеллу Э. По «Человек толпы», в которой герой следит за стариком в лохмотьях.
В дневниках и в статье «Марк Твен» содержатся подробные пересказы «Принца и нищего». Интересно, что в обоих случаях сюжет пересказывается без линии нищего – подставного принца, оказывающегося во дворце. Для Олеши, который так и не смог «дописать» свой роман о нищем, обратное превращение нищего в короля кажется удивительным. «Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды <…> этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой литературе <…> Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, уже знал о финале?» (461).
В-третьих, нищета символизирует старость, болезнь, умирание любого человека (независимо от возраста). Поэтому встреча с нищим обладает притчевым смыслом, является проверкой для героя. Так, в статье «О маленьких пьесах» Олеша говорит, что лучшая короткая пьеса – это текст Толстого «Петр-мытарь». «В ней рассказывается о судьбе мытаря, который, переменив гнев на милость, подал нищему хлеб»9. Изменение здесь касается не только мытаря, который спасся, оно распространяется на терминологию статьи, где пьесы начинают именоваться «движущимися иконами».
Притчевые коннотации присутствуют и в рассказе «В мире» 1937 г., содержащем проект романа «Нищий». В начале второй части рассказа читаем: «Вот уже год, как думаю о романе. Знаю название – “Нищий”. Образ нищего волнует меня с детства. Может быть, поразила лубочная картинка какая-то, не помню. Сушь, солнце, пустынный ландшафт, кто-то в лаптях – некий Дмитрий Донской – протягивает руку к нищему, который стоит на коленях. Поразили слова: рубище, мытарь»10. Следующий эпизод рассказа повествует о встрече с нищим на Невском проспекте. «Я увидел нищего не сразу. Я пронес кисть руки на уровне его губ, как будто хотел, чтобы рука была схвачена им и поцелована. Он стоял на коленях, выпрямив туловище, черный, неподвижный как истукан. Я боковым зрением, на ходу, воспринял его как льва и подумал: “А где же второй лев?” Оглянулся: нищий. Он стоял, подняв лицо, черты которого, сдвинутые темнотой, слагались в нечто, напоминающее черную доску иконы. Я испугался»» (218)
Сходство между двумя эпизодами (простирание руки и статичность картины) оттеняет развитие эмоции повествователя – от детского удивления к страху перед человеком, превратившимся в черную статую – икону.
Страх приводит к потребности написать роман, и в следующей части рассказа содержится его «начало»: «Однажды осенью, вечером, в слякоть, некий человек, открыв дверь аптеки <…> Одет был человек в ватный пиджак… пиджак лопнул в подмышках, выпустил вату, и теперь она курчавилась по обеим сторонам спины, напоминая крылышки <…> был он, кроме того бос и <…> к тому же еще и приплясывал. Вот так спокойно, в реалистической манере, по старинке, хотелось бы мне начать роман “Нищий”» (221). Но роман продолжен быть не может, потому что повествователь начинает рефлексировать собственное творчество. «Не знаю, как другие пишут романы. Золя составлял точнейший план <…> Я даже и не пытаюсь <…> У меня в папках имеется по крайней мере триста начал “Зависти”…» (222).
Итак, нищий в данной сюжетной ситуации своей «непроницаемостью» провоцирует воображение повествователя, и тем самым, связывается с началом, истоком творческого акта.
В-четвертых, встреча с нищим означает встречу со своим двойником.
В русской литературе двойник героя может оказаться стариком. Так, в рассказе Чехова «Черный монах» галлюцинация Коврина описана следующим образом: «…вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови»11. Но в случае Олеши встреча со стариком может означать встречу с собой.
В дневнике Олеша не раз отмечает несовпадение представлений о себе и своего отражения в зеркале. «И вдруг на молодого меня, который внутри и снаружи, в зеркале смотрит старик. Фантастика! Театр! Когда, отходя от зеркала, я ложусь на диван, я не думаю о себе, что я тот, которого я только что видел. Нет, я лежу в качестве того же “я”, который лежал, когда был мальчиком. А тот остался в зеркале. Теперь нас двое – я и тот»12.
Поскольку нищий может оказаться проекцией сознания героя или повествователя, то встреча с ним «материализует» страх потери идентичности (социальной, профессиональной, творческой). Характерна, в этом отношении, последняя пьеса Олеши – «Список благодеяний». Главная героиня, Леля Гончарова, гениальная актриса, играющая Гамлета, превращается в старуху. В одном из вариантов пьесы это происходит в момент встречи с нищим флейтистом, очень похожим на Чарли Чаплина13. Понятно, что флейтист в какой-то степени двойник не только Чаплина, но и Лели, поскольку она в первом действии играла знаменитую сцену с флейтой из «Гамлета». При этом двойник именуется «человечек» или «человек». Чарли Чаплин в логике Олеши – идеальный нищий, так как, пребывая в одном и том же образе, в каждом новом фильме он оказывается кем угодно, то есть человеком вообще. (Олеша в своих записках, например, заявляет, что экранный Чарли Чаплин – «нищий бродяга» – должен был сыграть Эдгара По).
Таким образом, любой писатель, любой персонаж и любой человек может превратиться в нищего или встретить (увидеть в зеркале) своего нищего двойника. Подобное превращение означает и роковую перипетию судьбы, и выпадение из социальной иерархии, которое осмысливается как через притчевые сюжеты (нищий странник, нищий и мытарь), так и через смеховые образы (нищий бродяга-шут, актер балагана).
Но самым важным смыслом истории о нищем оказывается приобщение к смерти, пустоте. Это сюжетное звено Олеша успевает задействовать даже в незаконченных фрагментах. Погружение в пустоту, естественно, несет негативные коннотации. В «Заметках драматурга» Олеша по-своему воспроизводит аристотелевское определение наилучшей перипетии как движения от хорошего к худшему: «…именно в нашей драматургии возможны такие драмы, где уничтожение производится машиной логики. Физическое уничтожение заменяется логическим. Человек превращается не в труп, а в ноль»14. Однако деградация обладает и своеобразной продуктивностью, позволяя созерцать мир отстраненно, из некоей нулевой точки.
По словам М. Ямпольского, «…всякая репрезентация основана на системе подмен и удвоений, а потому она нуждается в некоем нулевом знаке, который позволил бы осуществлять эти подмены <…> модальность истины такова, что наблюдатель, которому она предстает в качестве точки, не может ее вербализовать. Чтобы выразить ее словами, субъект должен соскальзывать с предписанной ему точки зрения, из мира истинности в мир фикции»15. Олеша, пересказывая Данте, замечает, «Поэты, кстати, по Данте, пребывают ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Они – нигде»16.
Полная или частичная идентификация субъекта творчества и нищего происходит на основании способности к сверхзрению. В. Беньямин говорил, что бывают эпохи «распавшегося мира», когда поэт превращается в старьевщика. «Старьевщик или поэт – оба заняты отбросами <…> Надар упоминает сбивчивую походку Бодлера – это шаг поэта, блуждающего по городу в поисках рифмы, такой же должна быть походка старьевщика, то и дело останавливающегося, чтобы поднять что-нибудь из отбросов»17. Аналогичная ситуация существует и в творчестве Олеши: фрагментированность, раздробленность, незавершенность занимают важнейшее место в его поэтике. В дневниках мучительно рефлексируется склонность автора к созданию бессвязных метафор, и, в то же время, фрагмент называется истинной сущностью искусства. Но, в отличие от Бодлера, Олеша не может своим сверхзрением компенсировать утрату целостности, а из фрагментов создать гармоничный мир. (Не случайно он именует себя «назывателем вещей»).
В соответствии с нарративной логикой писателя, четвертая часть рассказа «В мире», следующая после изложения истории о нищем, посвящена оптическим открытиям. «Я вглядываюсь все сосредоточеннее, и вдруг какой-то сдвиг происходит в моем мозгу: происходит подкручивание шарниров мнимого бинокля, поиски фокуса <…> Чрезвычайно полезно для писателя заниматься такой волшебной фотографией» (223). Однако сопоставление всевидящего творца и нищего, живущего в распавшемся мире, обнаруживает возможность полного прекращения творчества, «превращения в ноль».
Таким образом, тема нищего сверхдетерминирована, связана с осознанием природы творческого дара. Но смысловая напряженность «нулевой точки» письма, долгая рефлексия начала повествования блокирует разворачивание сюжетной истории или осложняет ее движение визуализацией, медитативностью, вставными фрагментами, то есть попытками остановить мгновенье.
1 Олеша Ю. Заговор чувств // Олеша Ю. Пьесы. М., 1968. С. 257.
2 Олеша Ю. Речь на 1 Всесоюзном съезде советских писателей // Олеша Ю. Зависть. роман; Рассказы; Статьи. М., 2006. С. 551. Далее страницы этого издания указываются в скобках в тексте статьи.
3 Олеша Ю. Зависть // Олеша Ю. Зависть: роман; Рассказы; Статьи. М., 2006. С. 57.
4 Славин Л. [Воспоминания] // Воспоминания о Юрии Олеше. М., 1975. С. 20–21.
5 Смеляков Я. [Воспоминания] // Там же. С. 243–244.
6 Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша. М.,1997; Гудкова В. Юрий Олеша: богач, бедняк // Олеша Ю. Зависть. М., 1999. С. 7–15; Жолковский А.К. Попытки «Зависти» у Мандельштама и Булгакова // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994.
7 Десятов В., Куляпин А. «Заклятие сумы и венца»: именные мифологии Николая Гумилева и Юрия Олеши.
8 Олеша Ю. Ни дня без строчки // Олеша Ю. Зависть: роман; Рассказы; Статьи. М., 2006. С. 391.
9 Олеша Ю. О маленьких пьесах // Олеша Ю. Пьесы. М., 1968. С. 287.
10 Олеша Ю. В мире // Олеша Ю. Зависть: роман; Рассказы; Статьи. М., 2006. С. 217.
11 Чехов А.П. Черный монах // Чехов А.П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 7 М., 1956. С. 297.
12 Олеша Ю. Ни дня без строчки С. 414.
13 См. о разных редакциях пьесы: Гудкова В. Ю. Олеша и Вс. Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний». М., 2002.
14 Олеша Ю. Заметки драматурга // Олеша Ю. Пьесы. М., 1968. С. 294.
15 Ямпольский М. Наблюдатель: очерки истории видения. М., 2000. С. 35.
16 Олеша Ю. Ни дня без строчки. С. 435.
17 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Маски времени. СПб., 2004. С. 124.