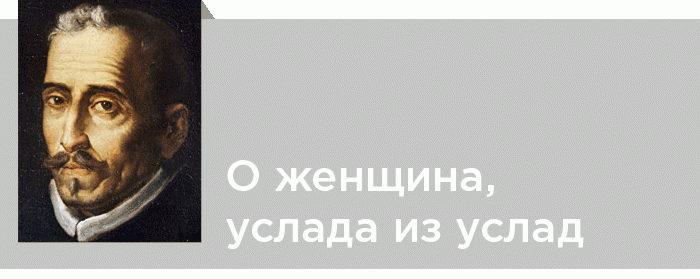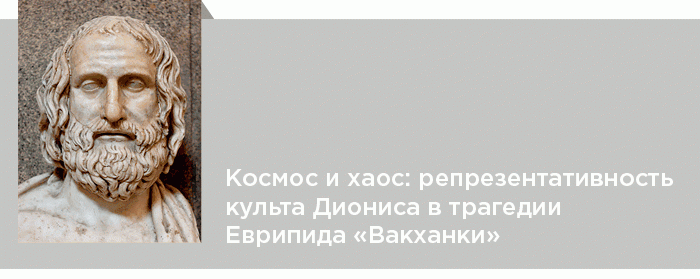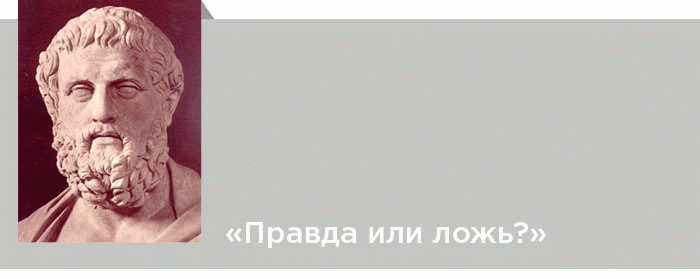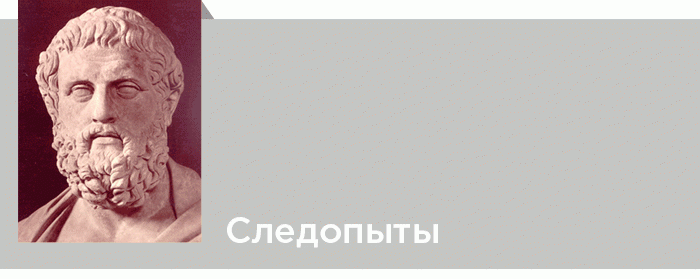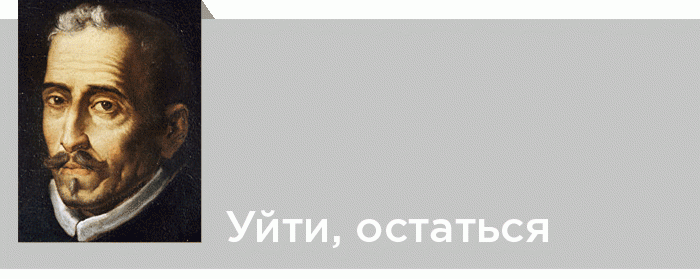Чему учила «дилогия» Софокла об Эдипе?
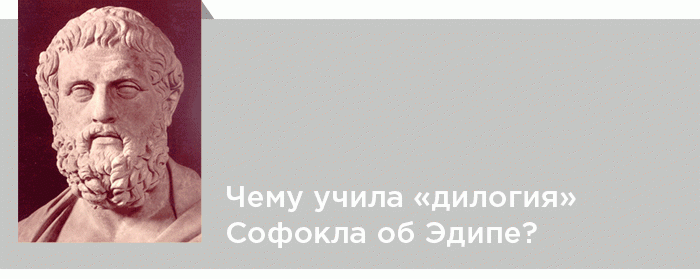
И.Е. Суриков
У величайшего из классических греческих драматургов, Софокла, есть две трагедии о фиванском мифологическом герое Эдипе: «Эдип-царь» и «Эдип в Колоне». Они не представляют собой дилогию в строгом техническом смысле слова (ибо разделены промежутком примерно в четверть века), однако тематически все-таки можно называть их «дилогией». В статье отмечается, что эллинский театр играл ярко выраженную образовательную роль, и в связи с этим ставится вопрос: чему учила афинских зрителей данная совокупность пьес? « Драма Эдипа» понималась в исследовательской литературе весьма по-разному; ныне наиболее популярна ее психоаналитическая трактовка, но она представляется весьма шаткой (так называемый Эдипов комплекс, в сущности, изобретен З. Фрейдом без прямой опоры на сюжет мифа об Эдипе); равным образом уязвима романтическая интерпретация «Эдипа-царя» как «трагедии рока». В нашем представлении фатальная ошибка (ἁμαρτία) софокловского Эдипа заключается в том, что он не следует велению богов, которое для драматурга превыше всего, даже если кажется противоречащим нормам нашей человеческой справедливости (δίκη). Пафос трагедий об Эдипе – конечное торжество не δίκη, а σωφροσύνη; в этом плане они (особенно «Эдип в Колоне») представляют собой не очень оптимистическую теодицею, сопоставимую с той, которая проводится в библейской «Книге Иова». РазбираемыепроизведенияСофоклаучилисмирениюиповиновениюбогам.
Among tragedies of the greatest Classical Greek dramatist, Sophocles, there are two, which are devoted to a Theban mythological hero, Oedipus: “Oedipus the King” and “Oedipus at Colonus”. They do not compose a dilogy in a strict technical sense (for they are divided by a chronological space of about quarter of a century), but thematically they can in any sense be called a “dilogy”. The article points that the Hellenic theatre played an emphasized pedagogical role, and in this connection, it poses a question: what did this series of plays teach its audience? The “Oedipus drama” has been understood in scholarly literature in different ways; nowadays, its psychoanalytical treatment is most popular, but it is rather vague (the socalled Oedipus complex was, as a matter of fact, invented by S. Freud without a direct reference to the fabula of the Oedipus myth); equally vulnerable is the Romantic interpretation of the Oedipus the King as a “tragedy of fate”. As we see it, the fatal mistake (ἁμαρτία) of Sophocles’ Oedipus is that he does not follow the gods’ will, which is above all for our dramatist, even if it seems to contradict the norms of our human justice (δίκη). The pathetic of the Oedipus tragedies is the final triumph not of δίκη, but of σωφροσύνη; in this sense they (especially the Oedipus at Colonus) represent not a very optimistic theodicy comparable with the one, which we find in the Biblical Book of Job. Sophocles’ works in question taught humility and obedience to the gods.
Огромная образовательная роль древнегреческого театра классической эпохи (особенно применительно к такому жанру, как аттическая трагедия V в. до н.э.), естественно, никем никогда не подвергалась сомнению. Она признавалась уже античными теоретиками литературы (прежде всего, конечно, Аристотелем в «Поэтике» – на важнейшем из релевантных пассажей данного трактата мы еще остановимся чуть ниже), признается и поныне. Но одно дело – просто декларативно высказать тезис, а другое – обосновать его демонстрацией конкретных механизмов воспитательного воздействия античных театральных драм. В ограниченных рамках статьи, разумеется, есть возможность затронуть лишь отдельные аспекты столь широкой проблематики, к тому же на материале одного (но, полагаем, репрезентативного и в то же время в каких-то отношениях немного неожиданного) сюжета.
Впрочем, вначале – несколько слов общего характера. Все образованные люди, конечно, слышали о знаменитом трагическом катарсисе (κάθαρσις, буквально – «очищение»). Эта категория, введенная как раз Аристотелем, на протяжении веков будоражит умы интеллектуалов – и историков, и философов, и филологов…
Приведем определение, которое Аристотель дает самому жанру трагедии. Мы процитируем его в чаще всего использующемся ныне переводе выдающегося специалиста М.Л. Гаспарова, а наиболее важное место выделим курсивом:
«Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по-разному в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (катарсис. – И.С.) подобных страстей (δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνοντα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν)» (Arist. Poet. 1449b22 sqq.)[1].
Так что же здесь имеется в виду под катарсисом, как понимать пресловутое «очищение страстей»? Место очень сложное, и было предложено бесчисленное количество его толкований, объяснений трагического катарсиса, как его понимал Аристотель[2]. Нужно помнить еще, что термин «Катарсис» не был изобретен этим философом, он применялся задолго до него, причем как в религии, так и в ме дицине.
А совсем недавно отечественная исследовательница Н.В. Брагинская выдвинула совершенно новую гипотезу, которая, если она верна, решительно опровергает все предыдущие и делает бессмысленными многовековые дискуссии по этой проблеме[3]. Иными словами, мы имеем дело с открытием мирового значения. В чем же оно заключается?
Древнегреческие слова πάθημα («страсть») и μάθημα («урок») очень похожи, они отличаются друг от друга всего-навсего одной буквой. В одной из рукописей «Поэтики», кстати, в соответствующем месте так и стоит – не πάθημα, а μάθημα. А что если как раз это чтение верно? Если Аристотель именно так и написал, а появившаяся потом в манускриптах πάθημα – продукт ошибки переписчиков? Напутать, как видим, действительно было легко.
Тогда мы должны будем весь процитированный пассаж понимать в совершенно ином смысле. В частности, и «Катарсис» в таком случае будет обозначать не «очищение», а «уяснение, уразумение» (термин может иметь и такое значение). Опираясь на этот ход мысли, Н.В. Брагинская предлагает взамен традиционного гаспаровского перевода аристотелевского определения трагедии свой рабочий вариант перевода: «Трагедия есть воспроизведение поступков (событий), …приводящее через страх и жалость к уразумению (или уяснению) таких (т.е. страшных и вызывающих жалость) уроков».
Большой плюс пересказанной здесь новой концепции заключается в том, что в ней делается акцент на воспитательное значение трагедии, на то, что она являлась средством уяснения неких уроков. Несомненно, именно так оно и было. Ведь не можем же мы предположить, что греки из чистого удовольствия ходили смотреть на то, как на сцене убивают людей. Греки – это все-таки не римляне, которым гораздо милее, чем театральные постановки, были бои гладиаторов.
Кстати, нельзя не отметить, что никаких убийств на сцене в эллинской трагедии на самом деле как раз и не было. Любые эпизоды с кровопролитием предполагались происходящими не на глазах у публики, а, как бы мы теперь сказали, «за кулисами». Зрителям же о них просто рассказывал кто-нибудь из персонажей. Самое большее, режиссер мог повернуть платформу с помощью специального приспособления – и на орхестре оказывались лежащие актеры, изображающие погибших.
* * *
Теперь перейдем к конкретике. В литературе (особенно популярной) нередко фигурирует выражение «фиванская трилогия Софокла». В таковую включают трагедии «Эдип-царь», «Эдип в Колоне» и «Антигона», а «фиванской» ее называют потому, что сюжеты соответствующих драм взяты автором из мифологического цикла о Фивах и их легендарных героев.
Подчеркнем, что объединять эти произведения в драматическую трилогию в строгом, «техническом» смысле слова нет ровно никаких оснований. Афиняне в V в. до н.э. понимали под трилогией такую группу из трех трагедий, которая не просто была посвящена одной сюжетной линии (т.е. пьесы напрямую продолжали друг друга), но была и поставлена на театре одновременно, на протяжении какого-либо из дней Великих Дионисий. И только одна «реальная» трилогия дошла до нас целиком – «Орестея» Эсхила (трагедии «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»).
К перечисленным драмам Софокла это применить никак нельзя. Достаточно указать на то, что «Антигона», по времени действия наиболее поздняя (в ней описываются события, имевшие место уже после смерти Эдипа), по времени создания является, наоборот, самой ранней (конец 440-х гг. до н.э.)[4]. «Эдип-царь» был написан и поставлен в начале Пелопоннесской войны (наиболее вероятная дата – 429 г. до н.э.)[5], а «Эдип в Колоне» – последнее, предсмертное творение великого поэта, представленное на суд публики уже после его кончины, в 401 г. до н.э.
Ясно, таким образом, что, работая над «Антигоной», Софокл еще не мог знать, что в дальнейшем вновь вернется к фиванской теме. Но, с другой стороны, точно так же ясно и то, что две трагедии об Эдипе не могут не быть связаны друг с другом. Хотя они разделены немалым хронологическим промежутком – весьма характерен уже тот факт, что на склоне лет престарелый драматург возвратился к «эдиповской» проблематике, которая волновала его еще почти за четверть века до того. Создавая «Эдипа в Колоне», он, конечно же, держал в уме основные религиозно-этические коллизии «Эдипа-царя» и фактически писал именно продолжение. Иными словами, мы, думается, имеем право определить совокупность двух этих драм как «дилогию» об Эдипе (слово «дилогия» ставим в кавычки, поскольку оно здесь в известной мере условно и отражает лишь сюжетную и концептуальную связь между произведениями, достаточно сильно разнесенными во времени). «Антигона» же все-таки стоит несколько особняком (хотя, как увидим ниже, поэт и ее имел в виду, творя образ Эдипа).
Несколько слов о личности и мировоззрении Софокла. Этот деятель древнегреческой культуры в высшей степени воплощал в себе античный идеал калокагатии[6]. Этот последний термин происходит от древнегреческого словосочетания καλὸς κἀγαθός, которое на русский язык дословно перевести довольно трудно – приходится прибегать к описательным выражениям. Пожалуй, ближе всего к сути окажется перевод «прекрасный телом и душой». Калокагатия – идеал человека, который гармонично сочетает в себе физические, интеллектуальные, нравственные достоинства. Человека без какого-либо одностороннего уклонения в развитии личности.
Софокл отличался редкостной красотой, был большим жизнелюбом, человеком с открытым, располагавшим к нему характером. Он занимался интенсивнейшей творческой деятельностью, написал более 120 драм. Но это не мешало ему активно участвовать и в политической жизни (Софокл не раз занимал высокие государственные должности, как военные, так и гражданские), а также в жизни религиозной (он ввел в Афинах культ бога врачевания Асклепия и, вполне вероятно, сам был хорошим знатоком медицины[7]). Прожив более девяноста лет, поэт и в глубокой старости сохранил полную ясность и здравость ума, продолжал создавать прекрасные литературные произведения.
А о Софокле как о высоконравственной личности хорошо говорит следующий эпизод. Его извечным соперником на афинской театральной сцене являлся Еврипид, который был на 16 лет моложе. Поскольку представления пьес в Афинах всегда происходили в форме конкурса и шла острая борьба за первое место, драматурги воспринимали друг друга как конкурентов, и обстановка во время сценических состязаний часто становилась накаленной. Друзьями Софокл и Еврипид, понятно, не были. Однако, когда в Афины пришла весть о кончине Еврипида в Македонии, куда он незадолго до того уехал, старый Софокл на ближайшую же постановку вывел актеров и хор в траурных одеяниях. Так он хотел почтить память своего младшего коллеги и соперника.
А несколько месяцев спустя умер и сам он. Сограждане, видевшие в Софокле живое воплощение калокагатии, оказали ему редчайшую честь: посмертно причислили к героям – существам сверхчеловеческого порядка.
За свою долгую, девяностолетнюю жизнь драматург был свидетелем и подъема Афин, и их высшего расцвета, и их глубокого кризиса в ходе Пелопоннесской войны. Все эти события оказали влияние на его взгляды. Софокл – глубоко религиозный человек. Но боги для него – не воплощение справедливости, как для его непосредственного предшественника Эсхила, а могущественные и непостижимые силы. Их следует просто почитать, во всем повинуясь их велениям, установленным ими высшим законам. Человек, как бы он ни был могуч, доблестен и прекрасен сам по себе, бессилен перед их лицом и обречен за неудачу в борьбе с ними. Но в согласии с богами он достигнет рано или поздно, хотя бы и за пределом земной жизни, счастья и блаженства. Иными словами, эсхиловский оптимизм у Софокла уже значительно подорван; все упования возлагаются на безусловную и в чем-то даже слепую веру в благую силу божества.
* * *
Покажем это на примере лучшего софокловского произведения – уже не раз упоминавшегося выше «Эдипа-царя». Для начала просто перескажем вкратце ее сюжет, а значит, и соответствующий миф. Ведь, как известно, сюжеты драм аттические трагедиографы в V в. до н.э. не придумывали, а брали по большей части из мифологии (изредка также из недавней истории; ср., например, «Персы» Эсхила). Кстати, получается, что сюжеты трагедий были зрителям уже заранее знакомы: мифы-то все знали с детства, впитав их, так сказать, с молоком матери!
Если в наши дни пьесу или фильм смотрят не в последнюю очередь постольку, поскольку «интересно, а что же там дальше будет?» (а перестает быть интересным – зачастую бросают смотреть), то для афинянина такой мотивации не существовало вовсе. Само название трагедии уже всё говорило. Если зритель шел на трагедию «Эдип», то прекрасно знал: заглавный герой по неведению убьет собственного отца и женится на собственной матери. Если шел на «Аякса» – то знал не менее прекрасно: герой перебьет по ошибке стадо скота, а потом покончит с собой…
Поскольку миф – не сказка, а священное предание, любые изменения в нем (кроме разве что совсем мелких, незначащих деталей) со стороны поэтов-драматургов были абсолютно недопустимы. Никак нельзя было сделать так, чтобы, скажем, Орест пощадил свою мать клитемнестру, если он должен пронзить ее мечом, или «заставить» Ахилла жениться на Ифигении (хоть он был и не против), коль скоро эту девушку ждала совсем иная судьба – быть таинственно перенесенной на крымские берега и стать там жрицей, совершающей человеческие жертвоприношения. Одним словом, афинские зрители следили не за развитием событий, а за качеством пьесы, за тем, насколько хорошо автору, постановщику (которым, как правило, был сам же автор), актерам удалось воплотить свой замысел.
Итак, знаменитый миф об Эдипе[8]. Он весь пронизан проявлениями того, что мы часто называем «иронией судьбы». Но это – очень мрачная, просто-таки грозная ирония! На ее фоне люди постоянно страдают от того, что не могут ни предотвратить свершающиеся события, как бы ни старались, ни хотя бы постигнуть их. Они оказываются какими-то беспомощными игрушками в руках сил более высокого порядка.
…У фиванского царя Лая долго не было детей. Он отправился в Дельфы вопросить оракул при святилище Аполлона: суждено ли ему иметь наследника? Ответ, данный Лаю пифией, был таким: у тебя родится сын, но он-то тебя и убьет! Услышав такие слова, царь возвращался домой с твердым намерением больше и не думать о том, чтобы стать отцом. Но в Фивах жена Иокаста встретила его вестью: только-только муж уехал, и она почувствовала себя беременной.
Когда родился мальчик – а это и был Эдип, – Лай решил избавиться от него. Он приказал своим пастухам отнести ребенка на горы, в лес, куда-нибудь подальше, к границам страны, и бросить там на съедение диким зверям. Те повиновались. Однако младенец не погиб: на него случайно наткнулись пастухи из соседнего Коринфского царства. Подобрав новорожденного, они взяли его в Коринф и отдали своему царю Полибу. Тот, тоже бездетный, порадовался такому «дару богов» и усыновил Эдипа.
Отвлечемся на минуту. Перед нами – очень распространенная фольклорная схема: обреченный на смерть, но чудесным образом спасшийся ребенок, который потом становится славным героем. Такие легенды рассказывали не только о персонажах мифов, но даже и о лицах вполне исторических: о древнем царе Шумера и Аккада Саргоне, об основателе персидского могущества Кире, о великом еврейском пророке Моисее, об основателе Рима Ромуле, о коринфском тиране кипселе… А из эллинских мифологических персонажей можно упомянуть, например, Персея.
Итак, Эдип подрастал в коринфском царском дворце. Он, разумеется, не подозревал о том, что является подкидышем, и считал себя сыном царя и царицы Коринфа. Повзрослев, он, как водится, тоже отправился в Дельфы – поинтересоваться, как сложится в дальнейшем его жизнь. Аполлон, опять же устами прорицательницы-пифии, возвестил: Эдип убьет своего отца и женится на своей матери.
Юноша ужаснулся и решил приложить все усилия к тому, чтобы такое никогда не случилось. А для этого – никогда больше не возвращаться в Коринф: ведь он был твердо убежден, что его родители там! И он пошел из Дельф не по коринфской дороге, а по другой, ведущей… в Фивы.
По пути встретился ему какой-то знатного вида незнакомец, едущий в колеснице. Он грубо оскорбил Эдипа, когда тот не уступил ему дорогу. Эдип был молодым человеком отнюдь не робкого десятка, к тому же получил воспитание, подобающее царскому сыну, и обиды стерпеть не мог. Он выхватил меч и заколол обидчика. Как уже догадался внимательный читатель, убит им был, конечно, не кто иной, как Лай.
Через некоторое время Эдип сумел освободить Фивы от чудовища Сфинкса[9], от которого долго страдал город. Фиванцы даже приняли закон: кто сумеет сделать это, быть тому царем (тем более что прежний правитель, Лай, куда-то бесследно исчез, и престол был вакантен). И вот Эдипу вручают царский венец; он, исполняя обычай, вступает в брак с царицей, то есть с Иокастой.
Они прожили вместе много лет, у них родились дети – два сына (Этеокл и Полиник) и две дочери (Антигона и Исмена). Подчеркнем еще раз, что всё это Эдип совершил по неведению, понятия не имея, что женат на собственной матери. Он думал, что родители его – Полиб и его супруга – мирно живут себе в Коринфе. А когда пришла весть об их кончине, естественная скорбь соседствовала в Эдиповой душе с некоторым чувством гордости: вот, он сумел избежать злосчастной судьбы – не убил отца, не женился на матери, перехитрил самих богов!
Но всё тайное когда-то становится явным. На Фивы обрушивается эпидемия чумы. На вопросы – за что страдает город? – все оракулы дают единодушный ответ: среди фиванцев находится отцеубийца и нечестивец, за его вину и несут наказание сограждане.
Эдип лично приступает к расследованию. Собственно, именно на этом месте мифа и начинается трагедия Софокла[10]: о том, что было раньше, зрители прекрасно знали. Можно даже сказать, что «Эдипцарь» в каком-то смысле – первый детектив в истории мировой литературы. Следствие, которое ведет фиванский владыка, оказывается успешным, но именно тем самым открывает перед ним страшную правду. Это он – отцеубийца, это он взял в жены собственную мать! Узнав о содеянном, Иокаста совершает самоубийство, а сам Эдип выкалывает себе глаза: он не может больше смотреть на свет дня.
* * *
Веками ученые спорили: в чем же смысл этого произведения Софокла (кстати говоря, многократно реципировавшегося в современной культуре – литературе, театре, кино, опере и пр.[11])? Что хотел сказать своей аудитории великий драматург? Выдвигались самые разные интерпретации, порой весьма экзотичные[12]. Особенно популярна психоаналитическая трактовка[13]. А именно: основатель психоанализа, знаменитый Зигмунд Фрейд, отталкиваясь от сюжета «Эдипа-царя», изобрел так называемый «Эдипов комплекс»: будто бы у каждого мужчины с детства живет в подсознании желание убить отца и жениться на матери. Оставим эти рассуждения на совести венского психиатра. На самом-то деле Эдип отнюдь не желал ничего подобного – говорить ли о сознании или о подсознании, – напротив, как прекрасно можно увидеть и из драмы Софокла, и из мифа, он всеми силами стремился к тому, чтобы этого не свершилось, но просто считал отцом и матерью не тех людей, которые ими являлись.
Нет, трагедия – совсем о другом. В чем вина Эдипа, за что несет он кару? Он, в общем-то, никак не отрицательный герой. Он доблестен, благороден, великодушен, справедлив… А жизнь все-таки привела его к столь горестному финалу. Почему?
Первое, что приходит в голову читателю наших дней: ведь все-таки Эдип убил оскорбившего его незнакомца. Да, он не знал, что перед ним его отец, но человекоубийство само по себе – грех достаточный, чтобы стать причиной божественного наказания. Однако античному эллину такой ход мышления, вполне привычный для нас, был чужд. Мир Древней Греции – мир «Культуры стыда», а не «Культуры вины»[14]. В этом мире, как ни парадоксально, порой «правильнее» убить, чем не убить. Аякс в одноименной трагедии того же Софокла закалывается именно потому, что он не убил своих обидчиков – Агамемнона, Одиссея и др., – а отнюдь не потому, что он хотел их убить. Эдип поступил именно так, как подсказывало его аристократическое самоощущение, и любой другой эллинский мифологический герой в схожей ситуации повел бы себя не иначе.
Ответ на вопрос о вине Эдипа опять ускользает от нас… Поэтому давно, уже лет двести тому назад, немецкими романтиками было предложено считать: «Эдип-царь» – вообще не трагедия вины, а трагедия Рока. Эдип ни в чем не повинен, а судьба, так сказать, ломает его через колено. Но это тоже, на наш взгляд, не самый удачный выход из ситуации. Показать беспричинные страдания невиновного человека – какой в этом мог быть смысл для великого драматурга, а главное, какой воспитательный заряд для зрителей несла бы такая трагедия? Нет, не принято было у классических греческих драматургов, чтобы зря страдал во всех отношениях безупречный герой.
Процитируем в связи со сказанным еще одно место из «Поэтики» Аристотеля. Многие содержащиеся в этом трактате высказывания о трагедии чрезвычайно интересны. Она, по мнению философа, должна порождать в зрителях сострадание (ἔλεος) и страх (φόβος). Отсюда следует:
«…Очевидно, что не следует: ни чтобы достойные люди являлись переходящими от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, а только возмутительно; ни чтобы дурные люди переходили от несчастья к счастью, ибо это уж всего более чуждо трагедии, так как не включает ничего, что нужно, – ни человеколюбия, ни сострадания, ни страха; ни чтобы слишком дурной человек переходил от счастья к несчастью, ибо такой склад хоть и включал бы человеколюбие, но не включал бы ни сострадания, ни страха, ибо сострадание бывает лишь к незаслуженно страдающему, а страх – за подобного себе, стало быть, такое событие не вызовет ни сострадания, ни страха. Остается среднее между этими крайностями: такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости (μήτε διὰ κακίαν καὶ μοχθηρίαν), а в силу какой-то ошибки (δι’ ἁμαρτίαν τινά), быв до этого в великой славе и счастье, как Эдип, Фиест и другие видные мужи из подобных родов» (Arist. Poet. 1452b32 sqq.)[15].
Что такое ошибка и чем она отличается от вины? Ошибка – тоже дурной поступок, но совершенный не сознательно, а по неведению. Именно это, как мы видели, происходит с Эдипом. Не случайно он-то и назван здесь у Аристотеля как один из образцов типичного трагического героя. Не злой, не порочный – но и не во всех отношениях безупречный. Второй упомянутый здесь персонаж, Фиест, съел – тоже по незнанию – мясо собственных детей.
Обратим внимание, кстати, на то, что древнегреческая лексема ἁμαρτία, изначально означавшая именно ошибку, «погрешность» (в том смысле, как допустим, в указании школьного учителя ученику, что он допустил в работе погрешности: не по злому же умыслу тот это сделал, а по незнанию или по небрежности), впоследствии, в христианском словоупотреблении, приобрело устойчивое значение «грех». Точнее, в восточнохристианском. Здесь можно было бы указать, что в православном и католическом вариантах христианства само понятие греха принципиально разнится (для католиков грех – вина, для православных – болезнь; в католицизме священник, отпускающий грехи, может быть в чем-то уподоблен юристу, отсюда индульгенции и пр., а в православии священник скорее схож с врачом), но это увело бы нас слишком далеко от основной нити изложения.
Итак, в чем же ошибка (погрешность) Эдипа, в чем его ἁμαρτία, приводящая его в конечном счете именно к болезни – и душевной, и физической? Ведь, как бы то ни было, эта ἁμαρτία за Эдипом все-таки есть. И, хотим мы того или не хотим, для Софокла она заключается в том, что он не последовал божьему велению, а пытался ему воспротивиться. Но как?! – сразу же возникает недоуменный вопрос. Ведь Бог-то фактически велел совершить нечестивое, недоброе.
А для Софокла это неважно. Боги у него настолько неизмеримо превосходят людей, что вообще не в наших слабых человеческих силенках выносить оценки их приказаниям. Надо их просто слушаться. И воля богов обязательно будет благой, даже если нам и кажется несправедливой. Они лучше знают, что делать. Поэт прямо пишет (в одной из драм, сохранившихся лишь во фрагментах):
Мудр только тот, кого почтили боги:
Им вверь себя. Хотя бы против правды (ἔξω δίκης)[16]
Идти велели – нужды нет, иди:
Дурным не будет, что они прикажут
(αἰσχρὸν γὰρ οὐδὲν ὧν ὑφηγοῦνται θεοί).
(Soph. fr. 247 Radt)[17].
Кстати, укажем, что та трагедия, к которой принадлежит процитированный отрывок,– «Фиест», а она, как упоминалось чуть выше, близка была по духу к «Эдипу-царю».
Так что же, Софокл презирает человека, принижает его? Об этом и речи быть не может. Ведь именно этому писателю принадлежат проникновенные строки, которые, наверное, во всей античной литературе с наибольшим основанием могут быть названы Гимном Человеку. Они содержатся в другой знаменитой софокловской трагедии (но тоже на «фиванскую» тематику), в «Антигоне», которая была написана намного раньше и «Эдипа-царя», и тем более «Эдипа в Колоне». Из этого текста просто необходимо процитировать некоторые части:
Много в природе дивных[18] сил,
Но сильней человека – нет.
Он под вьюги мятежный вой
Смело за море держит путь…
И беззаботных стаи птиц,
И породы зверей лесных,
И подводное племя рыб
Власти он подчинил своей…
И речь, и воздушную мысль,
И жизни общественной дух
Себе он привил; он нашел охрану
От лютых стуж – ярый огнь,
От стрел дождя – прочный кров.
Благодолен! Бездолен не будет он в грозе
Грядущих зол…
(Soph. Ant. 332 sqq.)[19]
Однако кончается этот гимн следующим противопоставлением:
кто Правды дщерь, клятву чтит,
Закон страны, власть богов, –
Благороден! Безроден в кругу сограждан тот,
кого лихой кривды путь
В сердце дерзостном пленил:
Ни в доме гость, ни в вече друг
Он мне да не будет!
(Soph. Ant. 367 sqq.)[20]
С «оглядкой» на постулаты из «Антигоны», не сомневаемся, писались драматургом обе трагедии об Эдипе. Итак, человек достоин прославления, только если он вместе с богами. Ибо, как бы ни был он велик и могуч сам по себе, в сравнении с ними он – ничто. Бесполезно противостоять небожителям. И как раз на примере Эдипа это показано с исчерпывающей полнотой. Гордый фиванец пытался противиться божественной воле – и попал в пучину бед. Слепой, он был в конце концов изгнан из города собственными сыновьями. Однако старец пришел в Афины, примирился со всем, что выпало на его долю, и прославил богов. В результате он получил посмертное блаженство. Этому посвящена самая последняя трагедия Софокла, «Эдип в Колоне»[21], написанная им уже в глубокой старости (поставлена она была посмертно), но по сюжету, повторим и подчеркнем, представляющая собой прямое продолжение «Эдипа-царя».
Эдип, скончавшись в Аттике, был героизирован. Причем его святилище находилось в аттическом местечке Колон22 (т.е. в нем он нашел свою кончину), а именно там, заметим, родился сам Софокл23. Волей-неволей возникает в уме некая игра ассоциаций: героизированный персонаж и героизированный автор…
* * *
В начале статьи мы неслучайно подчеркнули, что в плане педагогического воздействия древнегреческого театра рассмотрение драм Софокла об Эдипе дает результаты не только репрезентативные, но и неожиданные. Даже, мы сказали бы, в известной мере загадочные, но только на первый взгляд.
Ибо чему все-таки учат они в своей совокупности? Необходимо подчеркнуть: они учат смирению. Точнее, такому качеству, как σωφροσύνη. Это последнее понятие24 чрезвычайно трудно передать на русском языке. В христианской традиции (например, в славянском изводе библейских текстов) σωφροσύνη регулярно переводится как «целомудрие», что в целом верно этимологически, но ныне становится отчетливо неверным по узусу, ибо в последнем на современном этапе слово «целомудрие» возымело совершенно иное (сугубо половое) значение. В результате приходится придумывать какие-то иные варианты перевода. «Умеренность»? «Воздержность»? «Самообладание»? Всё это одновременно и верно, и неверно, поскольку лишь частично передает смысл разбираемого термина, включающего целый комплекс взаимосвязанных смыслов. Говоря описательно, σωφροσύνη – это самоограничение, умение удержать «сверхчеловеческий» порыв, который, со своей стороны, обозначался знаменитой лексемой ὕβρις.
Ὕβρις обычно переводят как «спесь, наглость, гордыня», но всё это опять же не вполне точно. Ὕβρις – дерзостное стремление человека подняться над своим человеческим уделом, превзойти его, стать существом высшего порядка. Слово ὕβρις происходит от предлога ὑπέρ – «над». Греческое ὑπέρ – то же самое, что латинское super. Ὕβρις – это, в сущности, стремление стать «суперменом», сверхчеловеком[25].
Софокл – принципиальный противник подобной позиции, когда она занимается индивидом в прижизненный период. Самая ранняя из его дошедших трагедий, «Аякс»[26], в сущности, целиком посвящена именно этой самой проблематике.
Но вернемся к «эдиповским» трагедиям нашего автора. Основной их пафос, как мы его видим, заключается в следующем. Человек велик, силён; но все же перед лицом всемогущих небожителей он – лишь песчинка. Наши представления о справедливости могут совершенно не коррелировать с божескими – но сравнивать их бессмысленно, нужно просто повиноваться. И в этом повиновении – залог оправдания мира. Можно говорить о том, что Софокл в вышерассмотренных своих сочинениях создал своеобразную системную теодицею. Причем отнюдь не похожую на ярко оптимистическую теодицею Эсхила[27], а по своему основному духу вызывающую скорее ассоциации, как ни парадоксально, с ветхозаветной «Книгой Иова», в которой сам сатана выступает как один из служителей Бога. Правда, у Софокла Эдип вознагражден посмертным блаженством, а в «Книге Иова» идеи о загробном воздаянии нет[28]. Тем не менее в целом просто-таки напрашивается параллель между творениями величайшего и, так сказать, наиболее классичного эллинского драматурга и выдающимся памятником29 древнееврейской словесности[30], тем более что перед нами, в сущности, практически одновременные произведения («Книга Иова» с наибольшей вероятностью датируется периодом около 400 г. до н.э.[31], именно тогда в Афинах был поставлен «Эдип в Колоне»). Но разбор этих двух «параллельных теодицей» мог бы стать темой отдельного исследования.
[1] Аристотель. Сочинения в четырех томах / под ред. А.И. Доватура, Ф.Х. Кессиди. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – С. 651.
[2] Подробнее см.: Рабинович Е.Г. «Безвредная радость»: о трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis. Из истории античной науки и философии / отв. ред. И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1991. – С. 103–114; Schlesier R. Lust durch Leid: Aristoteles’ Tragödientheorie und die Mysterien. Eine interpretationsgeschichtliche Studie // Die athenische Demokratie in 4. Jahrhundert v. Chr. / hg. von W. Eder. – Stuttgart: Steiner, 1995. – S. 389–415.
[3] Доклад Н.В. Брагинской «Pathemata – mathemata, или как исправление одной буквы породило множество теорий» на международной конференции «Античность и современность» памяти Ж.-П. Вернана и П. Видаль-Накэ (сентябрь 2007 г., ИНИОН РАН). Доклад мы имели счастье слушать лично. Насколько нам известно, на момент написания этих строк концепция Н.В. Брагинской еще не была опубликована в печатном виде. Соответственно, приходится сослаться на краткое резюме доклада в отчете о конференции: Литвиненко Ю.Н. Международная конференция «Античность и современность» // Вестник древней истории. – 2008. – № 1. – С. 225.
[4] Автор настоящей работы в основном следует хронологии драм Софокла, представляющейся ему наиболее обоснованной и принятой, в числе прочих, в книге: Whitman C.H. Sophocles: A Study of Heroic Humanism. – Cambridge Mass.: Harvard University Press,1951. – P. 55. Из той же хронологии мы исходили и в нашей монографии: Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. – М.: ИВИ РАН, 2002.
[5] См. к историческому контексту постановки: Macurdy G.H. References to Thucydides, Son of Melesias, and to Pericles in Sophocles OT 863–910 // Classical Philology. – 1942. – Vol. 37. – No 3. – P. 307–310.
[6] Детальный анализ понятия калокагатии см. в работе: Лосев А.Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. – М.: Искусство, 1994. – кн. 2. – С. 386–439.
[7] Зелинский Ф.Ф. О Софокле-враче // Журнал Министерства народного просвещения. – 1896. – Ч. 304–305. – С. 28–62.
[8] См. о нем и о его отражении в античной литературе, в частности: Dressler A. Oedipus on Oedipus: Sophocles, Seneca, Politics, and Therapy // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 507–522; Worman N. Oedipus, Odysseus, and the Failure of Rhetoric // Brill’s Companion to Sophocles / ed. by A. Markantonatos. – Leiden; Boston: Brill, 2012. – P. 325–347.
[9] В связи с образом Сфинкса (точнее с образом Сфинкс, поскольку в древнегреческом языке это слово женского рода) у эллинов см.: Dessenne A. Le Sphynx, d’après l’iconographie, jusqu’à l’archaïsme grec // Éléments orientaux dans la religion grecque ancienne: Colloque de Strasbourg 22–24 mai 1958. – P.: Presses Universitaires de France, 1960. – P. 155–161.
[10] Отметим, что исследовательская литература о трагедии «Эдип-царь» весьма обильна. Укажем лишь несколько работ недавнего времени: Liapis V. Oedipus Tyrannus // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 84–97; McClure L. Staging Mothers in Sophocles’ Electra and Oedipus the King // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 367–380; Beer J. Oedipus Tyrannus // Brill’s Companion to Sophocles / ed. by A. Markantonatos. – Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 93–110; Manuwald B. Wann verlässt Ödipus die Bühne? Zum Schluss der Teiresias-Szene in Sophokles’ König Ödipus // Rheinisches Museum für Philologie. – 2012. – Bd. 155. – Ht. 2. – S. 128–141; Kovacs D. The End of Sophocles’ Oedipus Tyrannus: The Sceptical Case Restated // Journal of Hellenic Studies. – 2014. – Vol. 134. – P. 56–65.
[11] McDonald M. The Dramatic Legacy of Myth: Oedipus in Opera, Radio, Television and Film // The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre / ed. by M. McDonald and J.M. Walton. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 303–326; Macintosh F. An Oedipus for our Times? Yeats’s Version of Sophocles’ Oedipus Tyrannos // Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin / ed. by M. Revermann and P. Wilson. – Oxf.: Oxford University Press, 2008. – P. 524–547.
[12] Например, в свете скандально известной теории Мартина Бернала: Wilson E. Black Oedipus // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: WileyBlackwell, 2012. – P. 572–585.
[13] См. о ней: Bremmer J. Oedipus and the Greek Oedipus Complex // Interpretations of Greek Mythology / ed. by J. Bremmer. – L.: Routledge, 1990. – P. 41–59; Macintosh F. Oedipus in the East End: from Freud to Berkoff // Dionysus since 69: Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium / ed. by E. Hall, F. Macintosh and A. Wrigley. – Oxf.: Oxford University Press, 2004. – P. 313–327; Pollock G. Beyond Oedipous: Feminist Thought, Psychoanalysis, and Mythical Figurations of the Feminine // Laughing with Medusa: Classical Myth and Feminist Thought / ed. by V. Zajko and M. Leonard. – Oxf.: Oxford University Press, 2006. – P. 67–117; Schur D. Jocasta’s Eye and Freud’s Uncanny // Bound by the City: Greek Tragedy, Sexual Difference, and the Formation of the Polis / ed. by D.E. McKoskey, E. Zakin. – Albany: State University of New York Press, 2009. – P. 103–118; Armstrong R.H. Freud and the Drama of Oedipal Truth // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 477–491.
[14] Ярхо В.Н. Была ли у древних греков совесть? (к изображению человека в аттической трагедии) // Античность и современность: к 80-летию Ф.А. Петровского / под ред. М.Е. Грабарь-Пассек и др. – М.: Наука, 1972. – С. 251–264; Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н.э. – 2-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. – С. 106 с илл.
[15] Аристотель. Сочинения в четырех томах / под ред. А.И. Доватура, Ф.Х. Кессиди. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – С. 658–659.
[16] О категории δίκη в древнегреческом мировоззрении см.: Суриков И.Е. Проблемы раннего афинского законодательства. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 13–15.
[17] Софокл. Драмы / в пер. Ф.Ф. Зелинского, издание подготовили М.Л. Гаспаров и В.Н. Ярхо. – М.: Наука, 1990. – С. 395.
[18] Переводчик (Ф.Ф. Зелинский), на наш взгляд, подобрал в высшей степени удачный эквивалент для греческого слова δεινός – «дивный». Помимо созвучия и, вероятно, этимологической близости, оно имеет и те же самые семантические и эмоциональные коннотации. Δεινός – это что-то необыкновенное, странное, удивительное, как в позитивном, так и в негативно-угрожающем смысле (об амбивалентности данной лексемы см.: Segal C.P. Sophocles’ Praise of Man and the Conflicts of the Antigone // Sophocles: A Collection of Critical Essays / ed. by T.M. Woodard. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. – P. 71). В применении к человеку слово это часто обозначает «искусный, способный», но когда речь идет о стихийных силах (а ведь именно им в данном контексте уподобляется человек!), то в нем выдвигается на первый план иное значение – «страшный, ужасный, опасный» (ср. δείδω, δεῖμος). Получается, что «страшней человека нет».
[19] Софокл. Драмы / в пер. Ф.Ф. Зелинского, издание подготовили М.Л. Гаспаров и В.Н. Ярхо. – М.: Наука, 1990. – С. 135.
[20] Там же. – С. 136.
[21] которая разбирается, например, в следующих работах последнего времени: Rodighiero A. The Sense of Place: Oedipus at Colonus, ‘Political’ Geography, and the Defence of a Way of Life // Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens / ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. – Berlin – Boston: De Gruyter, 2012. – P. 55–80; Saïd S. Athens and Athenian Space in Oedipus at Colonus // Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens / ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. – Berlin – Boston: De Gruyter, 2012. – P. P. 81–100; Dunn F. Metatheatre and Crisis in Euripides’ Bacchae and Sophocles’ Oedipus at Colonus // Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens / ed. by A. Markantonatos, B. Zimmermann. – Berlin – Boston: De Gruyter, 2012. – P. 359–375; Hesk J. Oedipus at Colonus // Brill’s Companion to Sophocles / ed. by A. Markantonatos. – Leiden – Boston: Brill, 2012. – P. 167–189; Van Nortwick T. Last Things: Oedipus at Colonus and the End of Tragedy // A Companion to Sophocles / ed. by K. Ormand. – Oxf.: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 141–154; Compton-Engle G. The Blind Leading: Aristophanes’ Wealth and Oedipus at Colonus // Classical World. – 2013. – Vol. 106. – No. 2. – P. 155–170.
[22] Dunn F.M. Introduction: Beginning at Colonus // Beginnings in Classical Literature / ed. by F.M. Dunn and T. Cole. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – P. 1–12.
[23] См. в данной связи коллективную монографию: Shards from Kolonos: Studies in Sophoclean Fragments / ed. by A.H. Sommerstein. – Bari: Levante, 2003.
[24] О нем см.: North H.F. A Period of Opposition to Sôphrosynê in Greek Thought // Transactions of the American Philological Association. – 1947. – Vol. 78. – P. 1–17; Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2012. – С. 113.
[25] О лексеме ὕβρις см.: Del Grande C. Hybris: colpa e castigo nell’espressione poetica e letteraria degli scrittori della Grecia antica: da Omero a Cleante. – Napoli: Ricciardi, 1947; Dirat M. L’hybris dans la tragédie grecque. – Lille: L’Université de Lille, 1973; Fisher N.R.E. Drink, Hybris and the Promotion of Harmony in Sparta // Classical Sparta: Techniques behind her Success / ed. by A. Powell. – L.: Routledge, 1989. – P. 26–50. Cairns D.L. Hybris, Dishonour and Thinking Big // Journal of Hellenic Studies. – 1996. – Vol. 116. – P. 1–32; Fisher N. Hybris, Revenge and Stasis in the Greek City-States // War and Violence in Ancient Greece / ed. by H. van Wees. – L.: Duckworth, 2000. – P. 83–123; Шевцов С.П. К вопросу о значении термина hybris в архаический период // ΣΧΟΛΗ: Философское антиковедение и классическая традиция. – 2014. – Т. 8. – Вып. 2. – С. 399–417.
[26] По сюжету этой трагедии и соответствующего мифа недавно вышла специальная монография: Woodruff P. The Ajax Dilemma: Justice, Fairness, and Rewards. – Oxf.: Oxford University Press, 2011. В ней приводятся и ссылки на основную предшествующую литературу вопроса, что освобождает нас от необходимости давать такой же перечень.
[27] В связи с которой см.: Reinhardt K. Aischylos als Regisseur und Theologe. – Bern: Francke, 1949; Golden L. In Praise of Prometheus. Humanism and Rationalism in Aeschylean Thought. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1966; Moreau A. Eschyle: la violence et le chaos. – P.: Les belles lettres, 1985.
[28] Рижский М.И. Библейские вольнодумцы. – М.: Республика, 1992. – С. 46.
[29] Несомненно влияние «Книги Иова» на «Фауста» Гёте, на «Мастера и Маргариту» М. Булгакова…
[30] О греческой «литературе» и ближневосточной «словесности» см. замечательные наблюдения: Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 13.
[31] Рижский М.И. Библейские вольнодумцы. – М.: Республика, 1992. – С. 46.