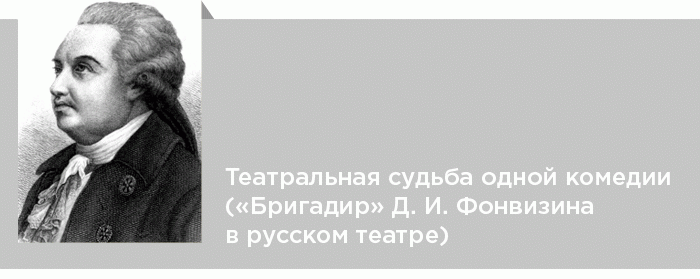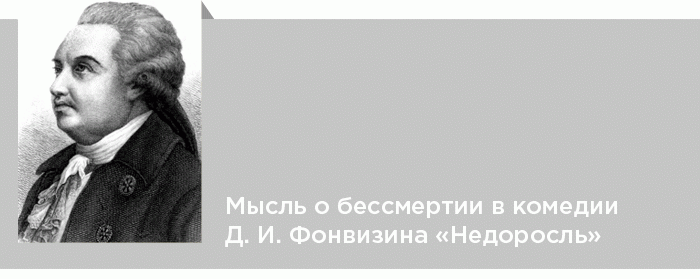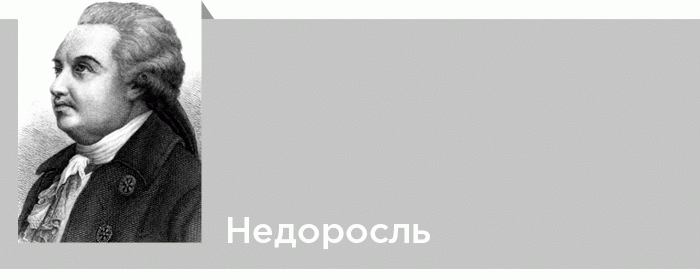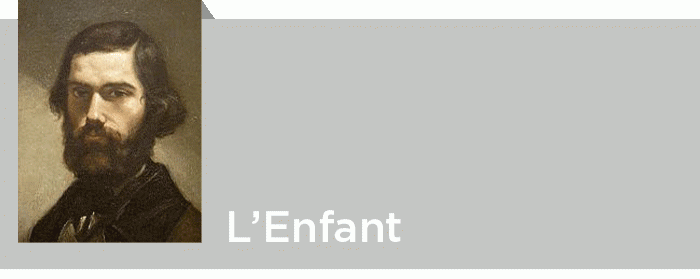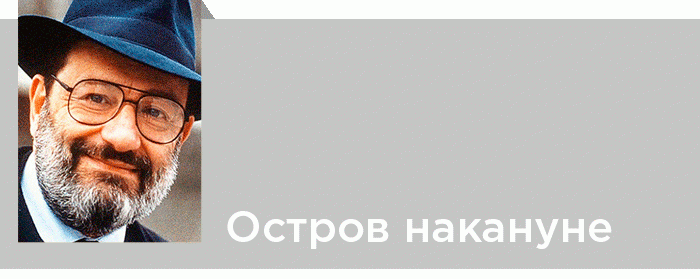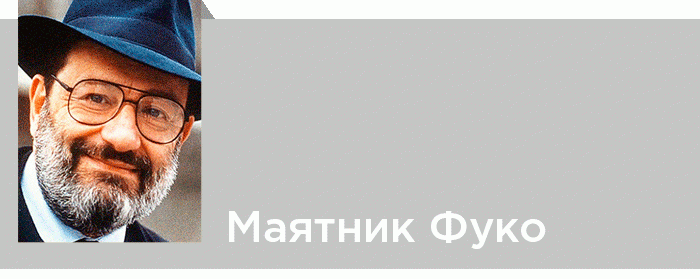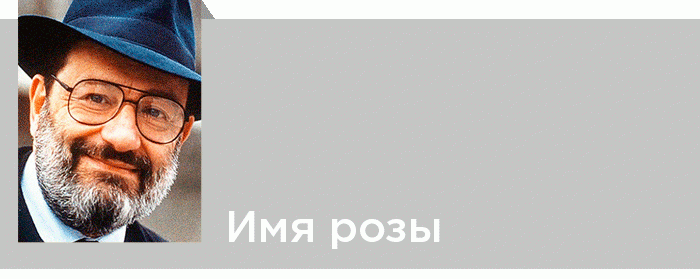Либертинаж как авторская стратегия Д.И. Фонвизина в комедии «Бригадир»
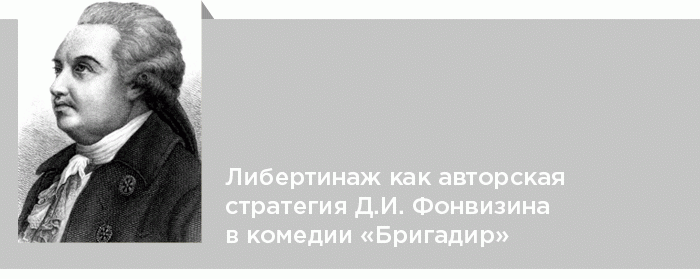
Салова С. А.
В статье рассматривается инновационная драматургическая техника Д.И. Фонвизина в комедии «Бригадир». Основное внимание уделено отличительным особенностям ее субъектно-речевой организации (в частности, вербального поведения Ивана и Советницы), предопределившим кардинальную трансформацию актуализированного в комедии образного топоса петиметра и галломана.
Ключевые слова:жанр комедии, вербальное поведение персонажей, субъектноречевая структура, преодоление риторических установок, трансформация образных топосов.
Литературная репутация пьесы «Бригадир» (1769) как первой оригинальной комедии Д.И. Фонвизина давно стала сакраментальной. Вместе с тем данная номинация нередко служит и своего рода комплиментарным прикрытием для другой, уже не столь патетичной констатации, содержащей слабо завуалированный намек на недостаточно высокое художественное мастерство ее автора, якобы так и не сумевшего решительно освободиться из-под диктата жанрового канона классицизма. В таком случае интерпретация созданных им образов закономерно завершается указанием на нереализованную до конца интенцию неопытного драматурга «показать жизнь и характеры более многосторонними и многогранными, чем того требовал классицизм» [10, с. 210]. Под таким же углом зрения осмысляется и прецедентная для отечественной драматургии фактическая бесконфликтность этой пьесы, обусловленная недостаточной дифференцированностью в ней мира порока и мира добродетели: «Чего в “Бригадире” действительно нет, так это именно конфликта как столкновения и борьбы, хотя его возможность и очевидна в противостоянии Софьи и Добролюбова остальным персонажам. Конфликт же как общая категория, покрывающая пеструю картину частных разнонаправленных интересов одним общим смыслом, в “Бригадире” пока отсутствует» [7, с. 239].
Симптоматично, что автор процитированного суждения расценивает «пока» нереализованную Фонвизиным возможность четкой поляризации внутри персонажной сферы как некий досадный симптом, прозрачно намекающий на недостаточно высокий уровень мастерства сочинителя. Принципиально не меняет ситуацию и новейшая тенденция рассматривать фонвизинскую пьесу о «русском парижанце» в перспективе развития так называемой «высокой комедии». Заметим попутно, что подобный исследовательский подход научно продуктивен своим отказом от жесткой абсолютизации сатирико-обличительной интенции автора «Бригадира», но одновременно чреват впадением в другую крайность, поскольку настаивает на приоритетности для Фонвизина «чисто эстетического интереса» «к национальному быту, нравам, характерам, образу мыслей, жизни и способам словесного выражения смыслов» [7, с. 230]. От общего потока стереотипных суждений о пионерской для русской комедиографии «бытовой» пьесе 1769 года отличается ее проницательная оценка Н.Д. Кочетковой, которая назвала комедию «Бригадир» «литературным трудом Фонвизина, свидетельствующим о его творческой зрелости» [4, с. 310].
Каковы же объективные основания, позволяющие верифицировать этот оксюморонный постулат о творческой зрелости начинающего драматурга? В поисках ответа на данный вопрос имеет смысл обратиться к главному исповедальному тексту Фонвизина – его «Чистосердечному признанию в делах моих и помышлениях», который дает достаточно внятное представление об этапном характере интересующего нас произведения, ставшего переломным моментом как в духовной, так и в писательской судьбе автора «Бригадира».
В масштабе отечественной словесности фонвизинский Иванушка признан своего рода «альфой и омегой» образного топоса петиметра и галломана, литературные актуализации которого в XVIII веке осуществлялись почти исключительно в сатирической, пародийной модальности. Не удивительно поэтому, что комедийные вертопрахи и вертопрашки, как правило, были сродни схематичным, карикатурным, нарочито утрированным фигурам их «двойников» и прообразов в сатирической журналистике, лубочных картинках, народном театре. Характер же «русского парижанца», созданного Фонвизиным, решительно выламывается из общей схемы.
Уточним, что речь в данном случае идет не только о бросающихся в глаза чисто внешних (хотя по-своему весьма знаменательных) совпадениях в деталях биографии двух ровесников, двух бригадирских сынов – Ивана и его создателя. Имеем в виду, прежде всего, «внутреннюю биографию» Фонвизина, точнее – его сокровенные внутренние проблемы, скрытую от постороннего глаза духовную драму молодого человека, отнюдь не отличавшегося безупречным поведением, то есть все те треволнения, которые и привели его к созданию комедии «Бригадир». Много лет спустя во второй книге «Чистосердечного признания» Фонвизин предал публичной огласке грехи своей юности, вступление в которую стало, по его собственному признанию, «вступлением в пороки». А список этих пороков, действительно, довольно внушительный: развратившее воображение увлеченное чтение юношей «целого собрания книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами» [11, II, с. 89]; «порочная связь» с некоей простоватой девицей с дальним прицелом на «физические эксперименты»; «великий случай и склонность» «сделаться пьяницей»; ядовитое злоязычие; и, наконец, дружба с большим искусником по части «богохулия и кощунства» вольтерьянцем Ф.А. Козловским, вылившаяся в написание Фонвизиным святотатственных посланий «К слугам моим…»и «К Ямщикову». Коротко говоря, до своего двадцатипятилетнего юбилея Фонвизин уже успел «примерить» поведенческие маски распутника, растлителя, вольнодумца, святотатца, кощуна, чуть ли не либертена. Возникает вопрос: следует ли учитывать чистосердечные признания такого рода при осмыслении творческой позиции создателя «Бригадира»? Такая необходимость для нас очевидна, и вот почему.
Мишель Делон, автор недавно переведенной на русский язык книги «Искусство жить либертена», настойчиво подчеркивая невозможность дать однозначное определение либертинажу, тем не менее, указывает на связь этого социокультурного феномена с «привилегией вольнодумца, позволившего себе мыслить вне привычных интеллектуальных рамок; писателя, порывающего с условностями морали и риторики; распутника, следующего в своем поведении инстинктам, которые другие привыкли в себе подавлять» [3, с. 20]. Отъявленным либертеном-распутником Фонвизин, конечно же, не стал: как литератор, драматург он не порвал «с условностями морали», наглядное свидетельство чему – его пьеса «Бригадир».
Обращает внимание содержащаяся в «Чистосердечном признании» скупая констатация завершения работы над «Бригадиром» («Тогда сделал я “Бригадира”») [1, II, с. 96], которой открывался абзац, расположенный сразу же за покаянным признанием Фонвизина в былой дружбе с Ф. Козловским, вследствие чего наречие «тогда» приобрело латентную семантику каузальности, значение причинно обусловленной последовательности: «после того, затем». Подобная компоновка материала дает основания полагать, что эта пьеса создавалась как в некоем роде тайное исповедание автором собственных прегрешений, как текст с элементами криптопародии на самого себя и тем самым как текст-предостережение для нравственно не окрепших молодых представителей российского дворянства.
Знаковый смысл приобретает в таком случае датировка пьесы, созданной (или завершенной) весной 1769 года литератором, отметившим свой первый по-настоящему серьезный, «четвертьвековой», юбилей. С трудом верится в полнейшую случайность совпадения возрастов Ивана («Живу уже двадцать пять лет и имею еще отца и мать») [11, I, с. 54] и создавшего его образ Дениса Фонвизина. Вряд ли можно счесть абсолютно непреднамеренной прозрачную аллюзию, которую содержит признание сына Бригадира в его знакомстве и в Париже, и «здесь», в России, с «превеликим множеством разумных людей», которые «божбу ни во что не ставят» [11, I, с. 68]. Как скрытую манифестацию автопародийного начала можно расценить щегольство Ивана, которым на протяжении всей своей жизни грешил и сам Фонвизин. Безусловно, роднит Ивана с автором комедии и отличающее обоих злоязычие (отнюдь не лишенное, впрочем, остроумия и проницательности), блестящим примером которого может служить густо приправленный аттической солью отзыв бригадирского сынка о своей родной матери, которая «за рубль рада вытерпеть горячку с пятнами» [11, I, с. 55].
Что касается самого Фонвизина, то, судя по его исповеди, в зрелом возрасте он стал сожалеть о былой «склонности к сатире» и признал свою язвительность грехом молодости, приведшим к тому, что в Москве его ославили «злым и опасным мальчишкою» и он «прежде нажил неприятелей, нежели друзей» [11, II, с. 90]. Особо отметим при этом, что приведенная только что цитата из «Бригадира», помимо установления еще одной параллели между комедийным персонажем и его создателем, четко очерчивает допустимые пределы подобных сближений, предостерегая от излишнего педалирования или тотального абсолютизирования автобиографического начала в структуре образа Ивана, имевшего, как известно, многочисленных литературных родственников и прототипов в Европе и России эпохи Просвещения.
Признание важности структурообразующей роли, которая отводилась автопародийному началу в построении характера «русского парижанца», позволяет уяснить функциональную предназначенность одного излюбленного Фонвизиным нарочитого приема, который можно условно обозначить как «неадекватное вербальное поведение персонажа». Имеем в виду парадоксальное с точки зрения традиционной жанрологии речевое поведение так называемых сатирических персонажей комедии «Бригадир» (прежде всего, Ивана, хотя и не только его), которым драматург то и дело доверял выполнение резонерских функций. Забегая вперед, отметим, что речь в данном случае идет не об отдельном, пусть даже сверхпродуктивном приеме характеросложения, а именно о новой комедийной технике как системе приемов, спроецированных на все структурные уровни произведения и направленных на инновационное решение некоей единой творческой сверхзадачи.
Критическая литература изобилует примерами алогичного и противоестественного, по меркам классицистической характерологии, речевого поведения персонажей комедии «Бригадир». Еще П.А. Вяземский, автор первой монографии о Фонвизине, не без некоторого смущения признавал недостаточно убедительным характер Бригадира, с излишней резкостью расходящийся с традиционным амплуа грубого вояки: «… дурачество и поползновение к соблазну бригадира, который выведен на сцену человеком грубым, но довольно благоразумным, кажется, решительно противуречит истине» [2, с. 206]. Усилиями последующих комментаторов и исследователей комедии «Бригадир» перечень фактов подобной «разбалансированности» и «неровности» созданных Фонвизиным характеров значительно расширился, причем наибольший интерес ученых закономерно вызывала фигура центрального персонажа пьесы – галломанствующего Ивана. В качестве примера укажем на П.Н. Беркова, который в своей фундаментальной монографии о русской комедии XVIII века привлек внимание к тому фрагменту беседы Ивана с Советницей, где сын Бригадира с редкой проницательностью рассуждал о роли личности воспитателя в жизни и духовном становлении молодых людей. Симптоматично, что как бы ненароком, попутно высказанную персонажем зрелую мысль об их сходстве с воском авторитетный исследователь воспринял как «может быть не совсем уместную в устах такой “негодницы”» [1, с. 123].
Попытки проникнуть в суть феномена «неадекватного вербального поведения персонажей» пьесы «Бригадир» предпринимал и Ю.В. Стенник в своей монографии о русской сатире XVIII века. Предварительно констатировав справедливость большинства прозорливых оценок и саркастических реплик Советницы и Ивана в адрес представителей старшего поколения, он пришел к выводу о вынужденности избранной Фонвизиным тактики их речевого портретирования, выбор которой обусловливался единственно тем, что положительные персонажи выполняли в его пьесе «чисто внешнюю, искусственно отведенную им роль» [9, с. 311]. Под таким же углом зрения Стенник осмыслил и те конкретные случаи, когда Фонвизин доверял Ивану «произнесение сентенций, явно не соответствующих его амплуа» [9, с. 312]. Неоднократную демонстрацию авторского доверия к кругозору персонажа исследователь напрямую увязал со спецификой просветительской сатиры, с ее дидактическим пафосом и обличительной интенцией самого Фонвизина: «Подобные высказывания несомненно были призваны усилить воспитательную установку идеи пьесы, оттенить ее обличительный пафос за счет дидактики. В этом сказывалась специфика просветительской сатиры, эстетическая природа которой была неразрывно связана с традицией нравоучительной назидательности» [9, с. 313].
Сходную трактовку алогичных сбоев в речевом портретировании не только Ивана, но и всех остальных фонвизинских «дурней» предложил С.Б. Рассадин. По его мнению, Фонвизин не умел так прятаться за спинами героев, чтобы быть невидимым и неузнанным, поскольку отечественная словесность еще не выработала к тому времени действительно полноценных принципов реалистического изображения человека и окружающей действительности. Вот почему драматургу и приходилось вкладывать умные речи «в медоточивые уста дурака Иванушки», делая заодно и всех прочих «дураков» «умниками на час»: «В комедии много сказано умного и основательного – это при том, что она перенаселена дурнями <…> и тут только одно умное лицо, сам Фонвизин (безликие Софья и Добролюбов не в счет). Русская литература пока не научилась прятать автора за спинами героев, живущих и мыслящих как бы самостоятельно (не вполне научится и при Грибоедове); вот и проступает оно, умное это лицо, то сквозь топорные черты бригадира, то сквозь простоватую мину бригадирши. Дураки, волею автора, оказываются умниками на час» [8, с. 86].
При внешней калейдоскопичности приведенных выше функциональных характеристик излюбленного Фонвизиным приема все они демонстрируют стандартный инерционный подход к рассмотрению его комедии преимущественно лишь в микроконтексте (а точнее, в «прокрустовом ложе») отечественной просветительской сатиры. Однако подобная исследовательская установка, на наш взгляд, практически не оставляет шансов полноценно ощутить поистине ошеломляющую дерзость индивидуальноавторских экспериментов Фонвизина, осваивающего новую драматургическую технику. Чтобы разобраться в ее тонкостях, попробуем вновь обратиться к его «Чистосердечному признанию». Памятуя о давнем предостережении П.Н. Беркова относительно «крайней ненадежности» этого документа и необходимости «с крайней осторожностью» использовать его показания, все же осмелимся предположить, что в тексте своей лаконичной исповеди Фонвизин оставил еще один надежный ключ к дешифровке вызывающе дерзкой в своей нетривиальности субъектноречевой организации комедии «Бригадир». Симптоматично, что внятной подсказкой и на этот раз становится тот самый фрагмент его «Чистосердечного признания», о котором мы упоминали выше в связи с демонстрацией скрытой автопародийности образа Ивана. Напомним, что в абзаце, повествующем о приятельстве с князем Козловским, содержится покаянное признание Фонвизина в сочинении именно «в сие время» послания к Шумилову, «в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником» [11, II, с. 95].
В этой связи не может не обратить на себя внимание и тот красноречивый факт, что в 1769 году, считающемся годом завершения работы над «Бригадиром», под одной обложкой вышли в свет два сочинения Фонвизина: осуществленный им перевод сентиментальной повести Ф.-Т.-М. де Бакюлара д’Арно «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность» и сатирическое «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». В последнем из них традиционная для стихотворной сатиры диалогическая структура предстала в совершенно новой конфигурации: в качестве жанровых субъектов, равноправных с условным автором, там предстали крепостные мужики, дворовые. Хотя условный автор не добился от своих непросвещенных собеседников сколько-нибудь четкого ответа на фундаментальный онтологический вопрос «На что сей создан свет?», именно их видению окружающей действительности придан в стихотворении статус достоверного и жизненно-объективного. Сопоставление приведенных выше фактов дает основание полагать, что от конволюта, объединившего (возможно, по инициативе самого Фонвизина) перевод французской повести и сатирическое «Послание к слугам» прямиком тянутся ниточки к нетривиальным способам речевого портретирования комедийных персонажей в пьесе «Бригадир». Ее автор как бы подтвердил свой принципиальный отказ вверять эксклюзивное право на истину исключительно лишь так называемым положительным персонажам. Способностями к критическому, аналитическому мышлению Фонвизин наделил и тех, кого издавна принято называть не иначе, как «нравственными уродами» или «дурнями».
Либертинская, дерзко порывающая с условностями риторики, художественная логика Фонвизина позволяла до предела сблизить в семантическом плане высказывания персонажей, разительно отличающихся друг от друга в нравственном отношении. Она вполне допускала, к примеру, возможность «срифмовать» и поставить в отношения корреляции известную реплику Добролюбова в VI явлении IV действия «… всему причиною воспитание» [11, I, с. 90] и не менее знаменитую максиму «молодой человек подобен воску» [11, I, с. 98], произнесенную записным щеголем и вертопрахом Иваном во II явлении V действия. Аналогичным образом случайно оброненное Советницей и, казалось бы, совершенно неожиданное в устах легкомысленной галломанки тонкое замечание о человеческом сердце: «Сердце человеческое есть всегда сердце, и в Париже и в России: оно обмануть не может» [11, I, с. 69] прозвучало в унисон с уверением Добролюбова в любви к Софье: «Тебе известно мое сердце» [11, I, с. 83]. Их корреляция, по-видимому, была призвана дополнительно верифицировать основательность мнения Советницы, в результате чего обе процитированные выше реплики стали своеобычной увертюрой к восхитившим некогда Ф.М. Достоевского сетованиям недалекой, скудной умом, но сострадательной Бригадирши о незавидной женской доле.
Рассуждение Советницы о человеческом сердце чрезвычайно репрезентативно и в другом плане. Дело в том, что справедливость высказанного ею тезиса не так безоговорочна и очевидна, как может показаться на первый взгляд или как действительно показалось Ивану, восхитившемуся своей возлюбленной с ее «тонким понятием» о сердце: «Madame, ты меня восхищаешь; ты, я вижу, такое же тонкое понятие имеешь о сердце, как я о разуме» [11, с. 69]. Приведенная реплика замечательна именно своей семантической двуплановостью. Ее смысл не сводится исключительно лишь к прозрачной иронии автора над явно завышенной самооценкой Ивана – Фонвизин одновременно декларировал здесь (и опять-таки устами молодого «межеумка») серьезную и многослойную дилемму «сердце – разум», уже имевшую к тому времени довольно длительную традицию светского нравственно-философского осмысления. Весьма показательны в этом плане отдельные максимы Франсуа де Ларошфуко, востребованные не одним поколением русских писателей. В качестве примера сошлемся хотя бы на некоторые из них: «Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой» [6, с. 18]; «ум всегда в дураках у сердца» [6, с. 27]; «не всякий человек, познавший глубины своего ума, познал глубины своего сердца» [6, с. 27]; «уму не под силу долго разыгрывать роль сердца» [6, с. 28]. О диалектике ума и сердца размышлял в свое время и Жан де Лабрюйер, убеждавший, что «не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться с людьми и быть им приятным» [5, с. 125].
Сама возможность подобного парадигматического соотнесения с авторитетным интеллектуальным контекстом разительно увеличивает семантическую значимость бытового философствования Советницы о человеческом сердце, отнюдь не сводимого к «бытовой пустопорожней болтовне» [7, с. 239], как полагают некоторые исследователи. Более того, среди многочисленных высказываний знаменитых французских моралистов можно отыскать, по крайней мере, одну конкретную максиму, которую полемически оспорил Фонвизин устами своей галломанствующей кокетки. Речь идет об афоризме Ларошфуко, в котором тот преднамеренно акцентировал момент национальной характерности, национальной специфичности обсуждаемого феномена: «Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился» [6, с. 66]. Фонвизин же решительно переакцентировал этот афористичный императив. Вступив в диалог с «чужим словом», он придал тематически близкому высказыванию Советницы принципиально иной, нежели у Ларошфуко, «общежительный», соединительный смысл и с не меньшей категоричностью сделал упор на критерий изначальной природной общности, единства человеческих чувств «и в Париже, и в России». Посредством столь выразительного, с семиотической точки зрения, вербального жеста драматург сделал свою легкомысленную кокетку равноправным оппонентом самого герцога де Ларошфуко, тонкого психолога и превосходного стилиста, еще при жизни прославившегося своим глубокомыслием!
Примеры столь нарочитых отступлений Фонвизина от классицистических принципов субъектно-речевой организации в произведениях комедийного жанра, отхода от общепринятых правил расстановки фигур внутри персонажной сферы, напрямую обусловившие недостаточную дифференцированность в комедии «Бригадир» мира порока и мира добродетели можно без труда умножить. Но и приведенных, думается, вполне достаточно для уверенной констатации, что использование приема алогичного речевого поведения персонажей, безусловно, имело свои резоны, было тонко продуманным творческим расчетом, художественно мотивировавшим особенности преломившейся в комедии «Бригадир» авторской концепции человека. Не случайно его последней манифестацией стала финальная сентенция, с которой, в нарушение зрительских ожиданий, обратился к партеру не добропорядочный жених Софьи, а ее отец, Советник, отягощенный многочисленными пороками. Именно он произнес покаянные слова: «Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете хуже» [11, I, с. 102], которые оказались чрезвычайно важными не только в идейно-содержательном, но и в общеэстетическом плане. Подведенный в финале пьесы моралистический итог одновременно декларировал осуществленную в комедии Фонвизина «Бригадир» трансформацию образных топосов и традиционных сатирических масок в потенциальных «героев пути» с открытой этической перспективой. Тем самым драматург позиционировал себя как истинного писателя-либертена в первоначальном этимологическом смысле латинского слова «libertinus», означающего «освободившийся раб».
В комедии «Бригадир» Фонвизин заявил о себе как драматурге, решительно освободившемся от риторических пут жанровых предписаний и регламентаций.
Список литературы
- Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. – Л.: Наука, 1977.
- Вяземский П.А. Фон-Физин. – СПб.: Типография департамента внешней торговли, 1848.
- Делон М. Искусство жить либертена. – М.: НЛО, 2013.
- Кочеткова Н.Д. Фонвизин // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3: Р – Я. – СПб.: Наука, 2010. – С. 305–319.
- Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001.
- Ларошфуко Ф. де. Максимы. Мемуары. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003.
- Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. – М.: Высшая школа; Академия, 2000.
- Рассадин С.Б. Сатиры смелый властелин: Книга о Д.И. Фонвизине. – М.: Книга, 1985.
- Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII века. – Л.: Наука, 1985.
- Федоров В.И. История русской литературы. XVIII век. – М.: ВЛАДОС, 2003.
- Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: в 2 т. – М.; Л.: Художественная литература, 1959.