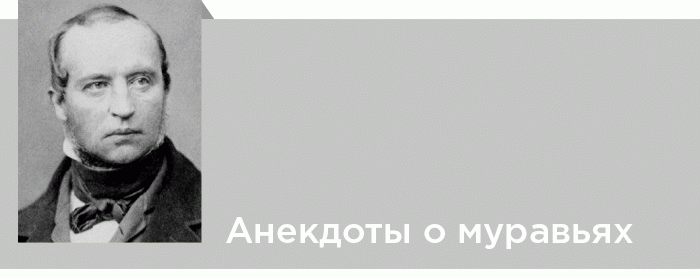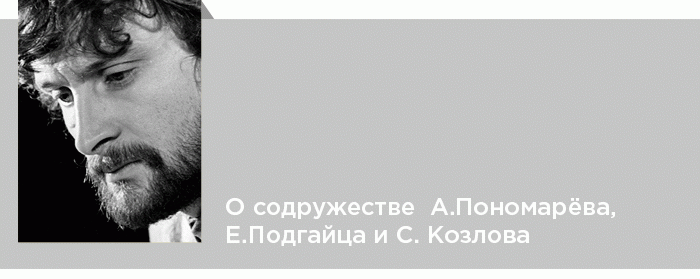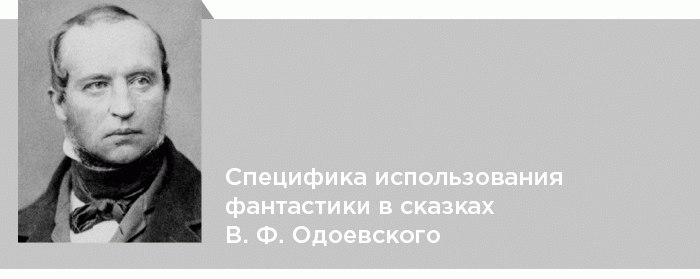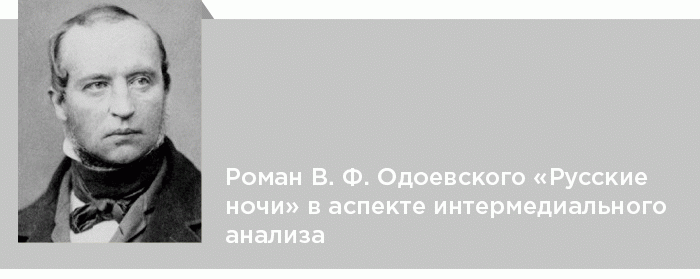Роман В. Ф. Одоевского «4338 год» и традиции интеллектуальной утопии в России
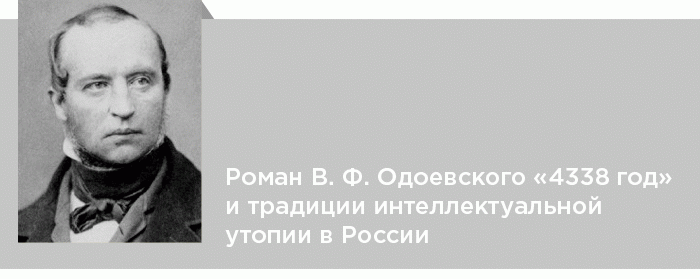
УДК 167.5
Н.В. Ковтун
Красноярский государственный технический университет
Статья посвящена проблемам становления русской литературной утопии. Анализируются две линии развития метажанра: народно-мистическая и интеллектуальная. Роман В.Ф. Одоевского "4338 год" продолжает традиции отечественного интеллектуального утопизма, маркированного масонскими итенциями. Произведение является своеобразной энциклопедией русской художественной утопии; здесь объединены все предшествующие попытки, авторские приемы и подходы.
Проблема определения утопии как литературного метажанра ("вторичного жанра" по терминологии М.М. Бахтина) является одной из самых сложных в современной науке. Специфика утопи ческого произведения заключается в его "пограничном" положении в искусстве. Классическая утопия (Платон, Мор, Кампанелла) традиционно считается скорее феноменом мысли, нежели художественного слова. С другой стороны, история становления и развития утопии свидетельствует о постепенном смещении акцента с Идеи на образные средства ее воплощения. Утопия беллетризуется; "схема", трактат совмещаются с художественным вымыслом, утопия соскальзывает в частности, де тали, в ней появляется активный герой.
Современная критика все чаще определяет утопию как обще-интеллектуальный дискурс, содержание которого выявляется через противостояние не кой совокупности приемов, тематизируемой понятиями "миф", "ритуал" (Ф.Х. Кесседи, Ж. Сорель, Р. Рюйе, Н. Фрай, А. Петруччи); "эсхатология" (М. Бубер, К. Поппер, Ж. Дюво, А. Свентоховский), "идеология" (К. Мангейм, Г. Барт, Р. Рюйе, Н. Фрай). Особенно стоит указать на трактовку утопии как интенции, органично присущей человеческому сознанию в качестве мечты, желания (Э. Блох, Ортегаи-Гассет, П. Тиллих, А. Нойзюсс). Из последних работ следует отметить концепцию Б. Гройса, где утопия рассматривается как способ преодоления границы между искусством и жизнью, "культурным архивом" и "текущим моментом" [1].
Американские исследователи Г. Негли и Д. Патрик, составители антологии "В поисках Утопии", выделили три основные черты, отличающие художественную утопию от других литературных или спекулятивных форм: она представляет собой вымысел; она описывает определённое государство или сообщество; её темой является политическая структура этого вымышленного государства или сообщества [2].
Анализ русской утопии традиционно начинают с XVIII века. В количественном отношении русская художественная утопия уступает западно-европейской. Автор известной "Истории утопии" А. Свентоховский свидетельствует: "утопии неравномерно распределились по эпохам и нациям. Больше всего их произвели французы, затем англичане, затем немцы и итальянцы, а у славян можно отыскать только слабые зародыши их" [3]. Даже в пределах метрополии отечественный читатель более знаком с европейскими образцами метажанра, нежели с литературными утопиями соотечественников. Объясняется это специфическим характером национального утопизма, чуждого той картине "порядка и государства", которую А. Фойгт считает наиболее характерной для утопии Запада [4]. Русская утопия не всегда оформлялась в самостоятельное произведение, "она нередко была растворена в литературных произведениях других жанров −социальных романах, фантастических рассказах" [5].
Отношение к утопии, оценка её перспективности в России и Европе трактовались по-разному: "Запад пестовал и культивировал культуру утопии, не смешивая её с культурой реальности" [1]. Утопия стояла на страже настоящего, не позволяя нивелировать границу между мечтой и действительностью, одновременно, она сдерживала прагматизм, диктат холодного расчёта, что собственно и позволило видеть в ней союзницу прогресса.
В русской культуре положение прямо обратное: здесь утопия чаще осознаётся как средство борьбы с прогрессом (Западом), осуществляется, как по пытка его остановить −выйти из сферы времени в апокалипсическое царство безвременья. Это в равной степени характерно и для авангардно-революционных построений первой половины ХХ века, преодолевающих прогресс его же техническими средствами [6], и для патриархальных проектов конца столетия, пытающихся обернуть время вспять. Утопизм признаётся одной из неотъемлемых характеристик русской национальной идеи.
Отечественная утопия чужда традиционной экзотике европейской "Нигдейи" (от названия остро ва "Нигдея" Т. Мора), рассказывающей о необычайной, сконструированной автором в соответствии с собственным кредо, стране. Случаи исключения, когда художник прямо говорит о своей Родине, преображенной фантазией, на Западе немногочисленны. В отечественной традиции, напротив: "с вымышленной страной мы встречаемся весьма редко, чаще всего это всё же Россия, но изменившаяся, похорошевшая, избавившаяся от тех недостатков, которые видит в ней автор" [7]. Подобная сосредоточенность утопистов на изображении Отечества выдаёт особую, трансцендентную связь русских писателей с Русским мифом. Пишущий одержим вопросом о причине несчастий, сопровождающих исторический путь Святой Руси, он стремится связать "концы" и "начала" истории, постичь ее сокровенный смысл. Не случайно главный вопрос утопии: "Что делать?" или просто: "Куды итить?" (для народных утопий). Сохраняя наиболее привлекательные черты своей фантазии (социальные, экономические, политические) художники переделывают жизнь у себя дома, выдвигая всё новые проекты обретения России как Третьего Рима. Идти оказывается некуда: с Запада на Русь пришёл сатана, а на Востоке − басурмане … Идти остаётся внутрь, вглубь, в погоне за удалившейся страной, в подводные чудесные просторы Светлояра, в лежащее за последним пределом Беловодье … Замечание А. Эткинда о специфике русской утопии ХХ века как "тутопии" (ибо действие происходит в России) сохраняет актуальность для национально го утопического дискурса в целом [8].
В соответствии с тем, что русские проекты переустройства мира сосредоточены вокруг "своего", знакомого, дорогого, чисто умозрительные схемы преобразования жизни, её жестокая регламентация здесь редки. Чаще всего речь идёт о частичных изменениях существующего порядка. Даже авангардные проекты радикальной переделки Вселенной оставляют за Россией избранную роль −центра мировой революции; против воли самих создателей сохраняют связь с древнейшими архетипами национальной культуры.
Общая неопределённость, размытость традиционных признаков в русских утопиях заставляет и самые образцовые из них ("Путешествие в землю Офирскую" М.М. Щербатова; "4338 год" В. Одоевс кого) считать "замаскированными под утопический рассказ" [9]. То, что для европейского утопизма стало характерным лишь в современных условиях: невыраженность жанровых критериев, открытость финала −для отечественной "тутопии" можно считать родовыми чертами.
Россия вплоть до ХХ века не знала социально-политических утопий с непременной детализацией нового государственного устройства. Не стали исключением и революционно-авангардные построения, нацеленные более на отрицание "старого", чем на созидание, структурирование "нового", которое должно само себя чудесным образом объяснить и устроить.
В целом русские утопии мало подчинены закону, порядку, нормативности. Их создатели более верят в нравственное преображение общества (общины), чем в его хозяйственно-экономическое или техническое могущество. Тот же утопический социализм уже к 30-м годам отказывается от недавнего лозунга: "Техника решает всё", заменяя его характерным: "Кадры решают всё".
Пренебрежение детализацией утопических мечтаний лишает русскую утопию и традиционной "всеохватности", то есть ни в одной из них нет исчерпывающей характеристики нового общества. Почти в каждом проекте можно отметить некоторое равнодушие, авторскую невнимательность при описании политической структуры вымышленной страны.
В классической европейской "Нигдейе" моралью тоже, безусловно, не пренебрегали, но она имела не внутреннее, а внешнее основание. Система законов, ограничений надежно поддерживала высокий уровень нравственности.
В русской утопии акценты прямо противоположны: духовно-моральное совершенство личности обеспечивает процветание страны, а государственные указы − формальны, необязательны. Да же при самом справедливом государственном устройстве они всегда связаны с насилием над человеком. Поэтому русский "рай" −это не царство демократии, где закон определяет степень свободы, но пространство волюшки-вольной.
То обстоятельство, что нравственные критерии в русской утопии первостепенны объясняет странное чувство, владеющее многими исследователями, что "хотя в русской литературе прямых утопий наблюдается очень мало, она вся пронизана утопией" [7]. Отечественный "панутопизм" −результат распрост ранения и утверждения "утопических ценностей" (термин С. Грачиотти) вне рамок самой утопии как литературного метажанра. Вера в моральное само совершенствование человека, способного возродить "рай на земле", составляет суть нравственного прогресса, который в России всегда предпочитался техническому. Отсюда европейские утопии, озабоченные улучшением государственной структуры, шли в ногу с развитием цивилизации, а русские проекты, сосредоточенные на совершенствовании личности, стремились этот прогресс остановить.
Собственно технические достижения общества Будущего не часто становятся в центре художественных исследований отечественных утопистов, тем ценнее, интереснее опыт тех из них, кто видел в Машине одно из средств спасения мира от зла и несправедливости. Эстетизация техники, вера в ее мистические возможности, поставленные на службу человеку-Теургу отличают творчество Одоевского, А. Богданова, раннего А. Платонова.
Для своего утопического романа "4338 год" Одоевский выбирает "обстановку" отнюдь не с точки зрения художественной занимательности, но совершенно серьезно и тщательно. Речь пойдет о вещах, предметах, технических новациях, составляющих лицо Грядущего; ставших показателем его нового качества как эпохи научно-технического прогресса; определивших не одну из возможных линий развития, но единственно возможную и верную. Так в Утопию возвратится художник-пророк, на время вытесненный случайным свидетелем, "зевакой", подсмеивающимся над собственными небылица ми, как в утопических проектах Ф. Булгарина.
Роман Одоевского "4338 год" создается в атмосфере широкого распространения утопических мечтаний: шеллингианцы, любомудры к 30м годам уступа ют место социальным мистикам, увлечениям теорией славянофилов. Россия 30х −начала 40х годов переживает период социально-политической стагнации: "внутренний террор почти полностью ликвидировал в стране политическое оппозиционное движение, и Россия затихла в ожидании будущих перемен" [10]. Утопия в этом контексте становится одним из немногих способов опровержения тирании настоящего.
Либерально-технократическая утопия Одоевского выглядит на общем фоне социалистического (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский, петрашевцы) и консервативного утопизма разных оттенков (славянофилы, Н.В. Гоголь) довольно одиноко. Романтик Одоевский был последователем Шеллинга, не чужд мистицизма, масонства (о Сен Мартене и Портедже Шеллинг узнал от князя) [11], он прежде всего ценил духовную свободу. Одоевский обращается к перспективам "фурьеристского фаланстера" (Фурье был масоном), проповедует масонскую доктрину нравственного самосовершенствования человека и общества.
Славянофилы видели в фаланстерах угрозу патриархальной общине, традиционным моральным ценностям (веры, любви, семьи), а социалисты требовали немедленных радикальных преобразований общества, отрицая "монархический и христианский принцип". Собственно техническими инновациями Будущего и те и другие интересовались мало.
Роман "4338 год" −своеобразная энциклопедия русской художественной утопии. Здесь объединены все предшествующие попытки, авторские приемы и подходы. Роман задумывался как заключи тельная часть трилогии о судьбе России, начиная с петровских времен. Художник стремится воссоединить в своем произведении рациональную (восходящую к западной утопической традиции) и мистическую (народные легенды, сны, видения) линии развития метажанра, излагая иррациональные вещи через логические закономерности. Масонский миф о Хираместроителе мистического Храма Вселенной − важнейший в отечественной интеллектуальной утопии [12], получает научно-техническую интерпретацию.
Писателя уже не столько интересует социальная арматура (П.Н. Сакулин отмечает, что утопия Одоевского "сохраняет в полной неприкосновенности классовый принцип, бюрократическую организацию и монархизм" [13]) сколько изменение психологического, нравственного, эстетического уклада России будущего. Роман сохраняет верность архетипам масонской утопии: в тексте манифестируются известные ценности нравственного самосовершенствования личности, гармонического единства просвещенной (посвященной) власти и народа, осуществляемой под руководством идеального Монарха. Одоевский на роль главы абсолютного государства предлагает первого поэта-мудреца, прообраза Соломона.
Посещение Будущего становится возможным посредством животного магнетизма Ф. Месмера, теория которого пользовалась особым доверием у русских масонов-мистиков [14]. Рассказчик впадает в сомнамбулическое состояние, описанное в полном соответствии с известным мифом дель фийского оракула. Вдыхая испарения Пифона ("магнетические манипуляции" у Одоевского), жрецы входили в контакт с Богом, что сопровождалось религиозным безумием. После сделанного пророчества жрица освобождалась от духа и забывала предсказание. Их специально записывали и передавали философам для правильной интерпретации, дальнейшего применения. Затем сообщения попадали к поэтам, перелагавшим их в формах оды, стихах для профанной публики [15].
Роман-утопия "4338 год" −откровение Истины, полученное через жреца-сомнамбулу для толкования философом-поэтом князем Одоевским. Писатель, объясняя смысл непосвященным, придает оккультному посланию художественную форму, ссылаясь на известный опыт Месмера. Ф.В. Булгарин выступал с резкой критикой романтического характера альманаха "Мнемозина", издаваемого Одоевским совместно с Кюхельбекером, пенял последнему на требование всем поэтам сделаться лириками и писать оды, причем сравнивал нелепость этого желания с опытами того же Ф. Месмера. Находясь вне мифа, Булгарин не мог уяснить особого, мистического письма романтиков, чем немало раздражался [16]. Месмер пользовался огромным авторитетом в среде французских масон. Его магнетические сеансы собирали многочисленное общество, мечтающее приобщиться к магнетической силе, избавиться от болезней, прозреть Истину, "эксплуатируя сомнамбулизм и ясновидение" [17].
Мир, открывшийся путешественнику, − мир сказочной Атлантиды, воплощенной великой Русской Империи. Здесь туннели, чудесные мосты, арки, обещанные создателями утопических картин от Платона до Пушкина. Русь − "центр всемирного просвещения", Великая Ложа, куда нельзя проникнуть "чужаку", профану. Каждый русский должен ознаменовать свое право жить в идеальном обществе научным открытием, продемонстрировать мудрость и нравственную состоятельность. Утопическая империя как сокровенное место удалена и отдалена от всего остального, "грешного", непросвещенного мира: меркантильной Америки, застывшего, "дряхлого" Востока и суетной Европы.
Одоевский полностью устраняет оппозицию Москва-Петербург, столь значительную в утопическом дискурсе XVIII столетия (утопия кн. М.М. Щербатова). Сохранившиеся изъяны, пережитки собственно русских не касаются, но привнесены "пришельцами из разных стран мира" [18], которые чужды русскому духу. Писатель действительно верит, что будущее мира принадлежит Рос сии. В 1836 г. он пишет: "Россия … должна спасти издыхающую в европейском рубище науку" (Русский архив. 1878). Мистическое общество воскресшего Мастера Хирама, описано художником со всей возможной тщательностью; чудеса, "волшебные виды" объяснены и угаданы достаточно точно, хотя сроки их реализации почти в 25 раз превышают те, которые потребовались в действительности. Среди "открытий" Одоевского электроходы, теплохранилища, телефоны, синтетические ткани, межпланетные сообщения, компьютеры и т.д. Между тем утопии, ближайшим образом предшествующие "4388 году" (Улыбышев, Кюхельбекер, Вельтман), либо вовсе пренебрегали футурологическими прогнозами, либо не воспринимали их всерьез (Пушкин, Булгарин).
Сами достижения науки в соответствии с доктринами масонства −только средства нравственно го самосовершенствования, самопознания человека. Музыка для писателя −прежде всего наука, открывающая законы всекосмической гармонии, приобщающая человека к тайнам мироздания. Практически ту же роль играют в романе "магнетические ванны", изгоняющие из идеального общества притворство, лицемерие, фальшь. Через синтез наук, искусства, музыки осуществляется Мистерия единого просвещенного государства, составляется код универсальной культуры Будущего.
Пронизанная, охваченная духом мировой музыки новая Россия порождает уже не политического человека-гражданина, но человека-поэта ("страна поэтов"), художника, способного выстроить мир как симфонию. Восприятие преображенной реальности в контексте предначертаний, сбывшихся пророчеств вызывает восхищение, когда чудо становится реальным, человек обретает способность летать, управлять климатом, осваивать иные планеты.
Особая роль среди изобретений отводится успехам воздухоплаванья: "летать по воздуху есть врожденное чувство человеку". Возможности личности предельно расширяются: человек "проходит как хозяин" уже не только по Земле, но становится владыкой неба (масонский идеал "гражданина Вселен ной"). Не случайно Сталин, выступая творцом коммунистической Утопии, с подчеркнутой теплотой относился к советским героям-летчикам, старшим сыновьям в семье-государстве [19]. Идеи Одоевского по поводу расширения обитаемого пространства, освоения Луны, совершенствования человека как творческой силы универсума найдут продолжение в учениях русских космистов, прежде всего в утопиях Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского [20].
Россия под хрустальным куполом фурьеристского фаланстера ("в фаланстеры Фурье верили, как в наступление царства Божьего", − считает Бердяев) − Вселенская империя, воплощенный Храм Соломона, "городсад". Соломон владел знанием тайных свойств всех растений, зверей и птиц (3 царств 4, 32−33). В "волшебной" России Одоевского ученые научились управлять атмосферой, и под хрустальными сводами "на свободе гуляют разные звери", в бассейне "содержат множество редких рыб и земноводных различных пород", здесь представлены "произведения всех царств природы". Люди добры, умны, красивы, здоровы ("худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины"), наделены исключительны ми возможностями и талантами. Тайна общения с Истиной, дар пророчества открыты каждому.
Россия −страна избранных, здесь Бог разлит повсюду. Утопическая земля пронизана "чудесным магическим блеском", залита светом. В Эдеме свет излучают все предметы, он −важнейший атрибут святости, но писатель подчеркивает рукотворную природу "блистающего мира", ибо просвещенный (посвященный) человек уравнивается в правах с Демиургом и создает новую Вселенную с "электрическим снарядом в виде солнца". Восхищение перед творимой Мистерией тем более усиливается, что ее свидетелем становится "дикарь", иностранец-профан, волею судеб занесенный в самый центр цивилизации.
Одоевский реализует оба известных варианта овладения Будущим: ухрония разворачивается в утопию, становится путешествием по онирическому пространству. Утопическая панорама представ лена сменой ракурсов: традиционный крупный план сменяет изображение деталей, утопия соскальзывает в частности.
Крупным планом даны сокровенные идеи автора, теория исторической относительности. Забавный спор китайского студента-путешественника с русским ученым о древнем предназначении лошадей, ставших в 4338 году на положении домашних животных, − обретает масштабность. История мифологизируется на глазах. Тайна прошлого ускользает: в Будущем уже не понятны рукописи, утрачены архивы, невозможно идентифицировать смысл, значение многих вещей и явлений (немцы кажутся "особой кастой"). Время спрессовывается, но когда обращаются даже к глубокой древности, то выделяют день, событие, имеющее особый, итоговый смысл.
В утопии всегда важна точка отсчета происходящего, "высота", откуда художник ведет обзор. Одоевский выбирает момент за год до возможной гибели Земли от столкновения с кометой Вьелы, поэтому его Утопия подводит своеобразный итог всех достижений человечества, архивирует их, сама превращаясь в огромный поэтический музей. В этом контексте "чуждость" героя-наблюдателя "русскому миру" позволяет заметить чудеса, к которым сами русские дав но привыкли. Национальность путешественника − китаец −отнюдь не случайна. Спустя три десятилетия в утопии "Жизнь через сто лет" (1897) Г.П. Данилевский вновь изобразит соревновательные отношения России и Китая, но уже в пользу последнего. Одоевский таким образом предвосхищает идеи К. Леонтьева, евразийцев, Н. Гумилева о необходимости для русских обратить свое внимание на Восток, создать единое культурное поле, где духовное водительство Руси сможет реализоваться во всем блеске и масштабе.
В целом же утопия Одоевского полна веры в не ограниченные возможности человеческого духа и разума, в "светлое будущее", перспективы новой науки, соединяющей расчет и поэзию, являясь вполне оптимистической.
Помимо утопического романа "4338 год" Одоевский пишет еще одно произведение, включающее утопические мотивы. Повесть "Город без имени" (1893) в критике часто представляют как "одну из первых в русской литературе утопий-предупреждений" [5]. С этим трудно согласиться, ибо "Город без имени" создается одновременно с утопией "4338 год", где перспектива "лазурного будущего" еще вполне укладывается в рамки научно-технического прогресса. Основой повести послужила философия утилитаризма И. Бентама, построенная на принципе абсолютной пользы. Прообразом государства бентамитов, видимо, является Америка, прагматизм которой и становится объектом авторской сатиры.
Защищая идею "цельного знания", направленную против овнешненного знания, рациональности современной науки и жизни в целом, Одоевский показывает ущербность подобного подхода, когда разум скользит по поверхности вещей и явлений, не проникая в их сущность. И, напротив, исключительно рациональный образ бытия приводит чело века, общество к своему концу, смерти. На страницах романа "Русские ночи" (1844) автор показывает гибель под натиском стихии всего, созданного человечеством мира вещей, зданий именно там, где мощь природы уже казалась скованной железной рукой промышленности. В этой ситуации катаст рофы человеческому уму остается только сетовать на бездейственность "всемогущих средств науки".
По мысли Одоевского природные катаклизмы − законная кара наивному человечеству за выбор ложных путей прогресса, за неправедную жизнь. Под глухими подземными ударами обрушивается государство бентамитов, жители которого пред почли материальное духовному. Катастрофа −кара Божья, Суд, свершившийся над человечеством, за бывшим свою высшую миссию сотворца Вселенной. В этом контексте несущаяся к Земле комета в романе "4338 год" − олицетворение той же слепой силы природы, которая обернется для общества апокалипсисом, если оно не прозреет верных путей к постижению тайн космической гармонии. В утопической перспективе романа автор еще не сомневается в могуществе новой, преображенной (просвещенной) русской Империи, где достигнута гармония "науки, искусства и религиозного чувства".
Размышления Одоевского о необходимости сочетать преобразующую и творческую деятельность человека с высоким религиозным Идеалом, нравственным чувством, будут продолжены целой плеядой космистов-философов, ученых, художников. В этой связи интересна перекличка идей Одоевского с требованиями моральной ответственности человека за последствия прогресса, высказанными в прозе "деревенщиков", маркированной утопическими интенциями. При всей несхожести интеллектуально масонского проекта князя с патриархальными моделями переустройства Вселенной традиционалистов, аспект нравственного долженствования остается приоритетен. Мысль о необходимости сочетать социальные преобразования с общей логикой природно-космического развития воплотится в текстах М. Пришвина, Л. Леонова, А. Кима. Неискоренимая тяга русского человека в "даль светлую", в Утопию, к постижению тайн космической гармонии остается актуальной и на рубеже XX−XXI веков, позволяя говорить о поспешности выводов критики, объявившей современность временем антиутопии.
Список литературы
- Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. −М., 1993. − 250 с.
- Negley G., Patrick D. The Quest for Utopia. −N.Y., 1952. − 380 p.
- Свентоховский А. История утопий. −Петербург, 1922. − 680 с.
- Фойгт А. Социальные утопии. −СПб., 1906. − 136 с.
- Шестаков В.П. Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры. −М., 1995. −207 с.
- Лифшиц Б. Полутороглазый стрелец. −Нью-Йорк, 1978. − 282 с.
- Чернышёва Т. Русская утопия // Сибирь. −1990. −№ 6. − С. 118−120.
- Эткинд Т. Толкование путешествий. −Россия и Америка в травелогах и интертекстах. −М., 2001. − 564 с.
- Грачиотти С. Функция утопии в русской литературе второй половины XVIII в. // Славянские культуры и мировой культурный процесс. − Минск, 1985. − С. 151.
- Егоров Б.Ф. Об особенностях русских социальных утопий 1840-х годов // Проблемы изучения культурного наследия. − М., 1985. − С. 257.
- Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2х т. Т. 2 −М., 1994. − С. 231.
- Ковтун Н.В. Интеллигенция и масонство в утопическом дискурсе // Интеллигенция в процессе поиска Россией будущего: Материалы междунар. науч. конф. В 3х ч. Ч. 3. −М. −Улан Удэ, 2003. − С. 97−114.
- Сакулин П. Русская Икария // Современник. −СПб., 1912. − Кн. 19. − С. 206.
- Пыпин А. Масонство в России. XVIII и первая четверть XIX в. −М., 1997. − 610 с.
- Холл, Мэенли П. Энциклопедическое изложение масонской,герметической каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. −СПб., 1994. − 793 с.
- Кюхельбекер В.К. Разговор с Ф.В. Булгариным // Декабристы: эстетика и критика. −М., 1991. − С. 262−271.
- Васютинский А.М. Французское масонство в XVIII веке //Тайные ордена: Масоны / Сост. А.Н. Гопаченко. −Ростов н/Д., 1997. − 471 с.
- Одоевский В.Ф. 4338 год // Русская литературная утопия / сост.В.П. Шестаков. −М., 1986. − 382 с.; далее ссылки по этому изданию.
- Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поминальной риторики. −М., 1997. − 445 с.
- Семенова С.Г. Русский космизм // Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семенова, А.Г. Гачева. − М., 1993. − С. 34−38.