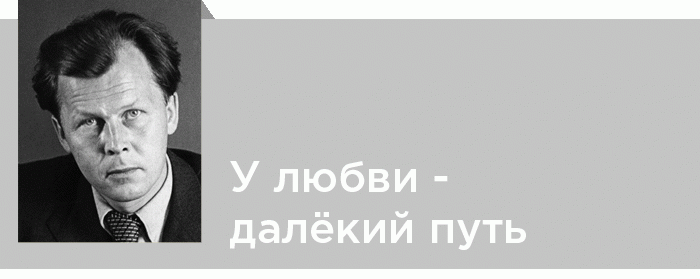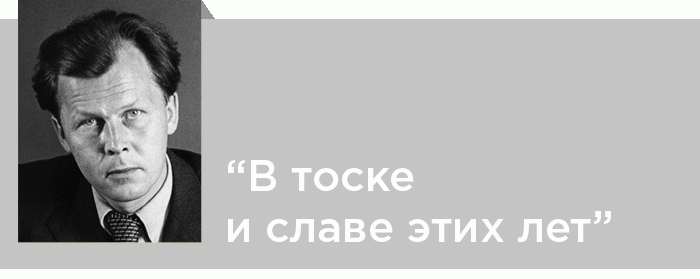Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы

В.С. Баевский
К 100-летию А.Т. Твардовского
Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы
Жизнь Твардовского - неотъемлемая часть истории России. Твардовский - великий поэт, чьим голосом в годину подвига и горя говорил народ. Руководитель журнала, который посреди лицемерия и обмана был народной совестью. Все 60-е гг. Твардовский, как Атлант, держал на своих плечах нашу литературу. Ценою жизни втащил в литературу Солженицына, твердо его поддерживал. Боролся с засильем секретарской лжелитературы. Боролся против цензуры, которую назвал пережиточным органом нашей литературы [Буртин, 1984: 184]. 1960-е навсегда вошли в историю русской литературы как десятилетие Твардовского.
Ключевые слова: Твардовский, народная совесть, цензура, социализм, 60-е годы, свобода слова, трагедия, история России, «Василий Теркин», «Новый мир».
Tvardovskiy's life is an integral part of the history of Russia. Tvardovskiy is a great poet who spoke for his people at the moment of sorrow and challenge. He directed the review which embodied the people's conscience amidst hypocrisy and lies. He drag Solzhenitsyn into the literature and supported him firmly; hi paid with his life for it. He struggled against the censorship which he called a rudimental organ of our literature. The sixties are considered at the literary history of Russia as a decade of Tvardovskiy.
Key words: Tvardovskiy, people's conscience, censorship, socialism, sixties, freedom of speech, tragedy, history of Russia, “Vasilii Terkin”, “Novyi Mir”.
Жизнь Твардовского - неотъемлемая часть истории России. Твардовский - великий поэт, чьим голосом в годину подвига и горя говорил народ. Руководитель журнала, который посреди лицемерия и обмана был народной совестью. Все 1960-е гг. невысокий ростом, но крепкий Твардовский, как Атлант, держал на своих плечах нашу литературу. Ценою жизни втащил в литературу Солженицына, твердо его поддерживал. Боролся с засильем секретарской лжелитературы. Боролся против цензуры, которую назвал пережиточным органом нашей литературы. 1960-е гг. навсегда вошли в историю русской литературы как десятилетие Твардовского.
Он истинно трагический герой нашей литературы. Трагедия не там, где враг убивает врага или хороший человек случайно попадает под трамвай, а там, где свой убивает своего. Где царя Лайя убивает его сын Эдип, где Моцарта убивает его друг Сальери, а Твардовского убивает та идеология, которой он был предан, служил и от лица которой выступал. «Журнал - тоже мое творчество», - сказал Твардовский [Лакшин, 1982: 239]. «Новый мир» Твардовского осуществил последнюю в СССР попытку совместить коммунистическую идеологию со свободой слова. Ее провал и гибель Твардовского избавили от иллюзий многих в СССР и во всем мире и подтолкнули к развалу всю коммунистическую систему (см., например: [Кондратович, 1990: 231]).
Мне рассказывал брат поэта Иван Трифонович (он был на четыре года моложе Александра), что в детстве Александр под влиянием их тетушки, сестры их матери, был страстно верующим. А когда подрос, стал встречаться с разными людьми за пределами семьи, читать газеты и сотрудничать в них в качестве селькора, под влиянием антирелигиозных призывов стал таким же убежденным безбожником. О своей детской религиозности и ее разрушении несколько иначе говорит сам поэт [Твардовский, 1989 (8): 181]. По мнению близко знавших его в зрелые годы, он безусловно верил в идеи социализма и глубоко страдал, когда видел их извращение, нарушение законности и справедливости. Его противостояние режиму сталинской и послесталинской диктатуры проявилось сразу после войны, когда начался неслыханный идеологический накал 1946-1953 гг. В 1946 г. сидели втроем Твардовский, Шолохов и Фадеев. Твардовский усомнился в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». Шолохов спросил:
«- Может, ты не в ту партию вступил?
А Фадеев сказал с искренним удивлением, покраснев всем лицом и шеей:
- Неужели ты не понимаешь его необходимость, более того, его гениальность?» [Лакшин, 1991: 245].
В том же 1946 г. написано маленькое стихотворение, которое в зародыше содержит всю программу «Нового мира» 60-х гг.
М. ИСАКОВСКОМУ
Нет, мы многих счастливее
В нашем сборном ряду,
Пусть иные ретивее,
Громче дуют в дуду.
Слава - штука лукавая,
Нам не нужно ничьей.
Бог с ней - с бедною славою
Рифмачей-кумачей,
Усачей-лимузинщиков,
Потребительских душ,
Патриотов-алтынщиков
И новейших кликуш
[Твардовский, 1990: 178].
Цели, по которым ведет огонь Твардовский, более или менее ясны. Скажем, рифмачи-кумачи - это Лебедев-Кумач и стихотворцы его пошиба. А вот кто такие усачи-лимузинщики? Усачом в народе, особенно в Москве, называли Сталина. Москвичи рассказывали о том, как он в машине в сопровождении машин охраны проносится по городу на дачу; этот маршрут, до предела насыщенный агентами НКВД, называли военно-грузинской дорогой.
Твардовский боролся за социализм с человеческим лицом, а социализм обернулся к Твардовскому звериной мордой. Он получал Ленинскую и Государственные премии, а цензура запрещала его поэмы, его лирику, его журнал. 1960-е гг. начались смертью лауреата Нобелевской премии Пастернака. Он был затравлен до того, что заболел раком, от которого и умер. В середине десятилетия партийными функционерами и их прихвостнями в литературе был после освидетельствования в психиатрической больнице признан тунеядцем и сослан на Север будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский; травля, через которую он прошел, предопределила его раннюю смерть. В 1968 г. советскими танками была раздавлена Пражская весна. Твардовский глубоко переживал этот акт агрессии против чешского народа, рванувшегося к свободе. 29 августа 1968 г. он написал:
Что делать мне с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом
[Твардовский, 1990: 185].
А его недруги сказали: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, надо было ввести их в “Новый мир”» [Кондратович, 1990: 196].
И кончилось десятилетие необъявленным делом Твардовского, которое привело к гибели поэта: он умер от инсульта и рака, также затравленный партийными функционерами и их прихвостнями в литературе, как за десятилетие до него Пастернак.
Случайно мне привелось близко знать перипетии прохождения через редколлегию «Библиотеки поэта» в 60-70-х гг. тонкого однотомника Мандельштама, а в 80-х - однотомника Твардовского. Мандельштам вышел в свет в 1973 г., в самое глухое время идеологической реакции. Твардовский увидел свет в 1986 г., уже на заре перестройки. В обоих случаях (во втором тоже) активно действовали инстанции рекомендующие, нерекомендующие и запрещающие. Каков был в обоих случаях вклад этих инстанций и каков - редколлегии серии в окончательные решения, я сказать не берусь: это требует специального изучения, но оба сборника вышли в свет искалеченными. Я поражался тому, что книга прославленного и возвеличенного властью Твардовского встречала более ожесточенное сопротивление, чем книга откровенно чуждого советскому режиму Мандельштама.
Русских поэтов бросали на растерзание чужеземной разъяренной толпе, убивали на дуэлях, вешали и расстреливали, ссылали и изгоняли из страны, гноили в каторге и концлагерях, они слепли и замерзали, их морили голодной смертью, доводили до самоубийства - до петли и пули. Им запрещали печататься при жизни и после смерти. Одной из самых изощренных форм расправы над поэтом было публичное шельмование, надругательство над главным делом его жизни, травля его с улюлюканьем и издевательствами, со сворой специально натасканных псов. Вслед за Ахматовой, Пастернаком, Бродским подобное поношение выпало на долю Твардовского и свело его в могилу, при его могучем здоровье, в шестьдесят один год. Борьба шла не за социалистические идеалы, не за национальную самобытность. Шла извечная смертельная борьба потребительских душ, невежественных завистливых бездарностей, «патриотов-алтынщиков», пробравшихся на злачные места, против великого творческого дара. Лжепатриоты, сделавшие из любви к родине доходную профессию, истребляли главное достояние России - ее таланты. Твардовский сказал однажды, что писатели различаются не по западническому или почвенническому мировоззрению, не по приверженности тоталитаризму или демократии, а по тому, читали они «Капитанскую дочку» Пушкина или не читали. Сам он мог цитировать пушкинскую повесть наизусть целыми кусками, любил читать ее дочерям вслух и говорил, что она - учебник мастерства. Полушутя советовал начинающим писателям страницами переписывать ее наизусть, вдумываясь в каждое слово, в их отбор и порядок (свидетельство В.А. Твардовской).
Александр Трифонович Твардовский родился 8 (21) июня 1910 г. на хуторе пустоши Столпово, который считался частью деревни Загорье Починковской волости Смоленской губернии (теперь это Починковский район Смоленской области). Он рано почувствовал и осознал свое призвание поэта и журналиста. Первые его стихи и корреспонденции были опубликованы в смоленских газетах, когда ему исполнилось 15 лет.
11 лет творческой жизни на Смоленщине были трудным периодом самостоятельного вхождения в жизнь, осознания Твардовским своего призвания поэта, мужания его высокого дара, формирования его личности. В это время ослабели его связи с семьей, из которой он вышел, и возникла его собственная семья. Иван Трифонович однажды вспомнил слова брата Александра: «В жизни нужно поступать решительно: жениться, впрячься и везти свой воз». Везти свой воз - любимый образ поэта, возникающий и в его стихах. Это был период ненасытного поглощения знаний, напряженной работы по приобщению к мировой и русской культуре. Здесь начало дружб на всю жизнь (Исаковский, Македонов, Марьенков), начало гонений, смертельно опасных политических обвинений, гласных и тайных доносов, ожесточенной травли со стороны оголтелых демагогов, бездарных завистников, садистов, которые в 1937 г. подвели его вплотную к аресту, а в 1971 г. свели в могилу.
Твардовский рано женился и выбрал себе спутницу один раз и на всю жизнь. Выбрал жену необыкновенную, без преувеличения героическую женщину. О таких женщинах, которые не переводятся и никогда не переведутся на Руси, - их требовательно формирует наша нелегкая жизнь, полная драматических поворотов, - написал Наум Коржавин:
.. .Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд.
Но кони - все скачут и скачут,
А избы горят и горят
[Коржавин, 1992: 76].
С Марией Илларионовной я, можно сказать, не был знаком, мы только несколько раз обменялись с нею письмами. Из воспоминаний близких их семье людей мы знаем, что она была прочной опорой мужу и в самые ранние смоленские годы, и до самого конца в московские десятилетия, и после смерти мужа твердо и умело отстаивала целостность его литературного наследия, публиковала важные его части. Ее последнее письмо ко мне (с небольшой купюрой) я сейчас приведу: оно ее хорошо характеризует.
«28 декабря 1989. Дорогой Вадим Соломонович! Ваше радушное приглашение и пояснения к тем мероприятиям, которые предполагаются в Смоленске, в июне, порадовали меня. Я с большим чувством признательности думала о тех, кому память о Твардовском остается дорогой памятью. В Москве (на то она и Москва!) еще не вспоминают о дате 80-летия поэта. Очередность мероприятий - этот характерный признак бюрократизма - он действует. И если я не смогу приехать в Смоленск, то не потому, что буду перегружена праздниками. Думаю, что день Твардовского будет отмечен скромно. Я не смогу побывать в моем родном городе по причине самой обыденной: уже давно нездоровая. Страдаю сильными головокружениями, более-менее работоспособна и годна к чему-то лишь в привычной обстановке и привычном режиме. Зачем же мне занимать место того, кто может выступить, сказать дельное слово? Пишу Вам совершенно откровенно, зная Вас как человека не ограничивающегося только непосредственными обязанностями в институте, но интересующегося литературой широко и непосредственно. <.. .> Хочу пожелать полного успеха Вашей программе и надеюсь на интересные итоги совещания, а также на появление их в печати - по образцу предыдущих сборов подобного характера» [Твардовская М.И., 1989].
19 марта 1931 г. семью, из которой вышел поэт, раскулачили: отняли дом и хозяйство, родителей и детей вывезли в качестве так называемых спецпереселенцев в Северное Зауралье. Через две недели усадьбу сровняли с землей [Твардовский И., 1996: 67-73]. Узнав о беде, постигшей родных, Твардовский добился приема у секретаря Западного обкома ВКП(б) И.П. Румянцева (Смоленщина тогда входила в огромную Западную область), однако смягчить судьбу близких ему не удалось. Вскоре Румянцева самого постигла страшная участь: он был арестован как враг народа и погиб. С этого времени Твардовский стал особенно удобной мишенью для своих врагов. Например, в архиве ФСБ по Смоленской области есть такие показания, датированные 4 января 1938 г.: «Твардовский А.Т., личный друг Македонова, по происхождению из кулаков, отец раскулачен, он блокировался с группой Македонова. Твардовский пользовался явным покровительством врага народа бывшего секретаря Запобкома ВКП(б) Румянцева. Твардовский ходатайствовал перед Румянцевым о возвращении своего отца из ссылки» [Македонов, Баевский, Илькевич, 1996: 301].
Для Твардовского незаживающей травмой были невозможность на протяжении пяти лет помочь близким, клеймо сына «кулака, административно-высланного из пределов Западной области», которое с этого времени он носил, и тот факт, что даже по бесчеловечным правилам, установленным властями, семья его отца и он сам подверглись гонениям незаконно, так как семья его отца не могла считаться кулацкой. 10 июня 1954 г., в совсем другую эпоху, Твардовский обратился к первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву с доверительным письмом. Он заявлял: «Семью свою кулацкой и себя сыном кулака я никогда не считал и не считаю, потому что основным признаком кулацкого двора, как известно, является применение наемного труда, а в хозяйстве моего отца, крестьянина-кузнеца, наемный труд не применялся». Твардовский просил, чтобы в его учетной карточке члена КПСС, где значилось, что он сын кулака, запись о социальном положении родителей была изменена. Секретарь МГК КПСС Фурцева направила запрос в Смоленский обком партии. После обстоятельной проверки секретарь обкома Доронин ответил подробным письмом, вывод которого гласит: «Судя по материалам проверки, хозяйство Твардовского Т.Г. было не кулацким, а крепким середняцким хозяйством, удовлетворявшим личные потребности семьи». Несмотря на это, бюро Краснопресненского РК КПСС без всякой мотивировки приняло решение Твардовскому «в просьбе об изменении записи в учетной карточке о социальном положении родителей после 1917 года отказать», а Фурцева, также без всякой мотивировки, добавила: «МГК КПСС считает, что вопрос решен правильно» [История советской политической цензуры, 1997: 108, 111, 114-115]. У них были свои правила. Твардовского всячески официальная власть прославляла и в то же время едва его терпела.
В 1932 г. Твардовский поступил в Смоленский педагогический институт. С этого времени нападки его преследователей становятся особенно яростными. В 1936 г. Твардовский оставил Смоленский педагогический институт «по собственному желанию». Дочь поэта В.А. Твардовская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института отечественной истории РАН, в письме к автору настоящей статьи так прояснила этот шаг отца: «На решение повлияла прежде всего общая обстановка в Смоленске, где - как и повсюду - шла яростная борьба с “недобитым классовым врагом”, и А.Т. в силу уже социального происхождения (по анкете) был уготован стать жертвой. А уж его поэзия, где человеческое всегда преобладало над классовым, по-своему подтверждала его “чужеродность” для “пролетарской” литературы» [Твардовская В.А., 1995]. В конце жизни, 22 марта 1964 г., возмущаясь травлей Иосифа Бродского, поэта, которого власти обвиняли в тунеядстве, Твардовский записал: «В молодости я длительный срок был таким “тунеядцем”, т.е. нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал, и мучился тем, что “я не член союза” (профсоюза), я завидовал сверстникам (Осину, Плешкову, Фиксину) - членам союза и получавшим зарплату. Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба, работа в штате (ее, кстати, невозможно было получить) может подрубить все мои мечтания, и, в конце концов, выходит, что я был прав, идя на этот риск. А как я бросил с третьего курса Смол<енский> пединститут и за год “вольной жизни” написал “Страну Муравию”. Я никогда бы этого не сделал, не рискнув так решительно (много раз мне казалось, что ничего не выходит, бросить бы к черту, но бросить уже было нельзя, и так я дописал и “перешел в новое качество”)» [Твардовский, 2000: 154].
Сначала во время советско-финляндской войны, а затем во время Великой Отечественной Твардовский работал военным корреспондентом и одновременно писал «Василия Теркина». Предлагаю читателю самому себе ответить: какая поэма за все два с половиной века новой русской литературы оказалась самой любимой современниками? Имела больше всего читателей среди современников, принадлежавших к самым разным социальным слоям - к выдающимся мастерам слова и солдатам, изысканным знатокам поэзии и государственным деятелям, крестьянам и ученым. Ответ будет: «Василий Теркин». Сам автор свое огромное произведение, по размерам почти равное «Евгению Онегину», поэмой не называл. Он определил ее жанр так: «Книга про бойца». С детства, от отца, который был истовым деревенским книгочеем, поэт перенял уважительное, трепетное отношение к книге. Его брат Иван Трифонович как-то в нашем с ним разговоре вспомнил, что в их детстве мать, бывало, упрекала Александра:
- Опять уткнулся в книгу!
Заглядывая в будущее, поэт написал о себе и своей главной КНИГЕ:
И хотя иные вещи
В годы мира у певца
Выйдут, может быть, похлеще
Этой книги про бойца,-
Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез,
Как тот сын, что рос не в холе,
А в годину бед и гроз.
[Твардовский, 1976: 223]
В «Книге про бойца» Твардовскому посчастливилось выразить стремления, мировоззрение народа, поднявшегося на смертный бой за само свое существование. Она написана с величайшим мастерством, но на первый взгляд этого мастерства словно бы и не видно: настолько непосредственно, естественно, нетрадиционно разговаривает с читателем поэт.
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
- Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...
Я доволен был бы, право,
И не гордый человек -
Ни на чью иную славу
Не сменю того вовек.
[Твардовский, 1976: 226]
В середине ХХ в., после переворота, произведенного в начале века модернизмом, разрушившим границу между поэмой и лирическим циклом, т.е. между эпосом и лирикой, а подчас и драмой, когда большая форма в поэзии выражала разорванное сознание потерявшего себя человека (выдающиеся примеры представляют нам «Соловьиный сад» и «Про это»), поэт создал подлинный эпос в гегелевско-бахтинском смысле этого слова. Он не любил современную поэзию. Он прошел хорошую школу у А.В. Македонова, потом в МИФЛИ, всю жизнь читал стихи и размышлял над ними; он знал цену Мандельштаму, Пастернаку, Цветаевой, Ахматовой, Бродскому, ожесточенно боролся за освобождение поэзии из идеологического ГУЛАГа, но нет оснований говорить, что он любил творчество этих поэтов, и Блока, и Маяковского, и Клюева, и Есенина. В рабочих тетрадях Твардовского есть такие строки. «Задумал написать письмо в ЦК о необходимости издать хоть небольшие однотомники поэтов, вкупе не причинивших столько вреда, сколько один Есенин, но принадлежащих нашей поэзии,- Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, может быть, Ходасевича» [Твардовский, 1989 (9): 203]. Среди современников он любил трех поэтов: Исаковского, Бунина и Маршака. В отношении к ним у него сплеталась воедино душевная любовь к их личности и к их стихам. Твардовский был великий поэт, одна из поэтических вершин ХХ в., и он в одиночестве совершал и совершил свой поэтический подвиг. Он владел поэтической культурой ХХ в., но как хозяин, а не как Лев Алексеич Агарин:
Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет
[Некрасов Н.А., 1982: 25].
«Василию Теркину» присуща монологичность авторского сознания: монологичность и мировоззрения, сказавшегося в книге, и мировоззрения адресата книги. В большой поэме есть единственный персонаж. Другие обрисованы выразительно, но бегло. Материалы, отражающие разные фазы работы над текстом, показывают, что сначала Твардовский насыщал его подробностями, географическими названиями, именами собственными, перипетиями, а потом последовательно устранял все, что не найдет отклика у всех, что нарушит цельность, монолитность произведения. Например, он исключил целый ряд эпизодов, целые главы, уже опубликованные, изображавшие приключения Василия Теркина на Смоленщине в тылу у немцев среди партизан. А в печати объяснил, что таким образом устранил элемент сюжетности во имя цельности восприятия книги [Твардовский, 1976: 511]. Твардовский лучше всего охарактеризовал свою необыкновенную книгу, сказав, что его герой вышел из полу- фольклорной среды и в нее ушел. Какие точные слова!
В сентябре 1947 г. до Твардовского добрался отзыв о его «Василии Теркине» лауреата Нобелевской премии Бунина. Это представлялось чудом: Советский Союз, казалось, наглухо был отгорожен от Западной Европы. Особенно высокая стена отделяла писателей- эмигрантов от писателей в СССР. И вот сквозь все преграды прилетело авиапочтой в Москву из Парижа, из другого мира маленькое заказное письмо, адресованное Буниным старому другу: «Я только что прочитал книгу А. Твардовского (“Василий Теркин”) и не могу удержаться - прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, - это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова» [Бунин, 1973: 637].
«Василий Теркин» печатался на протяжении войны по мере того, как Твардовский его писал, начиная с 1942 г. во многих газетах и журналах отдельными главами, в составе разных глав выходил небольшими книжками. Он сразу полюбился солдатам и офицерам-фронтовикам. Твардовский знал, что мало кто из них может следить за публикациями, читать их все подряд в той последовательности, в какой они выходят в свет. По большей части в руки бойцов в перерывах между боями, на госпитальной койке, в тылу на переформировании случайно попадали разрозненные отрывки книги про бойца. Поэт знал, что многие его читатели никогда не прочтут конца, потому что просто не доживут до него, будут убиты.
Поэтому автор не выстраивает «Василия Теркина» как традиционное произведение, которое можно читать не торопясь, в охотку, неделями: с фабулой, т.е. с завязкой и развязкой, с последовательным неторопливым развитием действия по главам. Он начинает «с середины», с главы «На привале», и главой «В бане» свое повествование кончает.
Словом, книга про бойца
Без начала, без конца
[Твардовский, 1976: 7].
Зато Твардовский писал так, чтобы каждая глава была относительно законченным целым со своей фабулой, со своим юмором и со своим пафосом, с военным бытом и с неизбежной смертью, с началом и концом, чтобы не нужно было догадываться: что там было раньше? что будет потом?
Сейчас трудно себе представить, сколько огорчений, а не только светлых минут принесла Твардовскому работа над книгой про бойца. Сколько нареканий из самых высоких сфер пришлось ему выслушать, сколько преград преодолеть на пути печатания «Теркина». Как и другие писатели, честно говорившие о войне и показывавшие, какой ценой народных страданий и смертей добывается победа, как Василий Гроссман с его романом «Народ бессмертен», как Виктор Некрасов с его романом «Сталинград»... Сегодня название романа Гроссмана мы читаем спокойно, а в 1942 г., когда он публиковался, писателю пришлось выслушать самые суровые попреки за это название и за мысль, которая за ним стоит: народ - защитник родины, а не высокопоставленные нахлебники во главе с самым высокопоставленным. Я назвал роман В. Некрасова «Сталинград». Так назвал его сам автор. Но ему не дали опубликовать книгу под таким названием. В ней, дескать, показана только окопная правда. Лейтенантская правда. Не показаны подлинные творцы побед - маршалы и генералиссимус. В письме, переданном жене с оказией, минуя военную цензуру, Твардовский с фронта пишет в апреле 1943 г.: «У нас больше всего печется начальство о том, что ему - читателю - можно, что нельзя» [Твардовский, 2005: 168]. По настырным замечаниям начальства поэт видит, что в 1943 г., в самый разгар войны, солдат - главный герой войны - литературе не нужен. Да, Василий Теркин, по мнению начальства, литературе противопоказан. «Сейчас нужен герой-офицер, - пишет Твардовский жене с оказией, в обход цензуры, -- желательно дворянского, по крайней мере интеллигентного, происхождения, в виде отклонения от нормы (что будет одновременно и допустимой смелостью) - религиозный, свято уважающий традиции военной семьи и т.п. Солдат сейчас не в моде» [Твардовский, 2005: 189]. Твардовский был убежден, что если бы не поддержка фронтовиков, которые в массе писем выражали благодарность автору и требовали все новых и новых продолжений, его великий труд ему завершить и донести до народа не дали бы.
Даже рядом с «Василием Теркиным» никогда не забудутся ни поэма «Дом у дороги», ни военная, ни послевоенная лирика Твардовского.
А нам, филологам, празднуя годовщину Твардовского, особенно радостно думать о том, что своим отношением к слову он нам близок. Я давно говорю, что где-то там, глубоко в почве, корнями, поэтическая культура и филологическая культура крепко переплелись. Первые русские поэты были замечательными филологами - Антиох Кантемир, Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов, Александр Востоков. Не были учеными-филологами Пушкин, Брюсов, Блок, Гумилев, но оставили нам много тонких и точных мыслей о языке. Не был ученым и Твардовский, но кто из истинных филологов не принял близко к сердцу таких слов поэта?
Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете,
Живых и мертвых, - знаю только я.
Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому -
Нельзя. Не скажет, - пусть себе он бог,
А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
[Твардовский, 1990: 392]
А «Слово о словах»? А «Московское утро»? А «Нет ничего, что раз и навсегда.»? Где-то надо и остановиться. Остановимся здесь.
Терзания, пережитые поэтом на Смоленщине в 1925-1937 гг., стали в некоторых отношениях определяющими для всего его творчества - от стихотворения 1933 г. «Братья» до поэм «Теркин на том свете», много лет бывшей под запретом, «За далью - даль» и отпочковавшейся от нее последней поэмы «По праву памяти», запрещенной цензурой в СССР и впервые опубликованной в 1969 г. во Франкфурте-на-Майне. Собственный трагический жизненный опыт поэта переплелся с трагедией народа, голосом которого стали его лирика, его поэмы, его «Новый мир». В поэме «По праву памяти» он писал и о своих близких, и о миллионах своих сограждан:
Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.
В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, -
Ответ по-нынешнему прост.
Но в те года и пятилетки
Кому с графой не повезло, -
Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.
Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее - закон таков.
Быть под рукой всегда- на случай
Нехватки классовых врагов.
[Твардовский, 2007: 373 -374]
В этой последней поэме с неожиданной стороны возникает и старая тема отца-кулака, готовность ответить и за него:
Ответить - пусть не из науки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнить руки,
Какие были у отца.
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов -
Те, что - со вздохом - как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
……………………………………..
Те руки, что своею волей -
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей -
Сплошная. - Подлинно - к у л а к!
[Твардовский, 2007: 375]
Выше было сказано, что в 1931 г., узнав о том, что семья отца раскулачена, Твардовский добился приема у секретаря Западного обкома партии Румянцева. «Он мне сказал (я очень хорошо помню эти слова), - вспоминал Твардовский в 1954 г., - что в жизни бывают такие моменты, когда нужно выбирать “между папой и мамой с одной стороны, и революцией - с другой”, что “лес рубят, щепки летят” <...>. И всю мою юность мне было привычно, хоть и горько, носить на себе печать этого несчастья, считаться “сыном кулака”» [История советской политической цензуры, 1997: 109]. Незадолго до смерти в своей последней поэме Твардовский снова вспомнил об этом ужасе:
А мы, кичась неверьем в бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.
Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов -
Любая прочая любовь.
Ясна задача, дело свято,-
С тем - к высшей цели - прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
[Твардовский, 2007: 379]
Так горький, неподъемно-тяжелый жизненный опыт поэта становился искусством слова и голосом народа. Он пролагал путь к такому обществу, в котором клички кулака и врага народа потеряли бы всякий смысл, были бы невозможны. Во время войны, рассказывая жене в неподцензурном письме о своей борьбе с высоким начальством за «Теркина», он сформулировал свою веру писателя-гражданина в таких словах:
«Помилуй бог, чтоб я написал такую штуку, чтоб она не встретила препон. Это лучше уж менять профессию» [Твардовский, 2005: 168-169].
Твардовский умер 18 декабря 1971 г.
При жизни он был приемлем властям и советскому истеблишменту в самых узких пределах. Они решительно отвергали Твардовского - борца против цензуры, за свободу творчества, за правду, Твардовского - журналиста, первооткрывателя Солженицына, врага любого лицемерия, лжи. Они ему мстили, они его и убили. Те власти сгинули, но их наследие в умах дает себя знать. Пусть же всем нам служит вечным примером Твардовский во всем огромном масштабе его личности, а не такой, каким его хотели бы видеть свободы, гения и славы палачи».
Список литературы
- Бунин И.А. Письмо Н.Д. Телешову от 10 сентября 1947 г. // Литературное наследство. Т. 84: В 2 кн. Кн. 2. М., 1973.
- Буртин Ю. Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов // Октябрь. 1990. № 8.
- История советской политической цензуры. М., 1997.
- Кондратович А.И. Последний год (Из новомирского дневника) // Новый мир. 1990. № 2.
- Коржавин Н.М. Время дано. М., 1992.
- Лакшин В.Я. Твардовский в кругу писателей // Собеседник. Вып. 3. М., 1982.
- Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991.
- Македонов А.В. Эпохи Твардовского; Баевский В.С. Смоленский Сократ; Илькевич Н.Н. «Дело» Македонова. Смоленск, 1996.
- Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 4. Л., 1982.
- Твардовская В.А. Письмо к автору статьи от 25 мая 1995 г. Архив адресата. Твардовская М.И. Письмо к автору статьи от 28 декабря 1989 г. Архив адресата.
- Твардовский А.Т. Василий Теркин. Книга про бойца. М., 1976.
- Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989. № 8.
- Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989. № 9.
- Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1990. № 6.
- Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1990. № 11.
- Твардовский А.Т. «Я в свою ходил атаку». М., 2005.
- Твардовский А.Т. Стихотворения и поэмы. М., 2007.
- Твардовский И.Т. Родина и чужбина. Смоленск, 1996.
Сведения об авторе:Баевский Вадим Соломонович, заслуженный деятель науки РФ, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой истории и теории литературы Смоленского государственного университета.