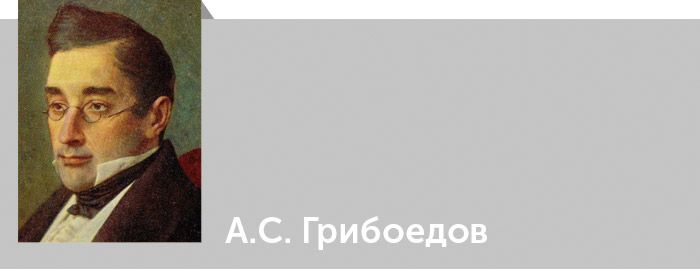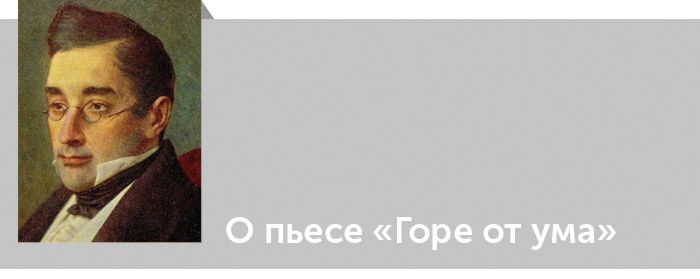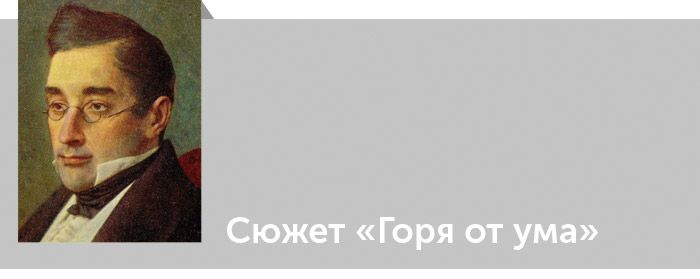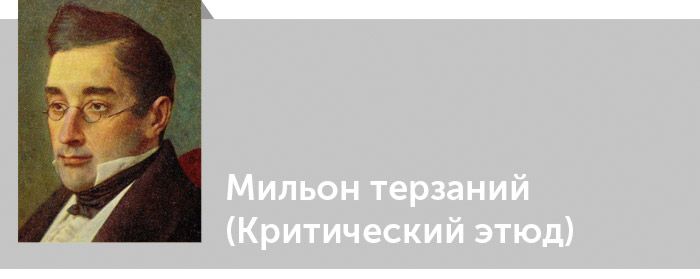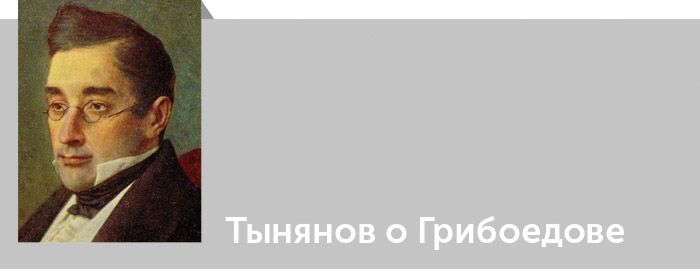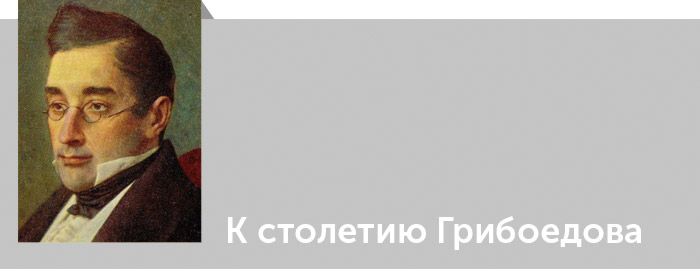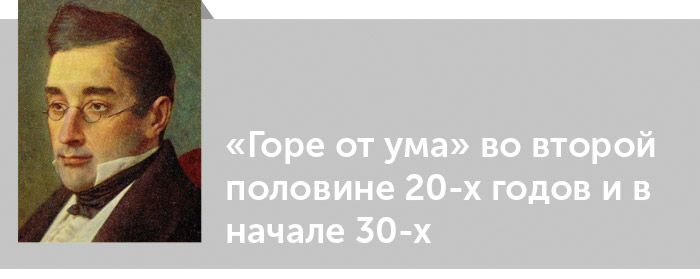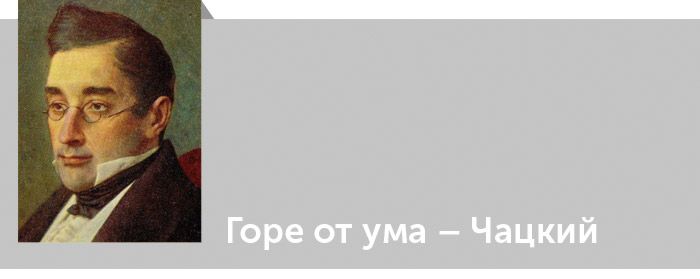Александр Грибоедов. «Горе от ума» в критике Белинского

Д. H. Овсянико-Куликовский
Из «Истории русской интеллигенции». Глава III
1
Отношение Белинского в 30-х годах к комедии Грибоедова и, в частности, к образу Чацкого заслуживает внимательного рассмотрения. Это – в высокой степени любопытный эпизод, в котором с особливою наглядностью обнаружился разлад между двумя поколениями, и притом так, что казалось, будто бы чисто психологическое различие в душевном укладе, в настроении готово было перейти в принципиальное разногласие людей, общественных понятий и стремлений.
В известной большой статье "Горе от ума" (написанной в конце 1839 г.) Белинский, высоко ценя талант Грибоедова и художественное значение отрицательных типов комедии, в то же время высказывает решительное осуждение пьесы в целом, в особенности же ополчается на Чацкого.
В настоящее время, благодаря Гончарову, а потом изысканиям А. Н. Пыпина (в IV томе "Истории русской литературы", в главе о Грибоедове), ошибка Белинского выяснилась с различных сторон; обстоятельные примечания г. Венгерова дополнили наши сведения (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. V. СПб., 1901).
Белинский переживал тогда период "примирения" с действительностью и со свойственною ему откровенностью и страстностью выражал это в своих письмах, спорах с друзьями и статьях, к великому смущению некоторых из друзей да и из читающей публики. Как известно, позже он сам отрекся от этих статей и вспоминал о них с ужасом и отвращением.
"Примирение с действительностью", как оно проявлялось в настроении кружка, к которому принадлежал Белинский, обыкновенно приписывают влиянию неправильно понятой формулы Гегеля ("все действительное – разумно"), апостолом которой явился Мих. Бакунин, имевший в те годы большое влияние на Белинского. Г-н Венгеров, по примеру своих предшественников, также выдвигает этот мотив на первый план. Он говорит: "То, что Белинский сказал в настоящей статье о Чацком, принадлежит к числу самых печальных эпизодов той полосы его духовного развития, когда, увлекаясь теорией "разумной действительности", он возненавидел всех "беспокойных" людей и на всякого протестующего человека смотрел как на "фразера" (Полн. собр. соч. Белинского, т. V, с. 546). Здесь же сделана ссылка на статью, приложенную к IV тому ("Бакунинско-гегелианский период в жизни Белинского"), в начале которой г. Венгеров говорит: "Приблизительно около половины 1836 года начинается один из важнейших периодов жизни Белинского, замечательно характерный для всей вообще истории русской мысли и показывающий, до чего можно дойти под влиянием чисто метафизического отношения к вещам. Речь – о знаменитом эпизоде фанатического прославления "действительности", так мало вяжущемся с общим обликом Белинского" (т. IV, с. 547). Я не буду отрицать известного влияния "метафизического отношения к вещам", в особенности у Белинского, который, как еще отметил кн. Одоевский, обладал исключительно сильным философским умом К Все философское, обобщающее могущественно двигало его мысль: он жадно ловил эти "откровения" мысли у Фихте, у Гегеля и с удивительным мастерством, как настоящий виртуоз и поэт отвлеченных идей, перерабатывал их в своем сознании. Оттуда и наклонность смотреть на вещи через философские очки и видеть действительность не так, как она есть, а так, как она освещается философским воззрением. Но при всем том я думаю, что стремление к так называемому "примирению с действительностью" коренилось глубже – в психологии бессознательных или полусознательных движений души как у самого Белинского, так и у других деятелей 30-х годов,– и что эти глухие импульсы должны были бы привести к временному и относительному примирению во всяком случае, хотя бы даже пресловутая формула о "разумности всего действительного" да и вся философия Гегеля остались неизвестными ни Бакунину, ни другим. Неправильно или односторонне понятый Гегель только пришел на помощь поколению, и без того готовому искать согласия с действительностью, поколению, которому еще были чужды роль и настроение Чацкого и которое всего более стремилось найти себе среди данной действительности уголок, где можно было бы жить и мыслить. Гегелианство только дало формулу, идею, и эта идея-формула осмыслила и возвела в принцип глухое стремление души, уже заявлявшее о себе и выражающееся в других формах "примирения". Мы видим, что еще до 1836 года это стремление сказывалось у Белинского весьма определенным образом, что уже в "Литературных мечтаниях" (1834), наряду с резким литературным отрицанием, довольно заметно обнаруживается примирительное и консервативное настроение в отношении к "действительности". Достаточно известно, что в кружке Станкевича, имевшем большое влияние на развитие Белинского, отвлеченные интересы решительно преобладали над общественными, и здесь господствовало то настроение и та особая форма реагирования на впечатления действительности, которые вскоре должны были привести – и без Гегеля – к "примирению", правда лишь временному и вообще непрочному.
В этом настроении мы видим, прежде всего, бессознательную, чисто психологическую (не идейную) реакцию, естественно возникшую в чувствительных, болезненно-восприимчивых, склонных к аффекту психических организациях поколения 30-х годов. У Белинского эта "реакция" выразилась только ярче и прямее, чем у других. Если Станкевич и его друзья мало интересовались политикою и вообще вопросами жизни и общественности и удалялись под сень философии и искусства, то Белинский со свойственною ему прямолинейностью и страстностью возводил его в догмат, в род "исповедания веры", которое в известном письме от 7 августа 1837 года (из Пятигорска) продиктовало ему следующие строки: "...только в ней (в философии) ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей... Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас в России не имеет смысла, и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошед до совершенства,– тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страною в мире..."2 Большие выдержки из этого письма, приведенные у Пыпина в IV главе биографии Белинского ("Белинский, его жизнь и переписка"), показывают, что "примирительное" настроение, как оно выразилось у Белинского, приводило к решительному осуждению стремлений и мечтаний людей 20-х годов и к оправданию status quo {Существующее положение (лат.).– Ред.} тогдашних порядков в России. Чисто психологическая "реакция", о которой мы сказали выше, превращалась в идейную. Это была уже целая "программа", в силу которой все надежды на лучшее будущее возлагались на внутреннее совершенствование каждого индивидуума, на постепенное смягчение нравов, и не знай мы, откуда взяты эти выдержки, можно было бы подумать, что это – неизданные страницы из "Переписки с друзьями" Гоголя.
2
Теперь обратимся к статье о "Горе от ума" и сперва прочтем то место, где Белинский говорит, что общество (в 20-х годах) "ожесточилось" против комедии Грибоедова. "За что же общество так сильно осердилось на нее?" – спрашивает критик и отвечает: "...за то, что она была самою злою сатирою на это общество. Она заклеймила остатки XVIII века, дух которого бродил еще, как заколдованная тень, ожидая себе осинового кола, которым и было "Горе от ума". Новое поколение вскоре не замедлило объявить себя за блестящее произведение Грибоедова, потому что вместе с ним оно смеялось над старым поколением, видя в "Горе от ума" злую сатиру на него и не подозревая в нем еще злейшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя, в лице полоумного Чацкого" (Полн. собр. соч. Белинского, изд. Венгерова, т. V, с. 76)3.
Смысл этих слов и настроение, их подсказавшее, совершенно ясны и вместе с тем наглядно показывают, до какого ослепления может дойти высокий ум, когда он "примиряется с действительностью". Белинскому казалось, будто "Горе от ума" – это сатира на XVIII век или его остатки, его дух, еще "бродивший" в 20-х годах XIX. А между тем очевидно, что Фамусов и Скалозуб изображены вовсе не как отживающие эпигоны XVIII века, хотя первый и восхваляет старину; Молчалин, Загорецкий и другие скорее типы новые, которым еще предстояло развиваться в жизни. Последующее время показало, что сатира Грибоедова, хотя и была направлена на современное ему общество первой четверти века, но простерла свое действие далеко за эту хронологическую грань. В аффекте "примирения" Белинский не заметил всей применяемости сатиры Грибоедова к господствующим понятиям, порядкам и нравам 30-х годов. Иллюзия – поразительная, объясняемая только аффектом и отпавшая, когда аффект прошел. В 1841 году эта "полоса" была уже пройдена Белинским, и он, чистосердечно каясь в письме к Боткину в своих недавних заблуждениях, писал между прочий: "После этого (выходки против Мицкевича в статье о Менделе) всего тяжелее мне вспомнить о "Горе от ума", которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это – благороднейшее, гуманистическое произведение,– энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников-взяточников, бар-развратников, против... светского общества, против невежества, добровольного холопства..."4 Пелена спала с глаз,– и весь глубокий смысл и широкий захват сатиры Грибоедова предстали критику во всем своем общественно-политическом значении. И разумеется, теперь образ Чацкого озарился для него другим светом, и он должен был почувствовать интимное сродство этого образа с своей собственной великой душой и понять всю трагедию "мильона терзаний", всю живучесть ее...
Но вернемся к статье и посмотрим, как тогда отзывался Белинский о Чацком.
В пьесе он не усматривал идеи, отвергая мысль, что этою идеею является "противоречие умного и глубокого человека с обществом, среди которого он живет". По его мнению, такой идеи нет в комедии Грибоедова, ибо, во-первых, Чацкий приходит в столкновение не с обществом, а только с частью его (с кругом Фамусовых, Скалозубов и т. д.), во-вторых же, потому, что Чацкий – совсем "не глубокий человек". Первое возражение развивается так: "Неужели же представители русского общества – все Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорецкие, Хлестовы, Тугоуховские и им подобные?.. Нет, эти люди не были представителями русского общества, а только представителями одной стороны его; следовательно, были другие круги общества, более близкие и родственные Чацкому. В таком случае, зачем же он лез к ним и не искал круга более по себе?" (указ. изд., т. V, с. 48)5. Не будем да и незачем пускаться в спор с Белинским, и только отметим здесь то, что нам нужно. Ошибка, в которую он впал здесь, пожалуй, могла бы быть объяснена и без привлечения к делу того "примирительного" и консервативного настроения, в каком находился тогда великий критик. В подобную ошибку легко можно впасть, просто не распознав экспериментального характера данного художественного произведения и приняв типы, в нем выведенные, за продукт наблюдения. Общество не состояло, конечно, из одних Фамусовых, Скалозубов и прочих; но эти люди давали тон всему и являлись оплотом общественной реакции. Присутствие этого темного и нездорового элемента делало возможным и аракчеевщину, и деятельность Магницкого, Рунича и т. д. Резкие филиппики Чацкого метили гораздо дальше благодушного Фамусова, ничтожного Молчалина, ограниченного Скалозуба. И возражение, что эти лица – не представители общества, должно быть устранено, как не идущее к делу. Но сделать такое не идущее к делу возражение можно было и не находясь в полосе "примирения". Так, между прочим, случилось впоследствии с Писаревым, когда он советовал Щедрину бросить "цветы невинного юмора" и заняться популяризацией естественных наук:6 Писарев не был "примирен" с действительностью, а только не разглядел настоящего смысла сатиры Щедрина; это случилось потому, что он не распознал ее художественного метода, чисто экспериментального, и за юмором не увидел того гневного отрицания, на котором были основаны художественные эксперименты великого сатирика. Но что касается Белинского, то при объяснении его ошибки нельзя обойтись без указания на пресловутое примирение с действительностью, и притом – возведенное на степень аффекта. Ибо слишком велика была художественная чуткость и проницательность великого критика, и не мог же он, если бы только не был в ослеплении, не уразуметь общественного смысла комедии и не понять как следует значения речей Чацкого и глубокую психологию его драмы.
Но послушаем дальше: "И потом: что за глубокий человек Чацкий? Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами значит быть глубоким человеком?.. Это новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади... Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе – только не от ума, а от умничанья..."
Здесь нелишне вспомнить, что последние строки имеют в виду оценку, совершенно отрицательную, комедии Грибоедова, сделанную М. А. Дмитриевым, посредственным стихотворцем и литератором, по-видимому, из того же лагеря, к которому принадлежали Фамусовы и прочие. Он критиковал "Горе от ума" с явно консервативной точки зрения {Эту "критику" Дмитриева извлек из забвения г. Суворин в своей статье, приложенной к его известному изданию "Горе от ума". О сопоставлении у г. Суворина критики Белинского с критикою Дмитриева см. у Пыпина ("История русской литературы", глава о Грибоедове) и в издании сочинений Белинского Венгерова, т. V, с. 548.},– и вот как отозвался на эту "критику" человек 20-х годов, Вильгельм Кюхельбекер, записавший в своем дневнике (7 февраля 1833 г.): "Нападки М. Дмитриева и его клевретов на "Горе от ума" совершенно показывают степень их просвещения, познаний и понятий. Степень эта истинно незавидная. Но пусть они в этом не виноваты; есть, однако же, в их статьях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед таким судом, которого никакой писатель – с талантом или без таланта, с обширными сведениями или нет,– не должен терять из виду,– говорю о суде чести..." {Как видно из дальнейшего, Дмитриев хвалил Грибоедова за удачные портреты. Цель была та, чтобы вооружить известных лиц против пьесы и набросить тень на ее "благонамеренность". Кюхельбекер утверждает, что "поэт никогда не был намерен писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше таких мелочей",– и говорит, что это известно ему лично, потому что Грибоедов ему "первому читал каждое отдельное явление после того, как оно было написано"8. Кстати, подобное же настойчивое отрицание портретности лиц комедии в статье Полевого не было ли внушено, помимо прочего, желанием обезвредить литературный донос Дмитриева?} (Русская старина, 1875, сентябрь, с. 84)7.
С этим-то обскурантом, да еще злостным, и сошелся великий критик.
В резком и несправедливом отзыве Белинского о Чацком нельзя не видеть следов какого-то внутреннего возмущения против направления умов молодого поколения в 20-х годах и дальнейших отголосков этого направления у немногих отдельных лиц в 30-х, например у Герцена и Огарева. Это станет очевидным, если обратим внимание на следующее. В том месте статьи, где говорится, что Фамусовы и прочие – не представители общества, пояснено: "Общество всегда правее и выше частного лица, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество" (следовательно, борьба с Фамусовым и прочими – это борьба с призраками, а не с "обществом").
Фраза – гегелианская, но под нею скрывался особый мотив – протест против тех, которые, отрицая Фамусовых и прочие "призраки", мнили себя деятелями, двигателями общественной мысли. Не понимая, что такое общество (под этим термином, очевидно, следует здесь понимать государство в гегелианском смысле), эти "либералы" приняли отживающих Фамусовых за истинных представителей "общества" и оказались "Дон Кихотами", "мальчиками на палочке верхом" и т. д. Здесь, только в другой форме, повторена сентенция письма 1837 года: "...заниматься политикою могут только пустые головы"9. Горячность, с которою Белинский обрушивается на Чацкого, была отзвуком жарких споров с Герценом, подзадоривавших Белинского и заставлявших его доводить свою мысль до крайности. Есть свидетельство, дорисовывающее эту горячность спора в эпоху, когда Белинский уже был близок к перемене настроения и воззрения. Анненков, упоминая о стычках Белинского с Герценом, как они описаны у последнего, рассказывают далее: "Герцен добавлял еще свое описание изустно следующею подробностью. Когда, через год после первого столкновения с Белинским, Герцен явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения". И тогда-то,– рассказывал Герцен,– в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах. "Пора нам, братец,– сказал критик,– посмирить наш бедный, заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история". "По сознанию Герцена, он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое-то отречение от прав собственного разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубийство" (Анненков. Воспоминания и критические очерки, III, 18)10. Этот рассказ достаточно вразумительно поясняет то, что говорит Белинский (в статье о "Горе от ума") о Чацком, о его умничаний, а также и то, что говорится там об "обществе", которое "всегда правее и выше частного человека".
В другом месте статьи, отзываясь о Чацком значительно мягче, критик – так кажется – вспомнил своего молодого приятеля-противника Герцена: если взять Чацкого не как художественный образ, а только как "выражение мыслей и чувств" автора, то он представится "уже с другой точки зрения". "У него много смешных и ложных понятий {Каких? Мы знаем только одно такое: восхваление старорусского костюма и прославление "премудрого незнания иноземцев", китайщины. По-видимому, говоря "Чацкий", Белинский думал "Герцен", понятия которого он считал тогда ложными.}, но все они выходят из благородного начала, из бьющего горячим ключом источника жизни. Его остроумие вытекает из благородного и энергического негодования против того, что он справедливо или ошибочно почитает дурным и унижающим человеческое достоинство, и потому его остроумие так колко, сильно и выражается не в каламбурах, а в сарказмах..." {Последнее, по-видимому, уже маленькая шпилька по адресу Герцена, который часто прибегал в споре к каламбурам.} (указ. изд., т. V, с. 88–89)11.
Так образ Чацкого впутывался в споры, служа художественною формою мышления, направленного на выработку понятий об отношении личности к "обществу", к действительности, о нравственном праве личности негодовать, протестовать, отрицать. То или иное отношение к Чацкому являлось показателем направления общественной мысли. Спорящие исходили из отвлеченных формул Гегеля, а орудовали, обращаясь к русской действительности, художественными "формулами" Грибоедова. Поэт 20-х годов помогал молодым идеалистам 30-х мыслить, спорить, отстаивать свои взгляды, вырабатывать общественные идеи. Такое значение могут иметь, такую услугу мысли могут оказывать только реальные художественные образы.
Любопытно отметить, как резко изменился взгляд нашего критика на комедию Грибоедова с той поры, когда он только еще искал "примирения" с действительностью, именно с 1834 года: в "Литературных мечтаниях" мы находим иной образ о "Горе от ума", в существе совпадающий с отзывом Полевого. Здесь мы читаем: "Комедия Грибоедова есть истинная divina comoedia... {божественная комедия (ит.).– Ред.}, ее персонажи давно были вам известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения "Горя от ума", и однако же, вы удивляетесь им, как явлениям совершенно новым для вас: вот высочайшая истина поэтического вымысла!" Здесь метко схвачена известная особенность реального искусства: его образы опираются на соответственные данные обыденно-художественного мышления, но перерабатывают их так, что в результате получается нечто как бы новое.– Но только при чем тут "divina comoedia"? "Лица, созданные Грибоедовым,– продолжает критик,– не выдуманы, а сняты с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни; у них не написано на лбах их добродетелей и пороков; но они заклеймены печатью своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника..." Затем, воздав должное языку Грибоедова, Белинский заключает свой отзыв утверждением, что, несмотря на некоторые недостатки, пьеса Грибоедова есть произведение "образцовое" и "гениальное" и что русская литература "лишилась в Грибоедове Шекспира комедии" (указ. изд., т. I, с. 373)12.
Чтобы от этого взгляда перейти к тому, который изложен в статье "Горе от ума", нужно было сделать много шагов вперед по пути "примирения" с действительностью и дойти до бесповоротного осуждения стремлений деятелей 20-х годов. Эти шаги и были сделаны Белинским в период от 1835 до 1839 года, когда и была написана статья о "Горе от ума", появившаяся в No 1 "Отечественных записок" 1840 года.
3
"Примирение" с действительностью, хотя бы частичное и очень условное, было психологическою необходимостью. В полном разладе с действительностью могут жить только натуры не от мира сего. Белинский не принадлежал к их числу. Он был глубоко чувствующая и мыслящая натура с ясно выраженным призванием деятеля жизни, борца за идеал,– и ему, как и другим, ему подобным, психологически невозможно было игнорировать действительность и успокоиться на сознании своего разлада с нею. Психологическая потребность, о которой мы говорим, состоит в том, чтобы, чувствуя свой разлад с действительностью, найти в ней же какую-либо точку опоры, хотя бы воображаемую. Так, старые славянофилы "нашли" опору себе в патриотическом культе идеализированных "древлерусских" начал... Позже народники "нашли" себе могущественную – воображаемую – опору в идеализированном ими народе... Бывает и так, что для отыскания точки опоры стоит только не рассчитать своих сил и вообразить, что "времена созрели" или "мы созрели",– вообще сделать хронологическую ошибку. К этому роду иллюзий принадлежат также разные виды идеализации действительности или некоторых ее сторон. Все это только обнаруживает глубокую психологическую потребность искать опоры или основы для своей деятельности в самой жизни, в действительности.
Молодые идеалисты 30-х годов живо чувствовали эту потребность. Это был для них вопрос жизни. Он гласил: как им быть, как им жить и действовать, в каком уголку действительности можно было бы им устроиться с их идеализмом, и притом так, чтобы оттуда влиять на действительность?
От того или иного разрешения этого вопроса зависело, почувствуют ли они в себе Чацкого или нет, и если почувствуют, то какой оборот примет у них душевная драма "мильона терзаний".
Если в эпоху первой половины 20-х годов воображали, будто опора уже есть и можно не только жить, но и действовать, то 30-е годы были эпохою мучительно-напряженного испытания действительности с целью так или иначе пристроить в ней или к ней свой идеализм.
А время было глухое. "Действительность" являлась в виде компактного целого, все элементы которого казались чрезвычайно согласованными между собою, и все вместе производило впечатление необычайно прочного сооружения, монолита, незыблемо покоившегося на фундаменте крепостного права.
И всякий в те времена, кто так или иначе чувствовал, что начинает расходиться с действительностью, тем самым чувствовал себя одиноким отщепенцем и оказывался в положении Чацкого, но только без тех "преимуществ", какими располагали многочисленные "Чацкие" первой половины 20-х годов, имевшие возможность делать "хронологические ошибки". Для идеалистов 30-х годов "хронология" была установлена с ясностью и авторитетностью, не допускающими никаких иллюзий. Оставалась возможность только одной иллюзии: искать так называемого "примирения с действительностью".
Этому примирению вовсе не нужно было становиться непременно идейным, принципиальным. Это было, по существу, примирение психологическое, то есть такое, которое выражалось в новом настроении и новом отношении к действительности, вполне совместимом с нравственным и идейным отчуждением от нее.
Представителями этой разновидности "примирения" являлись преимущественно немногие лица из старшего поколения, как Пушкин, Чаадаев, М. Ф. Орлов, кн. Одоевский, кн. Вяземский, Александр Тургенев и др. Некоторые из них в свое время – в 10-х годах и в начале 20-х – были настоящими Чацкими (как, например, М. Ф. Орлов); теперь они скорее походили на томящихся в бездействии Онегиных. Настроение, их отличавшее или, если можно так выразиться, "им приличествовавшее", меланхолически прозвучало в грустных нотах поэзии Пушкина 30-х годов.
Это были люди зрелого возраста, и им оставалось доживать свой век, что они и делали, как умели...
В другом положении была молодежь, только что вступившая в сознательную жизнь. Не доживать, а строить свою жизнь, вырабатывать ее нравственные основы, устанавливать ее идейные цели – составляло задачу новых пришельцев, юных работников на едва вспаханной ниве русской культуры и мысли. И прежде всего им нужно было выяснить свои отношения к действительности.
Наиболее типичным представителем этого поколения в первое время был кружок Станкевича, где отношение молодых идеалистов к действительности определилось в том смысле, что они просто отвернулись от нее и думали найти внутренний мир и удовлетворение запросам мысли и совести в самовоспитании, в саморазвитии при помощи философии, религии и искусства. Эти юноши были полны душевных сил, в их ряду были выдающиеся умы и дарования; они сразу поднялись над окружающей средою, и все труднее становилось им приспособиться к жизни. Отчуждение от действительности подсказывало им рискованную мысль, что для "высшей жизни духа" нет надобности интересоваться общественными вопросами,– и они из своей "программы" исключили "политику". В этом и состояло их так называемое "примирение с действительностью",– да, пожалуй, с течением времени оно и в самом деле могло бы превратиться в настоящее примирение, если бы на почве такого отчуждения от жизни у них развился индифферентизм. Но – пока – они были застрахованы от этого молодостью, жаждою знаний и впечатлений, высшими интересами, культом идеала, хотя бы и неопределенного. К тому же их очень занимали вопросы нравственного сознания,– они искали внутреннего мира,– а это так или иначе ставило перед ними вопрос об отношении к действительности, следовательно, неизбежна была и критика этой последней.
Этот вопрос и был поставлен Герценом,– и закипели кружковые споры, положительным результатом которых было то, что уже стало невозможным без дальних разговоров отстраняться от действительности и отвергать задачи, вытекавшие из ее критики.
Философский покой, казалось почти достигнутый, был нарушен; "примирение" не давалось ("не вытанцовывалось", выражаясь любимым словечком Белинского), оно являлось какою-то фикциею, чем-то искусственным. Его сторонникам, если они не хотели пойти на уступки, оставалось одно – взять под свою защиту самую действительность, отразить нападки на нее и постараться доказать, что эта действительность вовсе не так уж безнадежна, что не должно смешивать ее временного, преходящего проявления (ее "определения" – по философской терминологии) с ее сущностью, наконец, что она не нуждается в воздействии со стороны и сама собою идет вперед, к лучшему будущему. На этот-то путь защиты самой действительности и выступил самый горячий, смелый и последовательный из молодых идеалистов, искавших "примирения",– В. Г. Белинский. Он блестяще и страстно проводил эту мысль в статьях второй половины 30-х годов, а также в письмах и спорах. Но чего это ему стоило! Это было отчаянное усилие отстоять безнадежную "позицию". Под решительностью и безоглядностью утверждений критика скрывалась целая драма внутренних борений и сомнений. "Внутренняя жизнь Белинского,– свидетельствует Анненков,– в эту эпоху представляла раздвоение поистине трагическое и исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и открывал собеседникам в резком и неожиданном слове, можно сказать, в вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за новые свои верования, но с каждым днем все более чувствовал, что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных глазах" (Воспоминания и критические очерки, III, с. 33)13.
Гегелевская философия, как он ее понял, дала только новое оружие, новые аргументы в защиту "позиции", которую он уже занял. Оттого так обрадовался он, когда узнал, что "сила есть право, и право есть сила" и что "все действительное – разумно, и все разумное – действительно". Оставалось только приложить эти формулы к русской действительности того времени и показать ее "разумность"... И он это делал – страстно, безоглядно, не боясь крайних выводов, доходя до явных несообразностей,– и, естественно, пришел к тому, что, наконец, глаза его раскрылись, он увидел действительность в ее настоящем свете и понял, что примирение невозможно.
4
Нетрудно видеть, что защита или оправдание действительности, предпринятые Белинским, были возможны только при условии как можно дальше стоять от нее, как можно усерднее отворачиваться от нее. Напротив, отвергнуть "примирение" значило повернуться лицом к действительности, подойти к ней поближе.
Я уже указал на то, что удаление от действительности, отрицательное отношение к общественным вопросам и политике и на этой почве своеобразное "примирение" с действительностью, все это означало, что молодые идеалисты были заняты другим делом – самовоспитанием, развитием своей личности и стремлением жить "высшею жизнью духа". Их предшественники, люди 10–20-х годов, также очень усердно занимались своим умственным развитием и много работали над собою. То же самое следует сказать и о лучших людях последующего времени, в особенности тех, которые учились и развивались в 40-х и 50-х годах; в их ряду первое место принадлежит Чернышевскому и Добролюбову, которые представляли собою образец натур не только исключительно возвышенных, но также исключительно цельных (от природы) и гармонично воспитанных в сознательной и упорной работе над собою. Итак, самовоспитание, работа над собою – это не была как бы монополия поколения 30-х годов. И тем не менее люди 30-х годов резко выделяются именно этою стороною. Дело в том, что они делали это так и в таких размерах, как не делалось это никогда, ни раньше, ни после. И в этом отношении не было большой разницы между кругом Станкевича, с одной стороны, и кругом Герцена и Огарева, с другой, ибо и эти последние, хотя и выдвигали вперед общественные задачи, но можно сказать, добрых 2/3 своих богатых умственных и нравственных сил потратили (в то время) на утонченную разработку своей личности, на вникание во все оттенки и переливы чувств, настроений, мыслей,– вообще "носились" со своим "я" слишком много, слишком усердно. Эта черта, бьющая в глаза и порою странно поражающая нас, когда читаем их переписку и другие документы (например, дневник Герцена), находилась в тесной психологической связи с их экзальтированностью и склонностью к аффекту, о чем мы говорили выше.
Явление это, с точки зрения "душевной гигиены", как личной, так и общественной, не может считаться нормальным. Нездорово, ненормально слишком носиться со своим "я". Излишняя утонченность самовоспитания, избыток рефлексии, слишком усердная гимнастика ума и чувства, крайности самоанализа – все это легко может кончиться тем, что человек не воспитает себя в смысле ценной общественной величины, умственной и нравственной, а только вырастит из себя утонченного эгоиста, дилетанта высоких чувств, сибарита искусства и философии и вместе с тем – общественного недоросля. Кое с кем из "людей 40-х годов" так и случилось. Конечно, Белинский и Герцен были от этого застрахованы исключительно счастливою природного организацией своего духа вообще, своей совести – в частности. Но и они потратили непропорционально большую часть своих душевных сил на то, что можно бы назвать "психическим уходом" за собой.
Все это говорится не в осуждение. Пусть, как сказано выше, такой путь развития, такой излишне тщательный "уход за собой" ненормален, не чужд чего-то болезненного, но ведь история не идет "нормальным" путем, по правилам "психологической гигиены". Роды истории болезненны, а всего болезненнее или, по крайней мере, труднее те роды истории, плодом которых является самоопределяющаяся, освободившаяся от стадности личность. Быть хорошим "обывателем", общественным деятелем, даже "гражданином" человеку гораздо легче, чем сделаться человечно-мыслящею и гуманно-чувствующею личностью, не затеривающеюся в массе и выступающею на фоне общественности со своим особым – необщим – выражением {Беру термин ("необщее выражение") из одного стихотворения Баратынского14.}, с незаурядным содержанием души. Это так трудно, так редко и так ценно, что бывали эпохи (например, эпоха Возрождения), когда к этому пункту, к выработке личности, и сводился главный интерес исторического момента и им же определялось значение этого момента для будущего, для человечества.
Социальные чувства, тяготение индивидуума к своей социальной среде (классу, нации, отечеству и т. д.), наконец, крайнее выражение этого в самопожертвовании человека интересам целого, как он их понимает,– все это коренится в социальном (стадном) инстинкте и культивировалось искони. "Гражданские доблести" стары почти так же, как человечество. Напротив, личность, продукт долгого развития прогрессирующей части человечества, есть явление сравнительно новое, хоть возникало уже в древности; подготовленная разделением труда, общественной дифференциацией, личность в разные эпохи, у разных народов возникала и угасала, чтобы потом возродиться вновь, и этот процесс ее возникновения, развития, борьбы с нивелирующей силой общественности, по-видимому, всегда выражался в тех болезнях мысли и совести, симптомами которых были различные философские системы, моральные и религиозные учения, а также создания искусства.
То, что в большом масштабе повторяется в истории человечества, в малом масштабе повторяется в истории отдельных запоздавших народов, а равно и в жизни отдельных лиц, и здесь-то этот процесс наиболее доступен психологическому наблюдению.
Изучая жизнь и деятельность, переписку и сочинения наших идеалистов 30–40-х годов, мы ясно видим, что это был процесс дотоле небывалого на Руси развития личности. Он протекал в философских томлениях мысли, в своеобразных недугах нравственного чувства, в муках совести, в религиозных исканиях, в истоме высших запросов духа. И все это было так ново и необычно, что сами носители этих чувств, запросов мыслей и т. д. с недоумением и изумлением останавливались перед зрелищем внутренней работы духа, совершавшейся в них. Это внутреннее недоумение и изумление и является началом высшей рефлексии и пробуждением личности от сна готовых понятий, унаследованных привычек, установленных моральных отношений. Чтобы как следует пробудиться от этого сна, нужно было "заболеть философией, моралью, религией" – как болело ими в больших размерах человечество – и почувствовать "духовную жажду", страстное стремление к "высшей жизни духа".
"Духовной жаждою томимы"15, наши идеалисты 30-х годов являют изумительную картину своеобразной душевной жизни, внутренней борьбы,– картину, какой мы не найдем у последующих деятелей, как не видим ее и у предшествовавших.
То, что они пережили годами в интенсивной работе духа с частыми "кризисами", мы, их духовные потомки, переживаем быстро, незаметно. Им выпало на долю выстрадать нарождение и образование личности на Руси. И именно они-то по преимуществу и являются родоначальниками нашего развития. Это была их историческая миссия, и с этой-то точки зрения и следует судить о них. Становясь на эту точку зрения, мы легко поймем многое в их жизни, что на первый взгляд кажется странным, причудливым; мы поймем их вечно бодрствующую рефлексию и уже без большой скуки и, порою, досадного чувства дочитаем до конца те, большею частью очень длинные, письма их, где они разбираются в тонкостях своих чувств и настроений, исповедуются друг перед другом, выкапывают со дна души мельчайшие движения тайных помыслов и, философски анализируя их, стараются достичь высоты самосознания и точности самоопределения, призывая на помощь и Гегеля, и Гете, и искусство, и религию, и историю человечества.
И они достигали большой высоты и большой утонченности душевной жизни...
Но человеку свойственно засыпать не только на лоне посредственности, среди общего умственного сна, но и на лоне "высшей жизни духа", где также есть много такого, что убаюкивает.
Убаюканные высшими радостями мысли, наслаждением искусством, всею роскошью личной душевной жизни, идеалисты были близки к опасности стать ненужными. Герцен понял опасность раньше всех. Но лучше всех сознал ее Белинский, выразивший это сознание в следующих знаменательных словах, в которых резко обозначился поворот от узколичной, хотя и "высшей", работы духа к иной его работе, его страде, может быть, не столь "возвышенной", но безусловно необходимой для того, чтобы пробудились к человечности спящие национальные силы и чтобы сами идеалисты не заснули: "...идея социализма охватила меня крепче,– и пока в душе останется хоть искра, а в руках держится перо,– я действую. Мочи нет,– куда ни взглянешь, чувства оскорбляются. Что мне за дело до кружка: во всякой стене, хотя бы и не китайской, плохое убежище. Вот уже наш кружок и рассыпался, еще больше рассыплется, а куда приклонить голову, где сочувствие, где понимание, где человечность? Нет, к черту все высшие стремления и цели!" {Под этим, конечно, нужно понимать ту изысканность душевной жизни и отвлеченность стремлений, которые "культивировали" идеалисты в своем тесном кругу, рискуя оказаться "лишними" и ненужными.}
"Мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схиму: мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить...
Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку "Отечественных записок". Я литератор – говорю это с болезненным и вместе с радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупеть, чтобы расейская публика лучше понимала меня..." (письмо к Боткину 1841 г.)16.
Так в лице великого критика отвлеченный идеализм 30-х годов проснулся – в 40-х – "для мильона терзаний", для живой деятельности, руководимой реализмом общественной мысли, чтобы лицом к лицу с действительностью повторить в новом виде все негодования и всю драму Чацкого.
Примечания
1 В. Ф. Одоевский писал в своих тетрадях-дневниках: "Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни" ("Из бумаг князя В. Ф. Одоевского".– Русский архив, 1874, кн. I, с. 339.)
2 Из письма Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.– Белинский, т. 9, с. 52-53.
3 Белинский, т. 2, с. 230.
4 Из письма В. П. Боткину от 10–11 декабря 1840 г.– Белинский, т. 9, с. 421.
5 Белинский, т. 2, с. 237.
6 См. статью "Цветы невинного юмора".– Писарев Д. И. 490 Литературная критика в 3-х томах, т. I. Л., Художественная литература, 1981, с. 282-322.
7 Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., Наука, 1979, с. 227.
8 Там же.
9 См. примеч. 2.
10 Анненков, с. 140.
11 Белинский, т. 2, с. 241.
12 Там же, т. 1, с. 105-106.
13 Анненков, с. 156.
14 Из стихотворения Е. А. Баратынского "Муза" (1829).
15 Из стихотворения А. С. Пушкина "Пророк" (1826).
16 Ошибочная дата. Из письма В. П. Боткину от 14–15 марта 1840 г.– Белинский, т. 9, с. 351–352. В этом письме Белинский говорит об "идее общества"; об "идее социализма" речь идет в письме В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г.