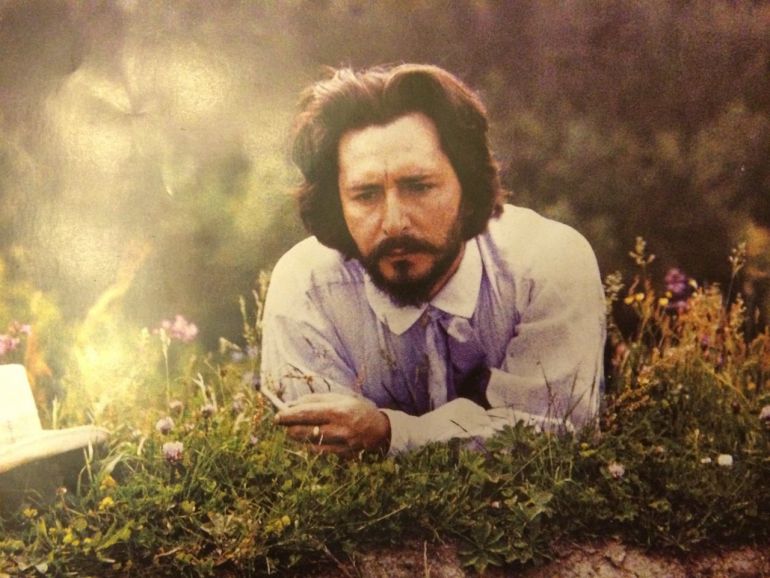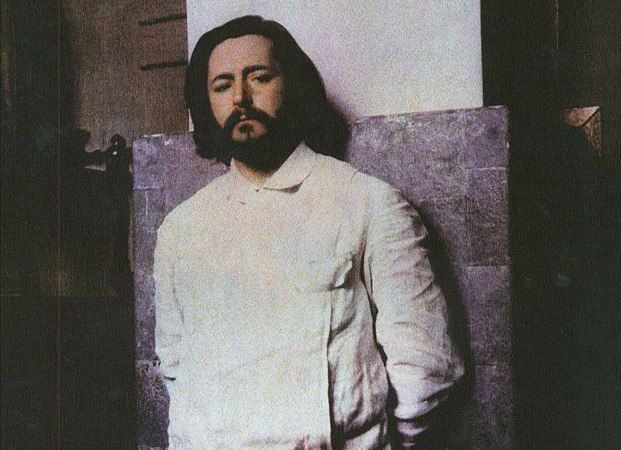Роман Леонида Андреева «Сашка Жегулев» (Проблема неомифологизма)

Е.В. Каманина
Возрастающий интерес к Андрееву-романисту связан с проблемой неомифологических тенденций как в русской прозе серебряного века («Христос и Антихрист» Д.С. Мережковского, «Мелкий бес», «Творимая легенда» Ф. Сологуба, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Петербург» А. Белого), так и в европейской литературе (романы Дж. Джойса, Ф. Кафки, Т. Манна, Г. Гессе). Именно в таком ракурсе андрееведы пытаются осмыслить жанровую и мировоззренческую специфику романов «Сашка Жегулев» (1911) и «Дневник Сатаны» (1919).
Чуткий к экзистенциальной боли своего века, Андреев в начале 10-х годов поставил перед собой художественную задачу — показать «синтез всей России» в национально-историческом срезе: «Мне уже давно хотелось написать о России... Я знал один из любопытнейших моментов русской истории: эпоху развала революции».
Не случаен и, более того, глубоко продуктивен выбор Андреевым трагического сюжета со стержневой — библейской — мифологемой крестного пути Иисуса Христа для осмысления событий первой русской революции. Пронзительно-острое переживание автором жестокости богов — «Всезнающего», который, осудив героя, подвергнет его карам; народа, который с «жестокостью того, кто бессмертен», с «божественной справедливостью безликого» неустанно требует жертв, — а также, иронии Судьбы, разменивающей чистоту и «строгость помыслов» на грех, благородство на злодейство, становится мощным катализатором, выявляющим в народной смути, массовых экспроприациях, терроре 1907-1908 гг. новые исторические грани. Библейский миф, разрабатываемый Андреевым в 900-е годы преимущественно в экзистенциальном ключе, в период создания «Сашки Жегулева» вбирает в себя из современного религиозного движения неославянофильскую тематику.
Сюжет романа, ориентированный на реальные события 1908-1909 гг. (разбойную деятельность «благородного» атамана А.И. Савицкого и его отряда на территории Черниговской, Орловской, Могилевской губерний), обогащается литературной традицией — народнического, неославянофильского, романтико-байронического происхождения. Предпринимаемые автором попытки толковать современные события сквозь призму литературных мифов ставят перед исследователями проблему притяжения Андреева-романиста к символистскому роману, разрешимую в свете культурно-семиотического подхода Тартуской школы.
Мы подходим к роману «Сашка Жегулев» с другим ключом — с тем, который открывает для нас специфику андреевского неомифологизма, связанную прежде всего с антимифологическим движением художественной мысли автора. В поле нашего исследования попали вызревающие в недрах все той же неклассической художественности зерна иного подхода к мифу — «критики мифа» (Ин. Анненский), обнаружившие в экзистенциально-экспрессионистском мироощущении Андреева благодатную почву и проросшие в романное мышление серебряного века причудливыми ростками. Предлагаемый здесь анализ текста имеет целью отчетливее представить превращение библейского мифа о крестном пути Иисуса Христа, осложненного национально-государственным и гражданским подтекстом и нацеленного в таком виде на актуальнейшие события современности, в свою религиозно-историческую противоположность — антимиф о приходе ложного Спасителя.
Новозаветная мифологема прихода Спасителя, отсылающая к устойчивой циклической схеме агиографии и, глубже, Евангелия (грехопадение — искупление — воскресение), пронизывает сюжетные события «пучками» библейских смыслов и окрашивает конкретные исторические события в мистические тона.
Избранность Саши, предвещающая его судьбу как святого мученика, обнаруживается уже в детские годы. Это проявляется во внешности, характере, поведении: «Тош, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости, которое связано с началом жизни, не хранила его память... чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его». Портрет Саши, исполненный в лубочном стиле, содержит в себе экспрессионистские штрихи. «... темные, иконописные — точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом» глаза Саши предвещают его трагическую судьбу.
Переезд матери героя Елены Петровны в тихий губернский город Н. ради спасения детей от нарастающих сил зла приобретает в свете миссианско-апокалиптической темы мифопоэтическую окраску. Ситуация вечного разрушения, угрожающего матери гибелью сына, образует устойчивое звено в архаическом сюжете: «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Ев. от Матф.). Благородные устремления Елены Петровны устроить жизнь на новом месте по законам «строжайшей чистоты» и красоты превращаются в нечто безрассудное. «Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети... и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти».
Жизнеописание будущего Спасителя типологически сближается с сюжетным каноном древнерусской агиографической литературы, включающим неизбежный уход святого мученика из отчего дома вопреки родительской воле. Необыкновенность Саши отмечают окружающие. Елена Петровна знала, что после Сашиного взгляда, заключающего в себе «важность и святость тайны» (здесь и дальше в цитатах курсив мой. - Е.К.), люди радостно откроют для себя «сокровище и клад». Избранностью Саши особенно будут дорожить лесные братья: «...он ...как ангел чистый, он нам Богом за нашу худобу послан, за ним ходи чисто... Барашек он беленький...».
История ждет своего Спасителя. Социальный ход событий с непреклонной логикой все яснее и настойчивее проявляет свою волю. «Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами... Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы грядущего». В сцеплении разрушительных сюжетных событий – в казнях, в террористических актах, убийстве министра, жандармского ротмистра, городового, околоточного надзирателя — проступают очертания Рока, указывающего на неизбежность для России исторического пути бесконечно разнообразных форм насилия.
В свете трагических событий семейный конфликт в романе приобретает нацибнально-историческое наполнение. Саша Погодин призван искупить грех своего народа: «...суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиною страдания осветить жестокую тьму». Отсюда оправданный упрек сына матери: «Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь (речь идет о событиях русско-японской войны. — Е.К.). Ты не имеешь права меня беречь». Ощущение и осознание героем исторической вины, больная совесть преждевременно его старят и утомляют: «...душа устала... Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась?» «Его (народа. — Е.К.) тоскою тоскуешь, мальчик! Я уже не говорю про теперешнее, ему еще будет суд! — а сколько позади-то печали, да слез, да муки... мученической». Национальный «грех» облекается кровью и плотью в преступлении, которое совершил отец Саши генерал Погодин — «зарубил шашкой какого-то студентика».
Преломление библейской темы сквозь историческую призму сообщает художественному миру романа неославянофильскую тональность.
Сакральная связь Саши Погодина с лесными братьями раскрывается во всей своей полноте в главе «Рябинушка». Центральным в этой главе становится образ русской души. Автор-повествователь использует для его создания средства музыкальной инструментовки. Через все повествование рефреном проходят строки из русской народной песни «Ты, рябинушка, ты, зеленая...», символизирующей судьбу революционной России. Атмосфера откровения и радостного приятия мира рождается из хорового исполнения лесными братьями песни под музыкальное сопровождение Петруши.
Образ Петруши, как идеальное, по мысли художника, воплощение поэтического склада русской души, ее драгоценнейших граней — детской невинности, безгрешности, благодарного открытия миру — аккумулирует гармоничный настрой лесных братьев. «Притихли мужики, пригревшись у огня, и, как нечто самое серьезное и важное, слушали подготовительные переборы струн и певучую речь радостно взволнованного Петруши». Мистические настроения откровения обнаруживают духовную рвязь Саши с крестьянским миром. «Ты присматривался к Еремею, нет? — спрашивает главный герой Василия. — Присмотрись. Он все время молчит, и я целый вечер за ним слежу: он все мне открыл. Я знаю, ты сейчас же спросишь, что открыл, а я тебе что-нибудь навру — не надо, Вася». Даже «жуткая душа» Васьки Соловья в хоровом единении лесных братьев не так устрашает.
Провидческое проникновение повествователя в душевный мир героев открывает глубинные тайны русской души: «Спуталось что-то в плывущих мыслях бродяги, и уже кажется, что не бродяга он мирный, чурающийся крови, а разбойник, как и эти, как и все люди в русской земле, жестокий и смелый человек с крутою грудью и огненным пепелящим взором». Стихийности, как коренной черте русского народа, столь далекой от гражданского воплощения идеала свободы, сообщается повествователем поэтическая «мера», и в таком качестве она становится позитивной сущностью. «Встают в обширной памяти его (бродяги. — Е.К.) бесчисленные зарева далеких пожаров... Дневные дымы, кроющие солнце, безвестные тела, пугающие в оврагах своей давней неподвижностью, — и чудится, будто всему оправданием и смыслом является этот его пронзительный свист». Только к избранному народу приходит Спаситель, «...скажи, Василий, ты веришь, что наш народ — великий народ?
- Верю.
- Что бы то ни было?
- Что бы то ни было».
Взаимопроникновение разрушительно-карающих и созидательно-искупительных начал составляет центральный нерв в андреевском понимании истории. В связи с этим не случаен авторский выбор искупительного пути для своего героя — «священного» разбоя.
Однако развитие сюжетных событии обнаруживает конфликт библейского мифа с историей. Жертвоприношение героя утрачивает свой сакральный смысл. Духовная связь Сашки Жегулева с лесными братьями распадается. Смерть Петруши символична, гак как вместе с ним умирает поэзия народного бунтарства. Отныне поэтический покров сорван с «благородного разбоя». В главе «Васька плясать хочет» заявлена воля Васьки Щеголя, воплощающего самые темные стороны русского духа. Приговор Еремея Гнедых, героя, в котором автор усмотрел благородную породу крестьянства, приводит Сашу к «пробуждению» от исторической богоизбранности. «Подлизываешься, барин?.. Много денег награбил, разбойник?.. Много христианских душ загубил, злодей непрощенный?» Обвинение Саши в воровстве, присвоении общих денег, укор в бессовестливости придают священному деянию особую драматичность. Ведь именно Саша Погодин призван разбудить мужицкую совесть и тем самым освободить народ от исторической тяжести греха. К тому же зачинщиком ссоры Жегулева с лесными братьями оказывается Васька Щеголь.
Своим жертвоприношением Саша не только не искупает грех, но и волею исторических судеб России удваивает его. Васька Соловей, собрав свою шайку разбойников, становится зловещим двойником Саши Погодина: «Не то страшно в Соловьеве, что он подлец, даже и не то, что он не поверил в ихнюю чистоту, а то — что действия его похожи и называется он также Сашка Жегулев. Так же отдает деньги бедным, — такая идет о нем молва, — так же наказывает угнетателей и мстит огнем, а есть он в то же время истинный разбойник, грабитель, дурной и скверный человек».
История России вносит в опорные звенья библейского мифа существенные изменения. Спасения не происходит: «Жертва уже принесена. А принята ли? — тому судьей будет сам народ». В связи с этим не состоялся заключительный акт священного ритуала — воскресение.
Андреев поведал нам не только об откровениях воскресшего Елеазара (рассказ «Елеазар»), Человекобога Василия Фивейского (повесть «Жизнь Василия Фивейского»), вочеловечившегося Сатаны (роман «Дневник Сатаны»), неприятно поразивших наш эстетический вкус и по иронии истории оказавшихся сильным противоядием шестовской мысли о «вероятностных» мирах, где все возможно. Он еще возвестил о приходе ложного Спасителя. Природа с болью и кротостью встречает своего любимого сына — Невоскресшего Христа: «Но сегодня в высоком лесу, как в храме среди золотых иконостасов и бесчисленных престолов, — тихо, бестрепетно и величаво. Колоннами высятся старые стволы, и сам из себя светится прозрачный лист: на топкое зеленое стекло лампадок похожи нижние листья лапчатого резного клена, а верх весь в жидком золоте и багреце».
Трагизм отчаянных дерзновений современного человекобога стать равно достойным высшей реальности и даже самого Бога образует лейтмотив и повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903). Однако запечатленные здесь в акте невоскрешения непреодолимо-пессимистические ноты уступают место просветлению в 1910-е годы. Исторический жребий своего героя Андреев обнаруживает в бескатарсисности страдания, в неспособности искупить зло ценой своей чистоты и даже самой жизни. И если Шестов сумел открыть в отчаянии источник человечности, в Ничто — корень творческих дерзновений, то Андреев оценил отчаяние и трагедию как неизбежную историческую стадию — невыносимо болезненную для человека. Всепрощение Елены Петровны и покаяние Сашки Жегулева стали для художника единственным шансом не отвечать насилию насилием и не творить новых мифов. «Легко идется по земле тому, кто полной мерой платит за содеянное... Идет в темноту, легкий и быстрый: лица его лучше не видеть и сердца его лучше не касаться, но тверда молодая поступь, и гордо держится на плечах полумертвая голова».
Поставленная во главу угла романа библейская тема существенно изменяет классический канон повествования. Наиболее адекватной экзистенциальному типу авторской личности становится форма всезнающего повествователя — пророка, которому доступно откровение исторического пути России. В свете религиозного мифа повествование обретает звучание библейского благовествования. Живое слово, срывающееся с уст художника, открывшего для нас боль и муку самого Иуды (рассказ «Иуда Искариот»), пронизывает событийную историю романа тревогой за будущее и трепетом перед прошлым. Позиция сверхавтора устремлена к пространственно-временной вездесущности. Крестный путь Саши предсказан им во всей полноте во вступительной главе 1-й части романа: «Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещих зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу».
Повествователь пророчески предвещает судьбу своих героев в многочисленных «вставках», охватывая тем самым события с «высоты птичьего полета».
Многочисленные лейтмотивные повторы, усиливающие эмоциональные оттенки экзистенциального мирочувствования (смертность, страх, тревогу, обреченность, бескатарсисность), придают мифологическому ритму экспрессионистскую окраску. Сквозной мотив искупления и возмездия звучит в романе с особенной пронзительностью: «Кто-то невидимый бродил в потемках по русской земле и полной горстью, как сеятель щедрый, сеял тревогу, воскрешал мертвые надежды, тихим шепотом отворял завороженную кровь... Кто-то невидимый в потемках бродит по русской земле...».
Повествователь обращается к мысли о неизбежном возмездии вновь и вновь. Так, в главе «Рябинушка» перед его взором, созерцающим идиллическое братство крестьянского мира с Сашкой Жегулевым, неотступно стоит образ «сеятеля Шедрого». Фокусируясь вокруг мировоззренческого стержня («Ищу Бога! Ищу Бога! Бог мертв!»), образ становится статичным и четким: «Мертво грохочут в городе типографские машины и мертвый чеканят текст: о вчерашних по всей России убийствах, о вчерашних пожарах, о вчерашнем горе...». В строе андреевского повествования наблюдается феномен совпадения изображающего слова автора с объектным словом героя. Так «крававые мысли» Сашки Жегулева о «непонятности страшной судьбы своей» (глава «Пробуждение») и авторское описание «пробуждения» Саши, познавшего горечь иудинова предательства (глава «Любовь и смерть»), не имеют интонационно-синтаксических различий. «Шоковое» состояние автора препятствует объективации героя. Ослабленный диалогизм отчасти компенсируется стилистическим полифонизмом: в романе слышны интонации библейских пророков, греческих трагиков, поэтов эпохи романтизма. В стилистическую ткань романа вторгаются охваченные беспокойством голоса: «Перекликаются в испуге:
- Кто-то забыт. Все ли здесь?
- Все.
- Кто-то забыт. Кто-то бродит в темноте?
- Не знаю.
- Кто-то огромный бродит в темноте.
- Кто-то забыт. Кто забыт?
- Не знаю».
Прием экспрессионистского остранения фиксирует авторскую историческую тревогу, неизбежно заражающую как читателя, так и героя.
Пронизанный экзистенциальными токами, библейский миф высвечивает личность, охваченную вечной тревогой за судьбы мира, глубоким переживанием своей трагической причастности народу, истории, обществу.
Мысль о человеческом единстве, устремленности к общей цели во имя спасения от войн, катастроф и насилия прозвучит и в пьесе
Антимиф о приходе ложного Спасителя обнаруживает самые болевые точки русской истории: бессилие христианства перед молохом революции; закономерную для России метаморфозу свободы в анархический бунт; гражданскую и, возможно, экзистенциальную разъединенность народа и интеллигенции. Антимифологическое движение мысли рождается из экзистенциально-экспрессионистского осознания истории, сопряженного с тревогой, страхом, отчаянием, бескатарсисносгью, фиксирующего разрушение эпической картины мира.
Предчувствие Россией великих потрясений культуры и нации — мировой войны, череды революций, перешедших в братоубийственную бойню гражданской войны, — преломляется прежде всего в экзистенциализме и экспрессионизме. Попытки проследить вызревание мифа в антимиф существенно раздвигают горизонты нашего представления о неомифологических тенденциях в прозе серебряного века.
В исследовании жанровой и мировоззренческой специфики романа «Сашка Жегулев» мы выделяем ряд узловых проблем: выявление влияния символизма на стилевой опыт Андреева 10-х годов; обнаружение типологических связей андреевского романа с неомифологическими романами Дм. Мережковского, Ф. Сологуба, А. Белого; открытие в прозе художника этого времени постсимволистских (прежде всего экспрессионистских) тенденций.
Своеобразие андреевского романа нам видится в том «пограничном» положении, которое он занимает в литературном процессе рубежа десятилетий: на переходе от символистского понимания истории как «всеединства» к экспрессионистскому — с установкой на раскол «трансцендентного». В этой связи открывается еще одна перспектива исследования: антимифологизм Андреева и антиутопия Евг. Замятина.
Л-ра: Филологические науки. – 2000. – № 4. – С. 22-30.
Произведения
Критика