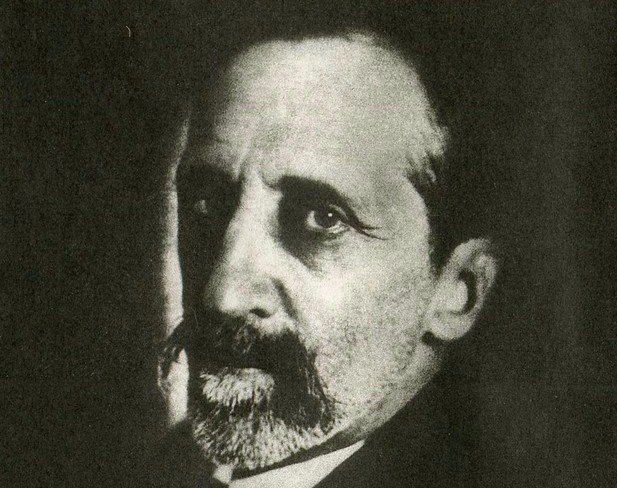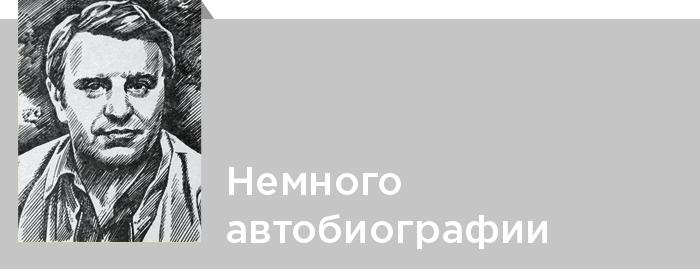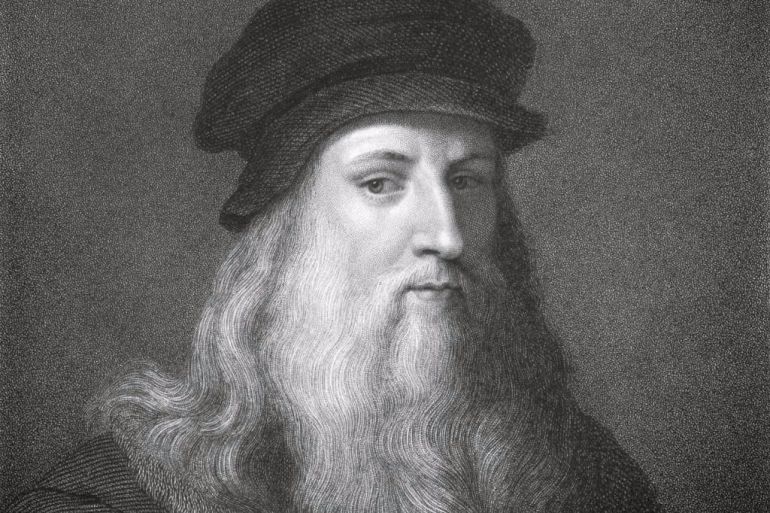Дмитрий Мережковский: структура сознания философствующего поэта на пороге ХХ века

Л.П. Щенникова
Поэзия Дм. Мережковского привлекла серьезное внимание отечественных исследователей, о чем свидетельствуют два сборника его произведений, увидевших свет в 2000 году в Санкт-Петербурге: «Мережковский Д.С. «Собрание стихотворений» (Серия «Вечные спутники») и Мережковский Д.С. «Стихотворения и поэмы» с вступительными статьями А.В. Успенской и К.А. Кумпан соответственно. В них предприняты попытки определить сквозные, интегрирующие творчество поэта, мотивы. Пока все сводится к констатации разорванного поэтического сознания: развитие творческой мысли рассматривается в пределах между народнической проповедью жертвенности и движением к «новому религиозному сознанию», вбирающему в себя «ницшеанство», «буддизм» и представления о «новой красоте».
Опытов рассмотрения всего поэтического мира Дм. Мережковского как целостности, в которой существует некая постоянная мифологема, еще не производилось, за исключением главы в диссертации С.В. Сапожкова, который увидел объединяющую мысль Мережковского-поэта в оправдании искупительной жертвы целого поколения, рожденнного на переломе двух эпох. Но это взгляд на поэта с позиций социальной истории, а сам Мережковский в первом поэтическом сборнике «Стихотворения» (1883-1887) (СПб., 1888) представил своего лирического героя как философствующего субъекта, испытывающего потребность утвердиться не столько в социуме, сколько в мироздании — в отношении к общим законам Бытия, к Богу. Центральная коллизия всей лирики Мережковского - это и основной внутренний конфликт большинства поэтов-«умников» 1880-1890-х годов, живших в эпоху общего религиозного кризиса, о котором сам Мережковский сказал: «Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить».
Герой первого стихотворного сборника - бунтарь-индивидуалист, потерявший веру и бросивший вызов «небесам», протестующий, подобно Ивану Карамазову Ф.М. Достоевского, против мира, сотворенного Богом. Исследователи отметили некоторые мотивы, сближающие их: нежелание простить «ни одной слезы» «за все величье мирозданья», неспособность «любить ближнего», утверждение права на духовное своеволие. Есть и принципиальное отличие героя Мережковского от Ивана Карамазова: последний не признается откровенно в своем безверии, а первый открыто заявляет о своем разладе с верой народа:
Он полон верою святой,
А я... ни в Бога, ни в свободу
Не верю скорбною душой...
Бунтарство героя раннего Мережковского было поначалу дерзостно-мажорным: его опьяняло сознание себя «один на один» с миром - без посредника, без Божества; радовали демонстративный отказ от модного народнического аскетизма и утверждение своих прав на все «грезы юности и все мои желанья». Примечательны слова В. Брюсова: «Когда вся «школа» Надсона, вслед на учителем, долгом почитала «ныть на безвременье и на свою слабость», Мережковский говорил о радости и о силе».
Однако лирический герой Мережковского скоро осознал, что отсутствие объединяющего мир Центра превращает его красоту в «бесчувственный, мертвый и холодный» наряд. Другим следствием безверия стало сознание бессмысленности и бесцельности пребывания человека на земле, более того - сознание бессмысленности всей Вселенной, представившейся поэту огромным саркофагом с «потухшими мирами». Духовная болезнь героя сопряжена с неизбывным страданием и отчаянием, но они не становятся показателями окончательного падения духа. Мережковский акцентирует на первый взгляд парадоксальную мысль: отчаяние таит в себе плодотворное зерно:
Порой, когда мне в грудь отчаянье теснится
И я смотрю на мир с проклятием в устах,-
В душе безумное веселье загорится,
Как отблеск молнии в свинцовых облаках:
Так звонкий ключ, из недр подземного гранита
Внезапно вырвавшись, от счастия дрожит,
И сразу в этот миг неволя позабыта,
И в буйной радости он блещет и гремит.
«Безумное веселье» в момент отчаяния «загорается» от возникшего чувства раскрепощения; рождающего еще одно, важное для героя, - эвристическое предощущение открытия нового в мире; раскованность духа в эту минуту помогает прорваться из недр подсознания новой, свободной мысли, являющейся индивидуальным открытием мира. Так начинается поэтическое переосмысление концепта «отчаяние», традиционно означавшего только крайний упадок духа, - переосмысление, которое получит особое развитие позднее, на новом этапе пути лирика - в третьем сборнике стихов. Эта трактовка отчаяния близка мысли С. Киркегора: «...отчаяние есть вполне свободный душевный акт, приводящий человека к познанию абсолютного», «...решившийся на отчаяние решается, следовательно, на... познание себя самого как человека, иначе говоря, сознание своего вечного значения».
Именно этой идеей проникнут второй сборник стихотворений поэта «Символы» (СПб., 1892), выразивший ожидание общего религиозного преображения. Его основную часть составляют произведения крупных лиро-эпических жанров: «Смерть». «Петербургская поэма»; «Вера». «Повесть в стихах»; легенда «Франциск Ассизский», «Конец века. Очерки современного Парижа» и др. Пафос книги лучше всего выражает открывающее ее стихотворение «Бог»:
Я Бога жаждал - и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал-
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты - мир.
Ты - все. Ты - небо и вода...
В произведении декларирована традиционная богословская идея синергизма, согласно которой цель человеческой жизни заключается в соединении с Богом, вытекающим из глубокой внутренней потребности личности. Бог тоже «идет» навстречу взыскующему Его человеку, просветляя своею Благодатью, так как Божие Домостроительство до конца не может осуществиться без воли человеческой.
Но в третьем поэтическом сборнике - «Новые стихотворения» (1892-1895) (СПб., 1896) - идея синергизма будет высказана по-другому, не по-богословски. В ней прежняя антитеза бунта и отчаяния прописывается по-новому: теперь отчаяние «входит» в состояние «тихого бунтарства». В двух произведениях с одинаковым названием «Спокойствие» («Мы в путь выходим налегке...», 1893, и «Мы близки к вечному концу...», 1896), поначалу не включенных в сборник, мысль об обреченности человека на цепь страданий, завершающихся смертью, представлена как итог бесплодного богоискательства. И это не только личный вывод: автор говорит от имени целой генерации людей, выстрадавших право («страданья веру победили»!) на отказ от упования на христианского Бога. Мережковский утверждает, что историческая миссия мужественных инакомыслящих людей оказывается не только скорбной, но и подвижнической, поскольку им приходится терпеть упреки за «ересь», за «ницшеанство» и «буддизм»:
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом...
«Певцом» ницшеанства, буддизма и эротики Мережковский был прежде всего в глазах тех, кто оценивал его поэзию с позиций ортодоксально христианских или радикально-народнических. Но и в наше время эти упреки повторяются. «Декадентство», «ницшеанство» и прочие «огрехи» Мережковского-поэта выводят, как правило, из немногих поэтических формул и ярких, запоминающихся словосочетаний: «... в красоте, великой и холодной, бесцельно жить, бесцельно умереть»; или: «Если хочешь, иди, согреши, / Но да будет бесстрашен, как подвиг, твой грех»; или: «...и не стыдись наготы»; или: «беспредельную скорбь беспредельно любить» и др. Но те же поэтические фрагменты теряют свой «декадентский» смысл в контексте всего произведения, а тем более в контексте всей структуры . сознания лирического героя.
Обратимся к стихотворению «Нирвана», якобы утверждающему «буддийское бесстрастие» поэта. Приведем его полностью:
И вновь, как в первый день созданья,
Лазурь небесная тиха,
Как будто в мире нет страданья,
Как будто в сердце нет греха.
Не надо мне любви и славы:
В молчаньи утренних полей
Дышу, как дышат эти травы...
Ни прошлых, ни грядущих дней
Я не хочу пытать и числить.
Я только чувствую опять,
Какое счастие - не мыслить,
Какая нега - не желать!
Вопреки названию, манифестирующему отрешенность от мира, содержание произведения выражает не мертвый покой равнодушия и безучастности к окружающему, а радостное ощущение себя частицей Природы, как бы погруженной в тишину небесной лазури. Герой чувствует гармоническую со-причастность и молчанию утренних полей, и дыханию трав. В произведении запечатлен таинственный процесс приближения к Бытию, освобождающий человека от мыслей о своей «конечности», от пытки возвращения сознанием в прошлое или забеганием вперед. «Нирвана» перекликается со стихотворением «Весеннее чувство» - одним из самых мажорных,- их сближает благословение жизни, ее детски-радостное приятие.
В первой книге стихов природа с ее чувственной красотой представлялась герою недостижимым образцом. В последнем поэтическом сборнике концепирующей становится Другая мысль: «дивный храм природы» близостью и родством человеку кардинально отличается от величественного собора. В вечном «храме» лесов и полей находящийся там с благоговеньем сознает
Свое с природой единенье, -
С ней связи древнего родства...
Религиозному безверию противостоит полное доверие героя к естественному миру. Если рациональный подход не дает полной возможности понять его как живую вечность, то инстинктивно-непосредственное восприятие красоты природы как частицы родного мира рождает чувство живой целостности Вселенной. Общением с природой интуитивно-чувственно достигается то, что не удается постичь герою ни разумом, ни религиозным чувством:
Сознанье шепчет мне так гордо:
«Ты - звук всемирного аккорда,
Ты - цепи жизненной звено...»
Здесь просматривается родство с идеями русского космизма, с постижением истины, заключенной в следующем: «...живое связано со всей природой миллионами невидимых, неуловимых связей». Эти идеи в среде русских философов-естествоиспытателей появились параллельно религиозным концепциям метафизического всеединства мира у Вл.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, С.Н. Булгакова и иногда в непосредственном соприкосновении с ними как религиозно-философская форма русского космизма.
В свете рассматриваемого процесса - обретения человеком гармонии в природном Бытии - некоторые «декадентские» формулы поэта в таких стихах, как «Смех», «Песня вакханок», «Вечерняя песня» и др., получают в поэтическом контексте иной смысл. Так, «Проповедь» греха и бесстрашия перед греховностью в стихотворении «Смех» направлена против богословской мысли о неизбежной вражде и борьбе между «падшим естеством» человека и евангельскими заповедями. Поэт, дистанцируясь от них и желая полного раскрепощения, прописывает свое:
Есть одна только вечная заповедь - жить
В красоте, в красоте несмотря ни на что...
В «Вечерней песне» - апофеозе легкого, радостного приятия смерти - организующей мыслью становится утверждение вечности мгновенных человеческих радостей:
На миг - любовь, на миг и счастье,
Но сердцу - вечность этот миг...
Мережковский-поэт в поисках центрирующей, объединяющей мир, идеи никогда до конца не отрекался от Божества, но с годами все настойчивее писал о самообожении:
Ты сам - свой Бог, ты сам свой ближний,
О, будь же собственным Творцом.
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.
Примечательно, однако, что культ человекобога оказывается совмещенным с культом Богочеловека, Христа: в ряде стихотворений («О, если бы душа полна была любовью.. », «Детское сердце») поэт утверждает, обращаясь к Христу: «Душа моя и Ты - с Тобою мы одни», «Я Бога любил и себя, как одно».
Неразделенность человекобога с Богочеловеком, с ортодоксальной христианской точки зрения, кощунственна. Это уже совсем не богословский синергизм. Такое совмещение может быть осознано с позиций философского понимания синергизма как взаимодействия полярных начал мира и современного понимания синергически мыслящего человека, ищущего целостности в различных, казалось бы, абсолютно несовместимых явлениях и процессах.
Это стремление к сближению полярностей проявилось и в жажде совмещения христианского Бога с языческими идолами. Желание широкого культурного синтеза, способного удовлетворить неискоренимую потребность в единодушии, Мережковский выразил еще во втором сборнике стихотворений, в стихотворении
Ныне в развалинах древних мы, полные скорби, блуждаем.
О, неужель не найдем веры такой, чтобы вновь
Объединить на земле все племена и народы?
Где ты, неведомый Бог, где ты, о будущий Рим?
В римском Пантеоне поэт остро осознает драматическое столкновение языческой веры в «Олимпийские святые тени» с христианской верой в распятого Богочеловека. Он ощущает благоговейный трепет перед Христом, принявшим муку и смерть за людей, и одновременно восторг от земной красоты и жизнелюбия языческих богов. Эти «совмещенно-раздвоенные» пристрастия представляют лирическую пролегомену к осознанию возможности синтеза язычества и христианства, который позднее будет прописывать Мережковский в своих романах и философско-критических трудах.
Мы подошли к важнейшей особенности структуры сознания героя Мережковского - к своеобразию его раздвоения. Он не просто отчетливо понимает свою раздвоенность, но манифестирует ее, делает специальным «предметом» осмысления. Очень часто герой выражает сразу, одну за другой, взаимоисключающие мысли, концепирующие различное мироотношение. В его сознании все противоречия существуют имманентно: и богоборчество, и «неугасимый жар мистического бреда», и жажда обновленной духовности, и пристрастие к плотской красоте. Примечателен композиционный контраст, выражающийся в парадоксальном завершении мысли, простраивающей произведение. Стихотворение «Смех», в котором утверждается, что нет ничего мудрее и прекраснее ликующего смеха, как бы обрывается неожиданным выводом:
Ужас мира поняв, как не понял никто,
Беспредельную скорбь беспредельно любить.
А стихотворение «Весеннее чувство», являющееся, с нашей точки зрения, апофеозом непосредственной радости Бытия, неожиданно заканчивается строками:
Равно да будет сладостно И жить, и умереть.
Логико-композиционный «слом» может произойти и в середине произведения, когда подходит к концу цельная по мысли строфа:
Но душа не хочет примиренья,
И не знает, что такое страх;
К людям в ней - великое презренье,
И любовь, любовь в моих очах...
Эпатирует и удивляет это «немотивированное» выражение любви после бесстрашного выплеска презрения к миру.
Стиль контрастов (не только логико-композиционных, а и лексико-семантических, таких, как «бесстрастный смех», «мгла иконы», «прелесть зла» и др.) выражает исходный мировоззренческий постулат поэта: убежденность во взаимосвязи и взаимозависимости полярных начал мира и их стремлении к сопряжению и стяжению. Контрасты, диссонансы и парадоксы поэта проникнуты энергией «поэтического синергизма» и тяготеют к некоей системности.
Вместе с тем в поэзии Мережковского проявляется и эпатаж читателя, и незапланированные последствия «игры ума». В них подчас выражаются непроизвольные фантазии, рождающиеся в недрах стихии интеллектуального характера, которая оказывается столь же неконтролируемой, бессистемной, как, например, ничем не сдерживаемая эмоциональная исповедальность. В ряде произведений: «Темный ангел», «Голубое небо», «Осенние листья», «Средиземное море» и др. — автор оказывается в плену у фантастических грез. Созданные в них мыслеобразы представляют вариации на тему «чары смерти»: «Сердце чарует мне смерть». Воплощением этих чар становится то «темный ангел одиночества», то «бесстрастное» голубое небо, то «бесстрастное» море, то красота опадающих листьев. Эти мыслеобразы захватывают сознание поэта настолько, что не он владеет поразившей его мыслью, а она своей внутренней логикой ведет раздумья героя к « чарующему» тупику.
Несмотря на эти «огрехи», лирика Дм. Мережковского выразила, на наш взгляд, не хаос переживаний и «разорванность сознания», а потребность поэта в идеале - в связующем мир духовном центре:
Не все ли мне равно - Мадонна иль Венера,-
Но вера в идеал - единственная вера,
От общей гибели оставшаяся нам,
Она - последний Бог, она - последний храм!..
В парадоксальном синергизме Дм. Мережковского прописались общезначимые культурные потребности «переходной эпохи»: желание отыскать некатастрофический выход из кажущейся катастрофической ситуации тотального духовного кризиса 1880-х годов.
Л-ра: Филологические науки. – 2002. – № 6. – С. 3-11.
Произведения
Критика