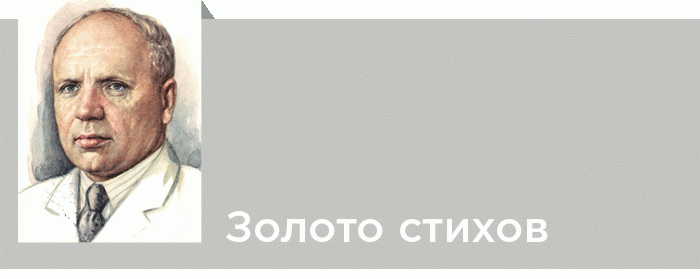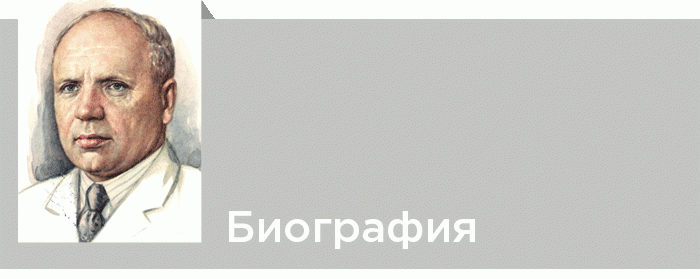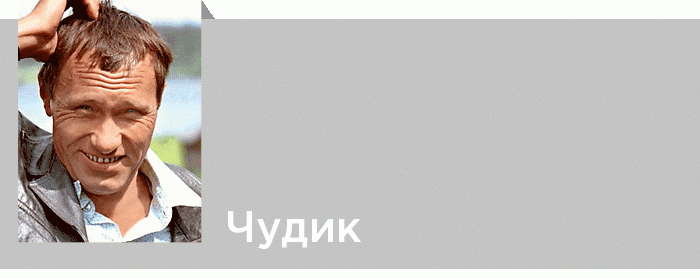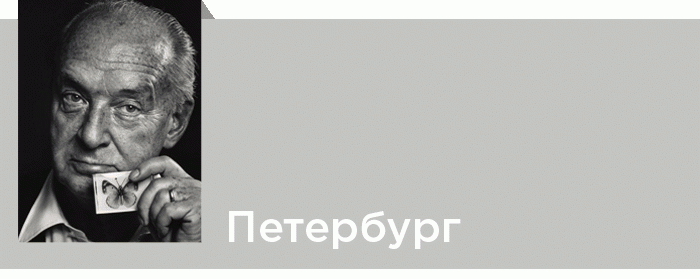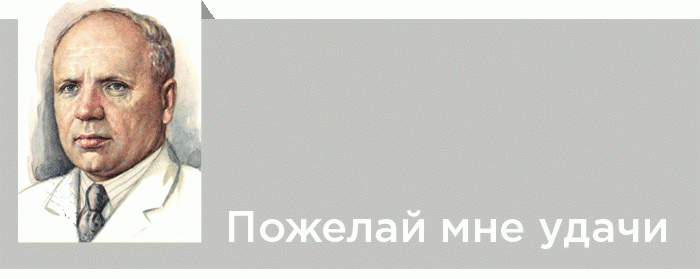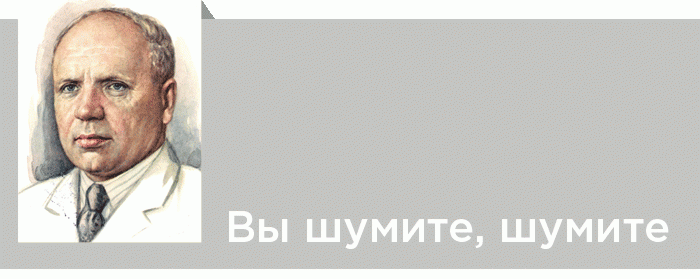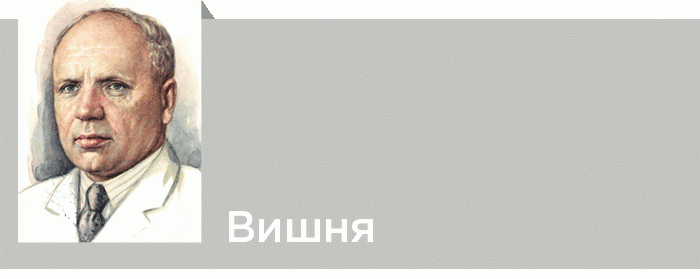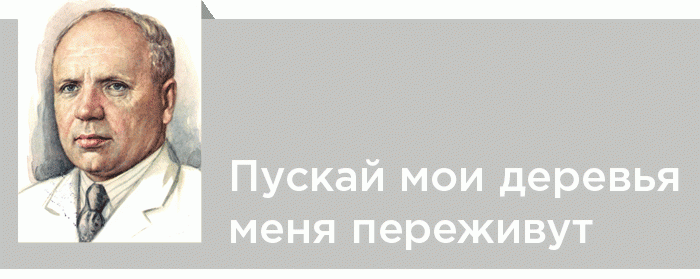О некоторых особенностях поэтики А. Прокофьева
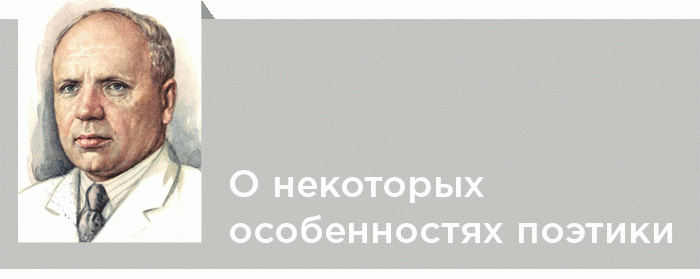
Г.И. Белоусова
О своеобразии поэзии А. Прокофьева заговорили почти сорок лет назад с появлением его первых стихов. С тех пор ни одна работа о творчестве поэта, ни одна из многочисленных рецензий и статей о его стихах не обходится без определений «самобытный», «неповторимый», «своеобразный». Многие теоретические работы, посвященные проблемам русского стихосложения, привлекают в той или иной связи прокофьевские стихи как пример, без которого трудно объяснить многие явления современной поэзии. Однако до сих пор нет сколько-нибудь полного и серьезного исследования, раскрывающего художественное мастерство поэта, сущность его оригинальности. Между тем именно сейчас, когда к вопросам творческой индивидуальности, образно-художественной системы, языка писателей усилился интерес, выявление некоторых особенностей творческого метода одного из больших советских поэтов представляется важным.
Одной из существенных задач при рассмотрении стихов Прокофьева является задача изучения словесно-художественного стиля поэта, решение этой задачи дает ключ к пониманию внутренних закономерностей художественной эволюции поэта.
Нередко можно услышать мнение, что 30-е годы следует считать периодом наиболее полного расцвета творческой индивидуальности Прокофьева. Надо сказать, что вхождение молодого поэта в литературу было действительно необычайно ярким, эффектным.
«Ливень звуков обрушивается на читателя, пожар красок бросается ему в глаза... Камень у Ладоги — „синий, синий шелк, он серебрит сигами и золотит ершом". Земля у Прокофьева — „в серебряном разливе яблок", в „белом цветении кувшинок", в „брызгах первосортных медуниц”. Ветра у него „барабанят”. На месте сказок и поэм расцветают лесные лилии», — писала о нем критика в 30-е годы. Поэт сразу нашел «собственный лад», запел в полный голос.
Однако наблюдая дальнейшее развитие творчества Прокофьева, который с самого начала определил свои симпатии, привязанности, идеалы и остался верен им, который, говоря его же словами, разрабатывал одну золотоносную жилу, убеждаешься в непрерывных поисках художника, давших такие, несомненно значительные для всей советской поэзии произведения, как поэма «Россия» в годы войны и лирический цикл «Приглашение к путешествию» в 60-е годы. Каждое из этих произведений было творческим взлетом поэта на новом этапе, по ним можно судить о развитии и совершенствовании его художественного мастерства.
Прежде чем приступить к рассмотрению художественно-изобразительных средств поэзии Прокофьева, остановимся на некоторых важнейших моментах формирования его творчества. Он вступил в литературу в конце 20-х годов, когда лирика как поэзия субъективно-индивидуалистических чувств расценивалась критикой как «упадническая»» не выражающая передовых идей своего времени. «Лирика как поэтический жанр может сейчас иметь вес и воздействие лишь при условии оперирования вещами и предметами, за которыми стоят социальные отношения эпохи», — писали тогда, требуя отражения в первую очередь общественно-социального содержания явлений. В этом требовании в значительной степени закономерно сказались тенденции самой жизни 30-х годов, когда подъем энтузиазма масс, чувство коллективизма людей нового общества действительно наполнили новым содержанием человеческие отношения и подняли на высшую ступень общественное самосознание человека.
Однако ощущение слитности с коллективом, с народом в социалистическом обществе не означает нивелировки личности. Развитие поэзии 30-х годов шло в направлении углубления индивидуально-психологической характеристики современника. Важно отметить, что если в поэзии 20-х годов мы видим разграничение поэтов на пролетарских и крестьянских, то в 30-е годы такое деление потеряло смысл: поколение поэтов, к которому принадлежал Прокофьев, — это поколение поэтов советских, синтезировавших в своем потоке оба эти направления и создавших качественно новую поэзию. Перед ними стояли уже иные, чем перед поэтами 20-х годов, задачи: в центре их творчества встал советский человек, человек нового общества.
Одним из процессов, знаменовавших как раз повышение интереса к личности человека, был процесс своего рода «очеловечивания», привнесения в поэзию чувств личности, сформировавшейся в определенной социально-этнографической среде. Вначале это проявилось в поэзии общественно-гражданского содержания, затем, с середины 30-х годов, в лирике «личных чувств». Прокофьев был одним из тех поэтов, для которых усиление собственно авторского (лирического) начала происходило в связи с воспоминаниями о родном крае, детстве и юности. События биографии поэта становятся событиями его стихов. Первые прокофьевские стихи были посвящены Приладожью. Напомним, что и М. Исаковский и А. Твардовский вошли в литературу также со своей местной (смоленской) темой. Поэты старались расширить представление о современнике, внося в литературу краски и речь родных мест.
В 30-е годы происходит необычайное расширение литературного, языка за счет привнесения особенностей многих диалектных наречий. Активное вторжение языка масс в литературу было, как известно, процессом небезболезненным. Тут были свои немалые издержки: чрезмерное увлечение узкообластнической лексикой, перегрузка произведений словами и оборотами, непонятными читателю, нарочитое огрубление языка и т. п. Однако сама тенденция проникновения языка широких масс в язык литературы, являющаяся, в общем, ведущей тенденцией развития русского литературного языка и заявившая о себе на сей раз особенно решительно (проявления ее можно наблюдать не только в поэзии, но и почти во всех остальных литературных жанрах), была закономерной. Она отразила процессы общественно-культурной жизни; страны.
В ранних прокофьевских стихах наблюдается обилие чисто ладожских речевых оборотов. Поэт без всяких пояснений использует в текстах сугубо местные слова («олешняк», «шелонник», «мойва», «басалан», «трешкоты», «овыдь» и т. д.), служащие для создания поэтических образов, связанных с жизнью людей, принадлежащих к определенной социально-этнографической среде.
Идет большая шхуна (А чайки на молу),
И трет тюленья шкура Кирпатную смолу.
А за кормою овыдь...
И не боясь утрат,
Я все ж беру за повод И воду и ветра.
Поэт как бы предполагает всепонимающего читателя, знающего и обычаи ладожских рыбаков, и нрав моря, — читателя, которому нет необходимости объяснять, как тяжел и подчас опасен труд рыбака, как радостно видеть, что «идет большая сойма, лишь гул в ее снастях».
Будучи кровно связан с Приладожьем, Прокофьев воспринимал мир глазами ладожского рыбака, почти все понятия он соотносил с привычными представлениями: «луна — серорыбица плотица», «туман мой — сивый мерин», «пароход длинней озерной лодки» и т. д. Это придавало словарю раннего Прокофьева яркую социально-этнографическую окраску.
Обладая в высшей степени чувством слова, молодой Прокофьев подчас настолько увлекался звучанием, сочетаниями став, что под его пером рождалось «веселое косноязычие», по собственному авторскому выражению. Лексический и синтаксический строи такого, например, стихотворения как «Мой братенник» очень характерен в этом отношении. Наряду с оборотами типично ладожскими, с народными присловьями и поговорками, поэт употребляет морской жаргон, жаргон улицы, вводит в стих экзотически звучащие названия деревень и городов:
А трехрядка — окаянней...
Пиргала, Митала — монастырь.
А на море-окияне
Белый камень — Алатырь!
Пиргала. Митала. Гавсарь. Выстав.
С кораблей червонных ладно порой
Где-нибудь да в Гамбурге зыйди да выстань,
Тырли-бутырли — дуй тебя горой!
Где-нибудь под Гавсарью: манна-вира!
Райны и шкоты, разрыв-трава.
Где-нибудь да в Гамбурге за моей милой
Иноходью ходят солнце и братва!
За обилием колоритных деталей, за завораживающими звуковыми сочетаниями не всегда прояснена мысль автора. Повествование начинается с рассказа о «братеннике», который «ходит к Ливерпулю по чужим заморским сторонам», но сюжет отходит на второй план — совсем не это занимает поэта. Эмоциональная насыщенность, возбужденная интонация стиха выражают неуемное жизнелюбие, радостное удивление перед открывшимся миром, отличным от мира Ладоги и в то же время воспринимаемом через знакомые образы (Пиргала, Митала, Гавсарь, Выстав — названия местечек и деревень Приладожья).
Правда, уже тогда можно было видеть, что диалектизмы употребляются, когда речь идет о понятиях и явлениях, связанных с жизнью ладожан (детали быта, обозначения явлений природы, передача стилевой окрашенности речи героев). Когда же поэт обращается к темам гражданским, то с гораздо большей осторожностью вводит в стихи диалектизмы, стараясь достигнуть полной смысловой ясности местного слова в общем контексте стихотворения.
В поэзии Прокофьева 30-х годов параллельно существовали две стилистические системы словесно-образного выражения, связанные с жанром и направленностью произведения, — это направленность лирическая, берущая начало в сборнике «Полдень» (1931), и публицистическая — в сборнике «Улица Красных Зорь». Если в стихах, посвященных теме личной, отражая с детства знакомый и близкий мир ладожской деревни, вводя читателя в этот мир, Прокофьев смелее и увереннее полагается на свое поэтическое чувство, то в теме гражданской он не сразу находит свой собственный стиль. Так, центральным в сборнике «Улица Красных Зорь» стал романтический образ-обобщение, явно перекликающийся с космическими образами пролетарских поэтов 20-х годов:
Мы — миллионы людей бесстрашных, те, что разрушили гнет.
От Белого моря до Сан-Диего слава о нас идет.
Огромны наши знамена (красный бархат и шелк),
Огонь, и воду, и медные трубы каждый из нас прошел.
Некоторые из стихов сборника носят подчеркнуто те же названия, что и стихи пролетарских поэтов («Мы», «Железо», «Эпоха», «Товарищ»), однако если в стихах пролетарских поэтов доминирующее гражданское содержание, величие описываемых событий часто вытесняло человеческую личность, если богатая и яркая биография, разнообразный жизненный опыт каждого из них никак не отразился в их гражданских стихах, то у поколения, к которому принадлежит Прокофьев, в стихах гражданского содержания выступает как раз неповторимость индивидуального восприятия героем больших исторических событий. Недаром в «Третьей песне о Ладоге» возникает образ, отличный от образов пролетарских поэтов: «Мы, рядовые парни (сосновые кряжи.), ломали в Красной Армии отчаянную жизнь».
Говоря о своем герое как о представителе целого поколения людей, придавая образу обобщенно романтический характер, Прокофьев постоянно подчеркивал, что герой остается «рядовым парнем», имеющим свою биографию. Потому в общий строй стихотворения о гражданской войне, где повествование ведется о событиях исторического значения, поэт вводит разговорные обороты, интонацию, передающую непосредственную реакцию героя на происходящее:
За эту драку, черт возьми, кривую, как коса,
Нас всех, оставшихся в живых, берут на небеса;
Но нам, ребята, ни к чему благословенный край...
Я сам отправил четверых прямой дорогой в рай.
Органически входя в «высокий» строй стихотворения, эти строки передают чувства реального участника событий, привнося в повествование, в целом серьезное, драматичное, оттенок отчаянной удали, бравады пережитым. Разумеется, такого не могло быть в стихах пролетарских поэтов, где обычное человеческое чувство заслонялось пафосом идеальным.
Стремясь во всей полноте и яркости отобразить дух времени, настроения героя, его отношение к событиям, Прокофьев чрезвычайно широко привлекал лексику экспрессивно окрашенную. В его стихах часто встречаются жаргоны, грубые выражения, например:
Темнее пивных бутылок неслась на нас шантрапа,
Голь, шмоль и компания... (удавная снасть крута!)
Прапоры и капитаны, поручики и рекрута...
Штандарты несли дроздовцы — бражка оторви да брось!
Передача самой непосредственной реакции героя на события, сознательное заострение некоторых качеств, преувеличенная эмоциональность выражения чувств — все это было выражением индивидуально прокофьевского восприятия и отражением мировосприятия определенного социального слоя людей, к которому принадлежал герой Прокофьева. Поэтому поэт свободно, без усилий оперирует языком массы, не подражая ему, но органично выражая на этом языке свои мысли и чувства.
Увлечение раннего Прокофьева вульгаризмами вполне объяснимо: во-первых, прокофьевский язык в какой-то степени отразил наплыв в лексику 20 — начала 30-х годов жаргона улицы; во-вторых, стремясь к эмоциональной выразительности стиха, Прокофьев нашел жаргон как действенное средство для передачи непосредственной реакции на происходящее; в-третьих, все-таки чаще всего Прокофьев вводил в стихи вульгаризмы, когда говорил о враге, о ненависти к нему.
Уже в ранних прокофьевских стихах особенно ярко проявилась та особенность поэта, что свое отношение к явлению, факту, человеку он выражает не через описание такового, но через собственную эмоциональную оценку. Именно в этой связи со всей важностью выступает роль поэтического стиля как средства характеристики героя. Мы видим, что в 30-е годы, описывая эпоху революции и гражданской войны, поэт нередко прибегал к таким выражениям, как «мы дрались, как черти, в лоск», «обстановочка ахова», «сукины сыны белогвардейцы», «мы взяли его как свечку и вывели в расход», «мать гулевая судьба-цыганка» и т. п., потому что именно такой стиль речи помог с наибольшей достоверностью передать эмоциональную жизнь прокофьевского героя. Впоследствии, отражая возросший уровень духовной жизни человека, поэт полностью откажется от вульгаризмов в речи.
Прокофьевский метод отображения действительности, главной чертой которого является приподнято романтический подход к явлениям, также складывался в 30-е годы. Этот метод определяет основные особенности поэтической речи, характер образности произведений Прокофьева. Показательно, что ранние стихи Прокофьева, в которых, как уже говорилось, изобиловали слова, не относящиеся к «высокому» стилю языка, тем не менее воспринимались как стихи подлинно высокого звучания. Приведем еще отрывок из цитированного выше стихотворения «Разговор по душам»:
Я всякую чертовщину на памяти разотру.
У нас побелели волосы бубновые на ветру...
Нам крышей служило небо, туманы с боков да мгла.
Мы пили такую воду, которая камень жгла.
Мы шли от предгорий к морю — нам вся страна отдана,
Мы ели такую воблу, какую не ел сатана.
Момент величайшего напряжения человеческих сил как момент раскрытия духовной сущности человека запечатлевает поэт, романтически гиперболизируя трудности, возвеличивая силу людей. Интересно, что критика тех лет в недоумении останавливалась перед таким сочетанием, казалось бы, несоединимого: с одной стороны, определяющий торжественную настроенность стиха пафос восславления подвига, романтическая обобщенность образов, с другой — чрезвычайно «личная» интерпретация описываемого (Прокофьева тех лет не раз упрекали в анархизме), образы, насыщенные крайне субъективным смыслом, резкая, до грубости, экспрессия речи. Такие образы, как «сухая вобла», «вода, которая камень жгла», были восприняты в данном контексте как «веселое косноязычие, не более». Между тем эти образы работают на главную идею произведения, они не только отражают какую-то деталь» примету времени, но и воссоздают общее настроение участника описываемого. У Прокофьева, как уже отмечалось, почти не встречается героев действующих. Направленность его поэзии такова, что наиболее важным для него является раскрыть какие-то моменты душевного состояния именно в данный отрезок времени. Причем, следуя определяющему его творчество романтическому подходу к явлениям действительности, поэт ловит наивысший подъем настроения, ярчайшую вспышку чувства. В свете этой вспышки как бы крупным планом освещено наиболее существенное для поэта и затемнены другие детали.
О том, что Прокофьеву действительно удается увидеть «крупным планом», говорит не только собственная декларация поэта о стремлении «сверху видеть мир, хотя бы с тучи, низким бытием не дорожа», но и весь строй его поэтической системы.
Особенности использования Прокофьевым самого жизнерадостного и активного жанра народной поэзии, частушки, также во многом обусловливаются особенностями художественного видения поэта. Частушке, как известно, не свойствен углубленный детальный показ человеческого характера. Ее темой, однако, является состояние поющего, волнующие его чувства. Это настроение выражается в частушке через поэтически оформленный жест. Звуковая компоновка, зачины, синтаксис, образы — все это создает выразительность жеста.
Гармонист, жарь, жарь,
Мне чего-то жаль, жаль,
Мне не жалко полушалка,
Я до слез жалею шаль!
Прекрасно переданное движение души в жесте отчаянной, безудержной пляски выражает живые черты характера человека; жест типичен для определенной среды. В этом смысле он ценен и познавательно. Прокофьев нашел в частушке главное: органическая связь его художественно-эстетических идеалов с народными, его знание деревенской жизни, рождающей частушку, и вместе с тем умение видеть «крупным планом» позволяют ему выделить именно те душевные состояния, найти те жесты, которые, естественно, выражают внутренний мир человека деревни.
Своеобразны и способы поэтической типизации Прокофьева: его образам присуща обобщенность, подчас граничащая с гиперболизмом. Причем гиперболизм прокофьевских образов близок гиперболизму народных былин, где ведущее — богатырское начало. В героях Прокофьева на первый план выступает физическая мощь и душевный размах, что подчеркивается характером изобразительных средств. Это проявляется в сравнениях, уподоблениях: «ты снова, мой дядя, что дуб на корню, и рыжее солнце берешь в пятерню», «квадратных, как печи, созвал сыновей»; в преувеличении внешних проявлений событий, чтобы выразить их подлинные масштабы: «десять сотен километров залегли по одному, десять бурь, четыре ветра преграждало путь ему»; в свойственном плакату резком преувеличении, концентрировании внимания на каких-то отдельных чертах портрета: «справа маузер и слева и, победу в мир неся, пальцев страшная система врезалась в железо вся». Обобщенность поэтического образа проявляется здесь в передаче частного, личного восприятия как широкого общечеловеческого переживания («Вся земля закидана венками, свитыми из счастья и утрат»; «Здесь тишина. Возьми ее и трогай, и пей ее, и зачерпни ведром...»).
Наконец, сам поэтический стиль Прокофьева отличается особой возвышенностью, которая складывается в основном из двух тенденций. Это, с одной стороны, использование необычных, с точки зрения лексического употребления в «высоком» строе стиха, слов просторечных, сугубо разговорных, сниженных. Здесь наблюдается следующий процесс: с течением времени Прокофьев суживает круг, а затем и совсем изгоняет из своего поэтического словаря диалектизмы и вульгаризмы. Для выражения эмоционального содержания он находит иные поэтические средства. Однако Прокофьев всегда опирался на язык широких масс; проникновение в поэтический словарь Прокофьева современного разговорного языка, начавшееся в 30-е годы, происходит и сейчас. Современный язык входит в его стих и недавно появившимся словом, и неожиданным в стихотворной строке словосочетанием («березы, голосуйте зеленым рукавом», «и тополя в порядке прений просили слова у меня»). Часто, соединяя несколько понятий, Прокофьев привносит в традиционный смысл новый, современный («как во нашей во деревне, молодой и быстроногой»). Прокофьев любит употреблять вводные слова и предложения («в трусости, пожалуй, нас явно невозможно упрекнуть», «знаете ли, как друзья ликуют, — это, расскажу вам, красота», «а мы, коль говорить наедине, уже стоим с грядущими веками наравне»). Не разрушая общий строй стиха, эти обороты, «приземляют» его, связывают с живой речью современника.
С другой стороны, отражение романтического подхода к явлениям сказывается в прокофьевском использовании традиционных «высоких» слов, казалось бы, утративших в силу частого употребления свою первоначальную значимость и весомость. В одном из лучших прокофьевских произведений, поэме «Россия», светлый образ родины поражает многогранностью изображения: это и Россия вековечных просторов, Россия песенная и Россия современная. Образ целиком создан в ключе высокой патетики. И если проследить, какими определениями, вообще несущими большую поэтическую нагрузку у Прокофьева, пользуется поэт, то можно сразу заметить их традиционность: «ты вовек не замолкнешь, родная», «Россия, светлая отрада», «Россия грозная и гордая», «страна высокая и вечно молодая», «широкая, разлетная», «ты идешь, железная» и т. п. Но в том и заключается своеобразие поэтического дара Прокофьева, что в лучших своих произведениях он заставляет по-новому играть стершиеся как будто бы слова. В прокофьевском тексте они как бы занимают исконно предназначенное им место, они призваны выразить большое искреннее чувство, потому они вновь обретают в общем строе произведения первоначальную значимость.
Следует сказать, что здесь, как это нередко бывает, особенности поэта, которые составляют основу индивидуальной неповторимости его, его достоинства, подчас перерастают в недостатки. У Прокофьева это, во-первых, недостаточно дифференцированный подход к отбору языкового материала, что особенно сказалось в раннем творчестве поэта, к характеру сравнений и уподоблений («Тогда миллионы шатались, словно пижона трость», апрель «тащился, словно фраер»; о народном герое — «он — рот. словно погреб», «он — скулы, что доски, а рот, словно гроб»). Во-вторых, недостаточно полно раскрывая в поэтическом контексте индивидуально-авторское понимание «высокого» слова, Прокофьев следовал определенным штампам. Больше того, у него вырабатывались собственные стандарты «высокого стиля». В стихах на самые различные темы встречались одни и те же «поэтические» слова, одни и те же празднично-высокие сопоставления.
В чем же тогда все-таки разгадка обаяния высокого поэтического слова Прокофьева? Обратимся снова к поэме «Россия». Одним из самых поэтичных и запоминающихся выступает в ней эпизодический образ Насти. Если в отрыве от целого контекста поэмы рассмотреть конкретные средства характеристики образа, то, на первый взгляд, они кажутся весьма простыми: это несущий самую общую оценку эпитет: «хорошо бежит с пригорка молодая Настенька», «она росточком хоть мала, зато характером мила», «Настенька-душа». Мы видим, что само определение, являясь, по сути, очень общим, основывается на традиционном употреблении, используется в своем первичном значении. Определения «милая», «хорошая», «добрая», относящиеся к Насте, близки к народно-поэтическому постоянному эпитету, который настолько тесно связан с определяемым словом, что почти неотделим от него. И вместе с тем так как эпитет в прокофьевском тексте — основное средство индивидуализации персонажа или явления, то он несет и главную субъективную оценку автора. Например, характерная для народной поэтики стяженная форма «маленька» («чтоб форсила маленька в новом платье аленьком») рисует не столько внешнюю сторону образа, сколько передает любовное, ласковое отношение к нему.
Однако при всей важности роли эпитета у Прокофьева было бы недостаточно рассматривать только его как средство создания образа: художественную идею поэт вкладывает не в каждое слово в отдельности, а в его сочетания с другими словами. Образ Насти перекликается с женскими образами, созданными в фольклоре. Этот образ, будучи включенным в общепоэтический замысел, призван выразить главную идею поэмы, воссоздающей национальный нравственно-эстетический идеал. Отсюда тесная связь художественных средств создания образа с народно-поэтическими.
У рябин бела оборка,
Мил платочек красненький,
Хорошо бежит с пригорка Молодая Настенька.
Первые две строки четверостишья также участвуют в создании образа: они как бы настраивают читателя, вводя в тему лирического переживания, подготавливают по ассоциации появление человеческого образа. Действительно, признаки «бела оборка», «мил платочек красненький» как бы становятся качествами человеческого образа. Все, что окружает Настеньку, становится ласковым, праздничным: «платьице алое», «Настины шуточки-прибауточки», «чтоб на ней в минуточку пушинки все растаяли».
Светлая, жизнерадостная тема, сопровождающая в поэме образ Насти, возникает и из бойкой, веселой интонации легких плясовых и частушечных ритмов. Для создания поэтического образа служит не только смысловая сторона слова, стилистическая его окраска, но и его звуковая сторона, синтаксические и фразеологические его возможности.
В связи с вопросами индивидуального стиля Прокофьева встает вопрос о типах словесной образности у него. Начать с того, что бросается в глаза самому неискушенному читателю, — живописности прокофьевской поэзии, яркости красок его палитры. Мы уже говорили о роли эпитета, в котором концентрируется сила и выразительность лирического определения объекта. Максимальную насыщенность поэт находит в определениях, наиболее обобщающих качества предмета, оценивающих их. Это мы видим не только в определениях «готовых», традиционных, но и в индивидуально-авторских определениях и сравнениях: «многоцветная весна», «горький, как рябина», человек, «звонкая, каленая» жизнь, «бедовое раздолье», «ручьев малиновый настой».
Можно заметить, что излюбленные цвета Прокофьева — голубой, синий, золотой, серебряный, алый. Каждое из цветовых определений у него помимо чисто внешней изобразительной функции несет определенное эмоциональное наполнение. Так, настроение душевного равновесия, радости и красоты выражают цвета голубой и синий: «и пойду к себе домой в голубом и синем», «сколько звезд голубых, сколько синих», «бежало в синеньком, коротеньком все детство ясное твое». С тем же значением его употреблял С. Есенин; в сознании обоих русских поэтов он ассоциируется с понятием покоя, прозрачности, чистоты природы, ее облагораживающего воздействия на человека.
Живописность слова выступает у Прокофьева в органическом единстве со звуковым содержанием его. В строфе
У Ладоги
И камень
И синий-синий шелк.
Он серебрит сигами
И золотит ершом, —
законченность поэтического образа, выразительность его возникает не только благодаря сочетанию цветовых определений, но и создается великолепной звуковой аллитерацией («синий-синий — серебрит — сигами», «шелк — золотит — ершом»).
На основе переосмысления традиционного значения слова Прокофьев создает индивидуализированный образ, который несет в то же время символический смысл, опирающийся на традиционность его употребления в поэтическом языке. В таких часто встречающихся у Прокофьева образах-обобщениях как «честь», «слава», «родина», «любовь», а также образах природы: береза, ветер, вода, цветы помимо основного содержания выступает символический смысл. Например, соловьиная песня — традиционный образ лирики становится у Прокофьева воплощением национального. Из переосмысления его родилась счастливая находка, образ «соловьиное горло — Россия» (поэма «Россия»), позднее мы снова встречаем этот образ: «соловьиное горло ты (Россия. — Г. Б.) откуда взяла?»
Интересно в этой связи следующее свойство прокофьевской поэзии, на которое уже указывала критика: у Прокофьева при внешнем сходстве с народно-поэтическими мало образов, которые можно было бы назвать чисто фольклорными. Здесь также играет роль переосмысление поэтом традиционных образов народной поэтики, насыщение их новым содержанием. Прокофьев меняет синтаксическую функцию слова, включает его в словесную конструкцию, где оно, вступая в новые связи, приобретает новый смысл (голубая река — у Прокофьева: «длинную рубаху голубую надевала теплая река»; темный вечер — «наклонился вечер, хмур и темен, над землей, идущей на покой»; зеленая береза — «березка зеленью берета уже хвастнула пред сестрой»; смертный час — «мы ходили смертным часом, величайшим на земле»).
На этой основе создаются образы-метафоры, потерявшие непосредственную связь с фольклорными, воспринимающиеся тем не менее как близкие им: «месяц землю меряет багром», «ночь кричала запахами сена», «зима идет в платке по брови», «тучи, как мериносы, проходят в небесный хлев». Образ выступает здесь как законченное самостоятельное целое; слова же, составляющие образ, обозначают понятия, тесно связанные с жизнью деревни, природы, воспринимаемой глазами сельского жителя, то есть понятия, в той или иной мере отраженные в фольклоре.
В таких образах Прокофьев нередко использует этимологические возможности слова: «нараспашку выходят мои распашные ветра», «у туманов тут стан или пристанище», звуковые ассоциации: «выходила тоненькая-тоненькая, Тоней называлась потому», «отплачу и отплачу строкою любою».
К прокофьевским образам менее всего применимо буквальное прочтение. Мы остановились лишь на одном из принципов создания образов — на роли эпитета и метафоры у Прокофьева. Но уже из этого явствует, что, не противопоставляя обычной речи речь поэтическую, опираясь на художественно-эстетический опыт народа, Прокофьев в силу особенностей индивидуального мировосприятия, избравший метод романтического отражения действительности, создает образы большой субъективной насыщенности. Приведем такие, созданные Прокофьевым в разные периоды словесные образы, которые вызывали одинаковые нарекания в нехудожественности и нелогичности: «Мы гремели кровью и железом лютой биографии своей»: «За окном летела вдаль Россия со своей прекрасною судьбой»; «Он ходил безмежным горем, в лютом горе рос». Каждый из них в какой-то мере — нарушение привычных синтаксических и семантических связей слов, каждый несет отпечаток индивидуально прокофьевского стиля.
В первом примере мы видим максимальную сгущенность, смысловую насыщенность каждого поэтического слова. Сложная инверсия как бы нагнетает одно на другое несколько понятий, звуковые повторы (грохотали — кровью — биографии) передают эмоциональную напряженность, в результате чего рождается образ большой концентрированной силы, романтический образ-гипербола, характерный для Прокофьева 30-х годов.
Во втором примере — романтическое переосмысление образа России, которая предстает у Прокофьева и в конкретном, реальном воплощении и как некое одухотворенное целое, — образ, сложившийся в творчестве Прокофьева военных лет. Здесь вступает в силу закон «высокого слова», который отражает устремления автора к воплощению идеального, возвышенного образа. Отсюда обращение к самым абстрагированным понятиям, самым обобщающим определениям.
В последнем примере, взятом из недавнего стихотворения Прокофьева, — неожиданное переосмысление определения «безмежное» в сочетании с почти неупотребимым в современном языке фольклорным оборотом «ходить горем» не только создает образ преследуемого бедами человека, но и передает настроение безысходности, драматичности этого состояния. Происходит это благодаря конкретному художественному преломлению человеческой судьбы в плане общенародных нравственных представлений. Лексика этих строк, эмоциональная настроенность всего стихотворения, посвященного Т. Шевченко, как бы перекликается с основными шевченковскими мотивами. Здесь сказалась и деятельность современного Прокофьева-переводчика, много переводящего с украинского.
Серьезным вопросом, требующим отдельного самостоятельного исследования, является вопрос о песенности и мелодике прокофьевской поэзии в связи с развитием русской просодии вообще. Однако нельзя не связать вопрос образотворчества Прокофьева с этой стороной его поэтики. Интерес вызывает то обстоятельство, что Прокофьев, за которым еще в 30-е годы закрепилось определение поэта-песенника и стихи которого отличаются своеобразной гармонией и музыкальностью, не стал создателем массовой песни, как например М. Исаковский.
Дело здесь не только в том, что самостоятельная звуковая нарядность и ритмическая напряженность делают прокофьевские стихи трудными для музыкального переложения, не оставляя места для музыкальной фразы. Не последнюю роль играет и характер образности Прокофьева, сам стиль его поэтической речи. Образы Прокофьева гораздо более прихотливы, чем образы того же М. Исаковского. Песня не выносит резких смысловых разрывов, сложных инверсий, недоговоренности — она требует логической и синтаксической законченности каждой строфы. У Прокофьева же часто развитие основного образа, а вместе с ним и развитие интонации, мелодики стихе происходит за счет расширения этого образа, возвращений к нему и дополнений с помощью других образов, вариаций, интонационных разъяснений. Разговорные обороты, вводные слова и обращения, столь свойственные прокофьевскому стилю и не нарушающие у него своеобразной мелодики стиха, далеко не всегда поддаются песенному оформлению. Потому композиторы, создавая музыку на стихи Прокофьева, охотнее прибегают к романсовым мелодиям.
Рассмотрение образно-стилистических особенностей прокофьевской поэзии может служить доказательством несостоятельности взглядов на поэзию Прокофьева как на вневременную, как поэзию статичную, неразвивающуюся. Если ранний Прокофьев, активно вводящий в поэзию язык массы, в основном обеспокоен возможно более натуральной передачей колорита жизни определенного социально-этнографического круга людей, что влекло за собой лексические особенности его поэзии: подчеркнутую экспрессивность и эмоциональность речи, намеренное огрубление стиля и т. д. Если прокофьевская поэзия гражданского содержания резко отличалась от его лирических стихов, то в годы войны и послевоенные годы, не изменяя своему романтически-возвышенному подходу к жизни, Прокофьев становится сдержаннее, строже, раздумчивей. Происходит слияние гражданского и лирического начал его поэзии, на основе которого создается прокофьевская лирика последнего десятилетия. Прокофьев отходит от непосредственного использования узкоместного фольклора, от своеобразной местной экзотики, свойственной ему в 30-е годы, из певца Ладоги став певцом России.
Отсутствие «колоритных» слов и образов не стало у него гладкописью, нивелировкой стиля, — поэт ищет более современные способы поэтического выражения, что отнюдь не означает у него нарочитой усложненности образной системы, экстравагантной «современности» выражений. Он стремится «выйти к речи точной и нагой». И это не просто поэтическая декларация — вся эволюция творчества поэта показывает, как, идя от своего рода спонтанности выражения собственно-авторских впечатлений, когда, стремясь к возможно более эффектной передаче субъективного ощущения, поэт как бы не заботился о шлифовке мысли, к поискам подлинной естественности выражения реальных соответствий внешнего мира и субъективного восприятия, Прокофьев приходит к новому пониманию поэтического слова.
Отплачу и отплачу Строкою любою,
А коль что-нибудь значу,
То всею судьбою,
Ничего не жалея,
Грудь открыв, словно дверцу:
Там не тлеет, не тлеет,
А горит жаром сердце.
В сердце вся моя доля,
С ним душа навек слитна.
Всем увидеть позволю,
Что оно беззащитно.
Приведенное стихотворение характерно для Прокофьева последних лет. Здесь мы видим последовательность творческого метода: романтическую приподнятость стиля речи, слова обобщенного, абстрагированного значения, ассоциирующийся с народно-поэтическим зачином, песенные повторы, своеобразное сочетание разговорности и музыкальной напевности стиха, — т. е. те черты стиля, интонации образности, которые позволяют безошибочно определить автора.
И вместе с тем это стихотворение отлично от стихов Прокофьева 30-х годов, даже от Прокофьева 50-х годов не только своей тематикой: мы видим здесь свойственную всей поэзии последнего десятилетия тенденцию философского размышления о смысле и ценности человеческой жизни, не только своей формой — законченная лирическая миниатюра становится основным жанром у Прокофьева послевоенного, но и характером словесно-художественной образности. Это выражение единой четкой мысли, раскрытию которой подчинены все поэтические образы, словесная структура каждого из них отличается четкостью и лаконичностью. Мы видим иное, чем раньше, выражение прокофьевского приподнято-возвышенного стиля. Если ранее, чтобы воплотить возвышенность мыслей и чувств, поэт как бы преобразовывал реальные вещи, гиперболизируя образы или наделяя их условно сказочными чертами, то теперь он оставляет реальные жизненные пропорции поэтических образов и жизненных явлений, но приподнимает их выражением своего к ним высокого отношения.
Поэтическая речь Прокофьева обретает искомую выразительность и точность не в нагнетении гипертрофированных понятий, экспрессивно окрашенных, экзотически звучащих в поэтическом тексте слов, но в углублении в самые истоки слова, в его смысловой отточенности.
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия истории, языка и литературы. – 1966. – Вып. 4. – № 20. – С. 77-88.
Произведения
Критика