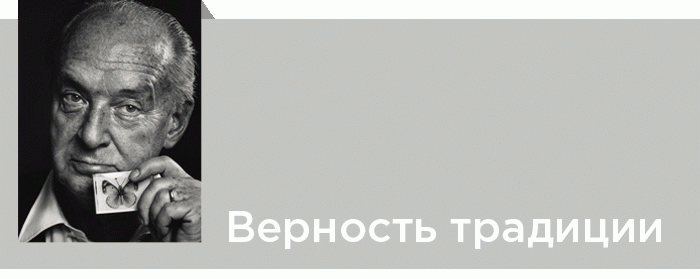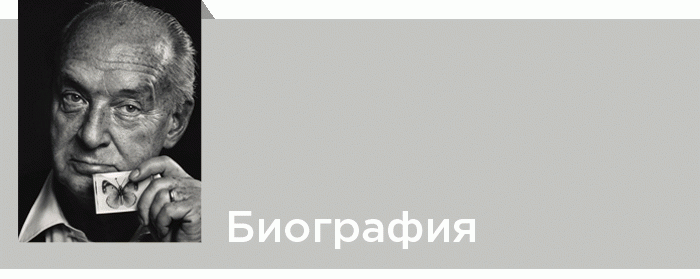Владимир Набоков: выломавшее себя звено
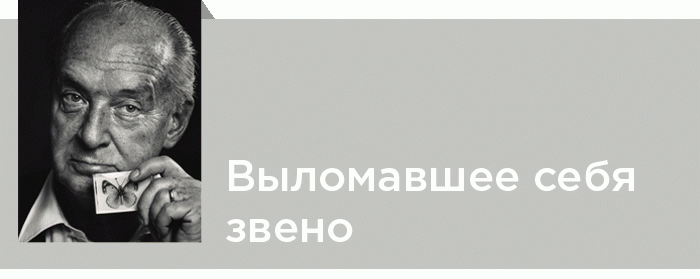
Е. Иванова
Есть все основания назвать два минувших года — 1988-й и 1989-й – временем торжества Набокова, поскольку в этот период он был не просто одним из самых печатаемых авторов, прилежно вывозивших подписку ряда современных изданий, не просто предметом острых критических сшибок, но, что гораздо важнее, стало очевидно, что он является основным ориентиром для молодых и не слишком молодых прозаиков.
Начало осваивать Набокова и литературоведение, но если критики о нем спорят, то литературоведы обнаруживают скорее солидарность. Единомыслие, с которым истолковывается ими Набоков, не часто встречается у нас, и потому на него стоит обратить внимание: в оценке Набокова совпали О. Михайлов и В. Ерофеев, призванные, по негласному литературному уставу, спорить по каждому поводу до хрипоты. В данном же случае и тот и другой выдвигают одинаковый тезис: набоковское творчество лежит вне традиций русской литературы. Разумеется, при этом О. Михайлов считает, что отступничество погубило талант писателя, а В. Ерофеев — что помогло обрести величие. Кроме того, отторгнув Набокова от традиций, В. Ерофеев объявляет его создателем метаромана, и это основоположничество в его глазах полностью компенсирует отсутствие славной родословной. Но важны не столько эти выводы и оценки, важен исходный тезис: Набоков — не русская литература, это писатель нового типа. Вот это-то и кажется наиболее спорным, нуждающимся в историко-литературной коррекции и конкретизации, поскольку неясным становится, почему именно Набокова пытался провозгласить своим наследником Бунин, любовно приветствовал Вл. Ходасевич, а Н. Берберова назвала оправданием русской эмиграции. Надо осмыслить его путь в историко-литературной конкретности, попытаться отыскать «сокрытый двигатель» его творчества, а уж потом укладывать в литературоведческие коробочки.
Но, думается, начинать осмысление надо на фоне судьбы всей литературы эмиграции, существование которой протекало в уникальных условиях диаспоры, когда отрезанными от корней и основ, выброшенными в пространство оказались около 10 миллионов русских людей, вынужденных в изгнании сохранять и заново создавать свою духовную культуру.
Наше вхождение в субъективную правду литературы русской эмиграции, мне кажется, полезно начать с признания реальности: именно в суровых условиях борьбы за выживание литературная молодежь эмиграции, как-то слабо и невыразительно дебютировавшая в четвертом поколении русского модернизма — Георгий Иванов, Владимир Набоков (кстати, не пора ли в этот список включить и М. Алданова?) — обретает как бы второе рождение, переживает неожиданный взлет, то время как их сверстники, начинавшие на равных, но оставшиеся в России, так и продолжали прозябать в полной безвестности. Задумываясь над тайной этой метаморфозы, над тем, почему первые неожиданно стали последними, нам вряд ли следует искать ответ только в свободе слова, будто бы обретенной эмиграции. Во-первых, некоторая свобода возможность печататься в 20-е годы сохранялась и у тех, кто остался в СССР. Во-вторых свобода в эмиграции носила, как и везде, относительный характер, ибо групповая разрозненность была здесь не менее ожесточенной, ведь это эмиграции обязан своим рождением анекдот о том, что там, где собрались трое русских, возникает как минимум две партии. И начинающим поэтам и писателям, ограниченным в выборе русских изданий, изначально приходилось приспосабливаться и ко вкусам редакторов, и к литературным нормам и этикету, вывезенному из России вместе с молью в сундуках, и ко многому другому, что перебороть было им не по силам.
В ряду эмигрантской молодежи Набоков занимает особое место. В его судьбе это второе рождение явилось наиболее неожиданным, поскольку стихи, которые он успел издать в России, ни в коей мере этого рождения не предвещали. Какими бы смягчающими оговорками мы ни пытались обставить приговор З. Гиппиус, упавший на голову Набокова после выхода его первой книги — «он никогда писателем не будет», — мы вынуждены признать, что, не выходя за рамки известных ей стихов, она имела основания для этого суждения: тогда такие стихи могли писать слишком многие. Не менее существенной представляется и ее вторая оценка, высказанная спустя десятилетие: «Набоков — талантливый поэт, которому нечего сказать». Это как бы усложняет загадку, заданную целым поколением эмигрантской молодежи: почему самый последний стал самым первым?
Возможно, один из путей к осмыслению судьбы эмигрантской молодежи предлагает более чем странное напутствие, которое в 1916 году дал другому поэту Вл. Ходасевич: «Георгий Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только, если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастия. Собственно, только этого и надо ему пожелать». Высказанное на самом пороге «большого и настоящего горя», это напутствие обрело пророческий характер.
Привычка держать себя в узде у Набокова настолько сильна, что порою кажется, он изнемогает под ее бременем. В его мире слишком много табу, слишком он выстроен и организован, что сообщает ему некую даже неестественность. Все, что нам удается узнать во взглядах, привычках, пристрастиях и чувствах, всегда выуживается с трудом из каких-то додаточных предложений, собирается по крохам — все самое заветное заткано плотностью недомолвок.
О чем никогда не писал Набоков? Об унизительной бедности, в которую свалился из роскошного особняка, поныне не потерявшего своего великолепия, о том, что в этой же нищете он вынужден был созерцать собственную мать, едва ли не единственную наследницу миллионных состояний. Набоков, описавший всех предков со стороны отца до седьмого колена, но полусловом не упомянул эту самую купеческую рукавишниковскую родню, деньги которой обеспечивали его золотое детство, всю ту роскошь, в которой он был взращен; и хотя материал можно было найти, купцы были не из последних, писатель как-то не спешил тревожить тени этих своих предков. Почему-то он делал вид, что не может вспомнить имя брата, ни словом не обмолвился о своей сестре Елизавете, которую содержал в эмиграции. Таких примеров можно привести очень много. Набоков всегда куда больше скрывает, чем рассказывает. Честь изобретения этой игры принадлежала не ему, еще Андрей Белый писал: «Так — всякий роман: игра в прятки с читателем он». Но Набокову принадлежит честь усовершенствования этой игры, в которой он достиг такой виртуозности, что в конце жизни стал писателем-невидимкой. Помогли ему изощряться, думается, во многом подсказки самой природы, и не зря он уделил столько внимания и потратил столько сил, изучая загадки мимикрии в энтомологии: эти уроки имели практический литературный смысл, помогая отыскивать способы защиты от любопытных, но ленивых читателей. Набоков требует внимания: смысл часто оказывается не там, куда автор увлекает доверчивого простофилю. Вот вроде бы из отдельных штрихов складывается облик дяди писателя, сделавшего его своим наследником, вроде бы про него рассказано все важное; но далеко не сразу открывается разгадка той ярости, в которую приходит отец Набокова, видя своего сына на коленях у дядюшки, мирно «ласкающего милого ребенка»: очевидно, у дяди были гомосексуальные наклонности, и в этом причина некоторых странностей его судьбы, вроде завещанного безвестному итальянцу имения. Пример из другой области: в романе «Другие берега» есть таблица цветовых ощущений Набокова от букв алфавита. Затем по поводу вымышленного имени героини воспоминаний Тамары вскользь говорится, что это имя окрашено в цветочные тона ее настоящего имени. Это как бы шарада в романе, разгадав которую можно найти и настоящее имя первой любви писателя — вероятно, Варвара? Или роман «Защита Лужина», развивающий два плана повествования, на первом из которых рассказ о жизни гениального шахматиста, создателя защиты Лужина, построенный как антитеза тем романам о гениальных и примерных детях, которые пишет отец героя. Но за этим рассказом развивается как бы шахматная партия, построенная как защита героя, Лужина, от наступления черных фигур, остановить которое пытаются сначала король-отец, а затем королева-жена. Оба эти плана намечает заглавие, Набоков прекрасно чувствовал двойственность русского родительного падежа.
Одно как бы запрещено самими правилами игры: принимать романы Набокова с полным простодушием, как приучила нас русская литература — при игре в прятки отношения между партнерами должны быть иными.
Пожалуй, была лишь одна тема, касаясь которой писатель позволял себе открыть нечто из подлинного строя своих чувств: семья. На фоне разверзнувшейся пустоты, какой была на первых порах жизнь в эмиграции, семья стала своеобразной «малой родиной», в пределах которой воскресало нечто из утраченной жизни. В семью Набоков поверил сразу и навсегда, отсюда проистекает та страстная ее поэтизация, почти исступленное описание отцовских восторгов, гимны и оды жене, довольно неожиданные у писателя с холодноватым и сдержанным темпераментом, каким обычно видится Набоков.
Пообвыкнув таким образом в художественном мире Набокова, нащупав в нем некоторые ориентиры, необходимо перейти к объяснению ключевого события его биографии, имевшего едва ли не символический смысл, — знаменитой сцены с Буниным, ставшей главным аргументом для доказательства «нерусскости» Набокова-писателя. Прославленный лауреат Нобелевской премии, патриарх и классик «русской литературы в изгнании» решился по собственной инициативе осуществить некий ритуальный и повторявшийся в русской литературе жест: передать эстафету тому, кого считал наиболее талантливым (кстати, и наиболее похожим на себя, о чем не место здесь распространяться) среди пишущей эмигрантской молодежи. Едва ли не впервые в жизни сдержанный и суховатый Бунин подвигнул себя на жест вполне театральный: «старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Так вот Набоков круто изменил традиционное течение сюжета, и Бунин был немало озадачен более чем холодным приемом, на который натолкнулся этот, по его расчетам, царский подарок. Тот, которого он мыслил в роли наследника, не только не поблагодарил за наследство, не только не бежал от смущения под сень царскосельских лип, но выслушал излияния со сдержанной улыбкой, даже не глянув в сторону заветов, которые ему предлагалось приумножать. Набоков не без гордости отметил в этой связи, что Бунин «был раздражен моим отказом распахнут душу».
Но поведение Набокова ничего не имело общего с тем ставрогинством, которое ему приписывают поклонники Бунина. Набоков очень любил открывать повторяющиеся темы в судьбе, так же как любил наделять этими повторами своих героев. И любил он их не напрасно: в его судьбе повторы приобретали последовательно символический смысл. Дело в том, что на пороге своего шестнадцатилетия он уже был однажды объявлен наследник миллионного состояния дяди, о чем, вероятно, ему не однажды приходилось вспоминать, проживая последние пфенниги в нищенских меблирашках Берлина. Не мог он не задуматься о разнице, которая существовала между ним, которому дядя завещал все, и тем безвестным итальянцем, которому дядя завещал только одно свое итальянское имение. С наследством у Набокова были особые счеты: по опыту он знал, что тот, кто тебе его передает, не всегда трезво оценивает возможности такой передачи. Он был едва ли не из первых в эмиграции, кто понял, что за ними никто не идет, они вполне последние, это эволюционный тупик. И если Бунину было поздно отрываться от этой цепи, то Набоков лелеял мечту освободиться из родовых пут и идей, вести вполне обособленное существование, отвечая только за себя:
Что никто нам не поможет
И не надо помогать, —
эту истину он мог констатировать вслед за Георгием Ивановым. Родина, заветы отцов, традиции — все это исчезало, уходило в песок, и эти слова только по инерции повторялись теми, кто уже не мог обойтись без них. От Родины они были отторгнуты навсегда, заветы отцов уже сыграли с ними жестокую шутку, и традиции никакой быть не могло, они последние в цепи.
Хорошо, что никого,
Хорошо, что ничего,
Так черно и так мертво,
Что чернее быть не может
И мертвее не бывать...
Понимая эту психологическую подоплеку, нельзя не признать, что нигилизм, за который так любят распекать Набокова, был совсем не беспочвенным и безосновным, и точно так же, как и нигилизм Г. Иванова, обнаруживает мало сходства с нигилизмом Ставрогина, свободно выбирающего между добром и злом. Набоков и Г. Иванов выбирали между иллюзией и реальностью и, отдавая предпочтение последней, имели мужество признать, что кругом никого и ничего и им, как в первый день творения, надо или созидать свой мир заново (путь Набокова), или зависнуть в черной дыре (выбор Г. Иванова). Так что с наследством и «ставрогинством» Набокова дело обстояло куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Этого наследства было слишком даже много в нем самом, и отделаться от него было куда труднее, чем сразить холод стареющего Бунина.
«Писатель — растение многолетнее», - эту блоковскую мысль мы должны приложить к тем, кого революционный циклон вольно или невольно, но унес за пределы России. Для них, хоть и в разной степени, это означало подрыв корней, которые надо было укрепить на новом месте. И тут многие из них — а Набоков едва ли не первый — обнаружили, насколько разветвленной и прочной была та корневой системы, которая навсегда оказалась отрезанной. Набоков, увезенный с России сравнительно молодым, наблюдал это в изрядной долей изумления.
С родиной связывали его прежде всего советы отцов, а отец Набокова всей своей сутью намечал вполне определенный путь, по отношению к которому сыну было необходимо самоопределяться. Не нужно быть фрейдистом, которых буквально изничтожал беспощадными насмешками писатель, чтобы нащупать в его судьбе комплекс сыновьих чувств, раннее содержание которого не во всем совпадает с внешними проявлениями.
На поверхности отношения отца и сына глядят почти идиллически: куда девается холодноватая усмешка, стоит заговорить об отце! Останься Набоков в России, он до конца своих дней оставался бы сыном, даже в том, к чему были достаточно невыразительные предпосылки. Отец до такой степени во всем шел ребенку навстречу, что эта любовь растворяла, топила, гасила личность сына и его увлечения — шахматы, бабочки, теннис не только разделялись, но исходили от отца, новый сборник стихов (Набоков В. «Унион», 1916) был издан в той же типографии и на той же роскошной бумаге, что книга отца (Набоков В. Д. Из воюющей Англии. Путевые очерки. Пг., «Унион»), и наверняка оплачивался по общему счету. О том, как кто-то пытался из подобострастия к отцу отметить выход стихов сына восторженной рецензией, Набоков написал сам, и эта рецензия была отцом перехвачена, это не мешало сборнику выглядеть в глазах публики прихотью барчука, рядом с книгами молодых начинающих поэтов, выпускаемых в свет на последние деньги.
Именно эмиграция помогла Набокову-с встать вровень с отцом в семейном тандеме. Главное изменение заключалось в том, что отец стал просто поддерживать.
Можно привести другие примеры, подтверждающие, что Набоков-писатель был не только сыном своего отца, сколько «потрясателем основ». Некоторые беглые замечания, оброненные как бы вскользь, попадают прямо в отца, хотя в него и не направлены. Чего стоит хотя бы одна ироническая обмолвка о людях, «примыкающих к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться», или ганнибалова клятва не посещать никаких собраний. Вряд ли можно найти более яркий пример энергичного растворения, чем то, которое совершал его отец в недрах кадетской партии!
Эти же самые начала любви-ненависти, но как бы поменявшиеся местами, поскольку на поверхности будет как раз ненависть, а на глубине — любовь, мы находим и в отношениях Набокова к тому, что на метафорическом языке русской поэзии называется Родина-мать. Но в этой связи нужно сделать оговорки, имеющие принципиальное значение для изучения литературы эмиграции в целом.
Коль скоро речь заходит о ней, мы как бы умышленно не хотим распознавать родовые для русской литературы черты, которые всегда определяли ее своеобразие. Методология, которой мы так дорожим, словно бы улетучивается, и начинается скучное заполнение анкеты: что и как писатель говорил о нашей стране. На основании результатов этого опроса мы пытаемся сделать вывод о степени его патриотизма или об отсутствии оного. Но пора признать совершенно очевидный факт: понятие «СССР» для самих этих писателей не имело ничего общего с тем, что они понимали под словом «Родина», которую они потеряли именно потому, что на ее месте возник СССР.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...» — смысл этого лермонтовского признания мы истолковываем с легкостью, охотно извиняя поэту некоторые поношения и в адрес «славы, купленной кровью», и заветных преданий «темной старины». Но вот стоит писателю-эмигранту высказаться с неодобрением о стране, помешавшей ему жить там, где он родился, отнявшей у него кров, разрушившей семейный очаг, как тут уже никаких скидок, никакого права на «странную любовь».
Вот ведь даже самый пристрастный суд не может не заметить, что лучшие стихи о России, достойные стать в один ряд со стихами крупнейших поэтов XIX века, были написаны именно эмигрантами Г. Ивановым и В. Набоковым. Может быть, любовь Набокова потому оказалась самой неистовой, что он более всех пытался ее скрыть, и там, где она все-таки вырывалась, оказывалась подобной гейзеру. Внимательный читатель Набокова поймет, что мысль о России в его раннем творчестве, до отъезда за океан, носит почти маниакальный характер, тем более мучительный, что эту манию Набоков таит. И если мы возьмем на себя труд сравнить «странную любовь» Лермонтова с тем тягостным и безнадежным чувством, которое, как тайный горб, носил Набоков, мы просто обязаны будем признать преимущества положения, в котором находился наш признанный классик: как любовь, так и ненависть к Родине сочетались в судьбе Лермонтова с главным — с возможностью в ней жить. В судьбе же Набокова страсть эта стала обнаруживать свои первые симптомы и развиваться именно тогда, когда он был отделен от Родины глухой стеной, она была изначально бесперспективна, потому что жить в той стране, которая возникла на месте России после Октябрьской революции, было для него столь же невозможно, как переселиться на Луну. Среди эмигрантов Набоков осознал это один из первых и потому предпочел с самого начала оставаться горбуном тайным, маскировать причину своих мук, чтобы спасти себя бесполезного единения в отчаянии, или, что для него было едва ли не страшное, сочувствия. Но вряд ли кому-нибудь удалось ярче выразить суть того кошмара, которым стала для него в эмиграции ностальгия:
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, - мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,-
поздно, поздно! - никто не ответит,
и душа никому не простит.
Может быть, это не самые гениальные стихи, но наверняка это самые отчаянные слова, обращенные к Родине, преследующей своей сына подобно слепой эринии.
Мучительность наказания, выпавшего на долю ничем лично не успевшего перед Родиной провиниться юноши, увезенного не по собственной воле, была тем более неожиданной, что в традициях людей его круга прочно укоренилась привычка мыслить эту Родину не иначе как именно в образе некой «свиньи-матушки», относиться к ней как к незадачливой попивающей нянечке. И неожиданно вспыхнувшая в барчуке страсть к этой безвозвратно утраченной свинье-матушке потребовала для своего истребления половину писательской жизни.
Да, нянечка приготовила взлелеянным ею деткам совсем недобрый сюрприз, точное имя которому нашел Блок: возмездие. В этом слове заключена та же мысль о палке о двух концах, которую Тютчев почувствовал в судьбе декабристов: «Вас развратило Самовластье, //И меч его вас поразил...» Иначе как возмездием за грехи отцов нельзя назвать испытания, которые вынесло на своих плечах поколение, сорванное с привычных рельсов. Но особая парадоксальность судьбы Набокова заключается еще и в том, что расплатиться едва ли не горше всех пришлось барчуку, вокруг которого с детства был воздвигнут искусственный эдем в английском вкусе, умышленно заслоненный от всего русского, начиная с лондонского дегтярного мыла и кончая речью: и он, и брат прежде научились писать по-английски, только затем уже по-русски.
Конечно, по-своему любил Родину и отец Набокова, но это была очень распространенная в его кругу любовь к недо-Европе, заставлявшая волевого и деятельного отца изо всех сил тщиться превратить Россию в эту Европу.
В том-то и заключается главный парадокс судьбы Набокова-сына: ему, воспитанному в семье англомана, пришлось страдать от самой вульгарной и распространенной в эмигрантской среде ностальгии.
В ранних романах любовь к Родине тщательно закамуфлирована. В «Машеньке» разлука с Родиной декорируется под разлукой с первой любовью, о которой и тоскует, хотя Родина-Машенька как бы двоится, меняет обличье на страницах романа. В романе «Машенька» перед нами проходят все наиболее расхожие, публичные, так сказать типы ностальгии, широко бытовавшие в эмиграции, с которыми никак не хотел сливаться Набоков, а также проходит целая галерея лиц от которых писатель таил свой горб. Если откровенный пошляк Алферов (несомненно символическая деталь, что он является мужем Машеньки-России!) проповедует: «Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла...», то для Набокова это пошлость, не более. Куда сложнее он относится к той разновидности патриотизма, которую выражает на страницах романа писатель Подтягин: «Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России - фышка. Там ее никто не любит». Эта точка зрения в период, когда писался роман, была куда более созвучна Набокову, и не случайно alter ego автора тянет поделиться своими терзаниями именно с Подтягиным: Ему хотелось рассказать ему о многом, — о закатах над русским шоссе, о березовых рощах». Но не менее знаменательно и то, что герой Набокова отказывается от всяких попыток исповедаться, чувствуя бесперспективность и бессмысленность этого единения, а с самого начала пошел другим путем: медленно в одиночестве изживать, выдавливать всего себя по капле.
Стержень творчества Набокова до отъезда за океан составляет изживание ностальгии, пути которому писатель подведет в книге «Другие берега». Исход мукам географического патриотизма Набоков нашел в романах, где им щедро наделены герои — и жена Лужина, и многие, едва ли не все русские персонажи.
Мысль о России не оставляла его нигде: «все у номере провинциальной немецкой гостиницы, — и даже вид в окне, — было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно...» Это уже из романа с выразительным названием «Отчаяние», и подобие высказывания помогают оценить поистине титанические усилия по самообузданию, по выдавливанию из себя этого чувства. Его обособленность в эмиграции едва ли носила случайный характер — он не мог не сознавать, что сообщающихся сосудов способен оказать ему плохую услугу. Логика развития этой нервозной темы дает все основания видеть в казни, совершаемой с кукольными китайскими церемониями на страницах романа «Приращение на казнь», некую аллегорию, ключ к которой есть в романе «Другие берега». Подсказкой для разгадки может послужить пассаж в «призрачных» иностранцах, «в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать». В описании малогостеприимных хозяев, давших приют русской эмиграции, есть очевидный ключ: «Туземцы эти были, как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой». Аллегорическая казнь в себе непрозрачного человека не случайно совершается Набоковым накануне отплытия за океан: он явно решил не тешить больше гордыню и слиться с туземцами. Это был последний акт истребления ностальгии, обставленный подобающими церемониями.
Ко времени написания этой книги (1946) писатель успел совершить вторую эмиграцию, удалившись не только от России, но и от Европы за океан. В этой книге он впервые не побоялся выставить ранее таимый горб напоказ и рассказать, хотя бы и в прошедшем времени, о пережитых им муках. «Под бременем этой любви, — вспоминал Набоков в романе «Другие берега», — я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств .... и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России». Набоков редко позволял себе такие излияния, даже и в прошедшем времени, — гордыня, один из семи смертных грехов, не просто властвовала над ним, а как бы составляла стержень личности. Признание не случайно вылетело из уст писателя тогда, когда сам он втайне сознавал, что справился с этим чувством, научился обходиться его эрзацами, о чем позволяют судить другие его высказывания: «...дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда вся душа перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамилией Никербокер. Это можно бы сделать. Но вряд ли когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту».
Только понимая, что главной задачей доамериканского Набокова было истребление всего, что связывало его с Россией, можно понять, почему он в первый период творчества, озабоченный консервированием своего русского языка, в американский период столь же решительно от него отказывается, став писателем принципиально двуязычным. Вероятно, к смене «орудия труда» подталкивало прежде всего сознание, что чем большего он достигал в консервации своего русского, тем больше этот язык мертвел и утрачивал свежесть и аромат, как утрачивают его любые, самые идеальные консервы. А может быть, причину следует искать в том, что за океаном Набоков ощутил, что язык является последним соединительным стержнем не только между ним и Родиной, но и между ним и русской эмиграцией.
Эта дальновидность помогла ему и первому задуматься над тем, что эмигрантский русский безмерно сужает его читательскую аудиторию, о расширении которой за счет советского читателя не мог тогда и помышлять, поскольку, как и вся эмиграция, считал, что коренным населением России стали какие-то неведомые люди с песьими головами.
Все, что мы до сих пор пытались выделить в писательской судьбе Набокова, достаточно выразительно свидетельствует о том, что его писательский дар взрастал и мужал в условиях, ничем не похожих на те, в которых традиционно взрастали русские писатели. Себя он изначально обрек на решение качественно иных задач: вырваться из традиции, из той цепи, последним замыкающим звеном которой он себя почувствовал. И наряду с тоской по родине, с языком он истреблял в своем писательском облике все родовые черты. Для того чтобы подчинить свой дар созданию того «сложного и бесполезного», что он поставил перед собой как идеал искусства, надо было прежде всего отделиться от всего, чему учила его русская литература, поскольку даже самый завзятый из модернистов в ней неизбежно оказывался нагруженным какими бы то ни .было, пусть даже отрицательными, но идейными ценностями. Но в новом устремлении Набокова, в этом избранном для себя новом пути был не столько горделивый вызов и противопоставление, сколько попытка незаметно скрыться и улизнуть от непосильного в его условиях бремени.
Рубежом, за которым Набокову удается оторваться от оков традиции, стал роман «Лолита», кстати, первый в его творчестве роман, где нет русских ассоциаций. Именно здесь писатель вступает на путь создания «сложного и бесполезного» искусства, не отражающего реальность, а самостоятельно ее создающего, не нагруженного сверхценными идеями. Но даже и здесь, отрывая себя от традиции, Набоков не столько уходит от нее вовсе, сколько подвергает качественному переосмыслению. Историко-литературные работы Набокова о русских писателях рассказывают нам о том, как совершалось перекраивание и перелицовка наследства, доставшегося ему от русских классиков. Эти исследования вводят не столько в русскую литературу, сколько в творческую лабораторию Набокова, где он пропускает классику через реторты, развинчивает и разбирает до такого состояния, что становится возможным пускать отдельные детали по иному назначению, для подпитки собственной «чарующей виртуозности».
Но истинная гениальность Набокова как создателя «Лолиты» проявилась все-таки не в том, что он нашел эти источники постоянного стимулирования писательского мастерства, но в том, что он первый догадался соединить отточенное мастерство с рафинированной, но все же «клубничкой». У Набокова не было иллюзий относительно того, кто первый способен на такой сюжет клюнуть. Вспомним, где и как впервые проигрывается сюжет «Лолиты»: его излагает на страницах «Дара» «бравурный российский пошляк» отчим Зины Мерц Борис Иванович Щеголев (не пародия ли это на нашего известного историка?). «Эх, кабы у меня было времечко, — говорит он писателю Годунову-Чердынцеву, — я бы такой роман накатал... Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. И вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем, просчет. Время бежит — летит, он стареет, она расцветает, — и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем в некотором царстве, в некотором самоварстве, во время царя Гороха. Каково?». Примечательно, что этот сюжет Набоков использует в «Лолите» до мельчайших подробностей. Лишь в одном отойдет от него: если для Щеголева важно именно то, что он «из настоящей жизни», то Набоков очистит сюжет в первую очередь от всего, что может внести именно настоящей жизни — действу «Лолиты» протекает как бы на фоне сменяющихся декораций, да и сама героиня на страницах романа подобна марионетке, которая служит точкой приложения чувств героя.
«Лолита» сыграла в истории масскульта важную роль недосягаемого образца, редко кто из рядовых тружеников на ниве этого искусства имел литературную родословную, какая была за плечами Набокова. Рафинированная сфабрикованность этого романа до сих пор остается непревзойденной, она может служить прекрасным образом американской массовой индустрии, которой принадлежит гегемония на мировом рынке. В этой индустрии все рассчитано на то, что ее изделия всем впору, касается ли это джинсов или рок-музыки. В «Лолите» есть как бы настоящее золотое сечение массовой культуры: профессиональное совершенство, умение лавировать между порнографией и почти целомудрием, умение насадить «живца» так, что его проглотит и почтенный отец семейства, и человек с расстроенным сексуальным воображением, и сноб, и всем им при этом будет не стыдно признаться, какую книгу она держат в руках.
Спорным остается вопрос, считать ли «Лолиту» первым законченным образцом «сложного и бесполезного», или это хотя и сложное, но полезное, даже в чем-то прагматическое искусство. Бесспорно, что в судьбе Набокова книга играет роль сияющей вершины, отсветы которой падают на все остальные произведения. Это тот фокус, пройдя через который традиции русской литературы нераспознаваемы, настолько они препарированы. В эту толпу Набоков продолжал ронять и дальше свои «сложные и бесполезные» шедевры, убежденный, что теперь читатель у него на крючке из уважения к мастеру проглотит все, что ему предложат. Сам же имидж Набокова-писателя, осуществившего мечту Ставрогина и переселившегося в кантон Ури, будет неизменно демонстрировать полное презрение ко всему, чему поклоняется толпа.
Как бы ни оценивать этот новый путь, выданный Набоковым, нельзя не видеть, что за им стоит правота писательского самоопределения в условиях насильственного отрыва от почвы. Вряд ли стоит сожалеть и об убитом им в себе русском писателе, едва ли эти возможности не исчерпал он полностью, а вот в модернизме он стал своего рода гением и основоположником, но таким основоположником, за которым кто бы ни пошел, скорее теряет себя, чем находит. Право на авангард в его судьбе освящено и его беспочвенностью в новом мире, и его двуязыкостью. Набоков этого потребителя обыграл, потому что был умнее и смышленее. Эта победа и стала рождением американского Набокова, о котором написано уже столько книг и которого не одно поколение комментаторов будет разгадывать и объяснять, как новый талмуд XX века.
Заканчивая статью о нем, нельзя не упомянуть и о том, как сумел этот американский Набоков отомстить высокомерно третировавшей его советской литературе, которая присвоила себе и Родину и традицию в полную собственность. Набокову удалось увести за собой многих из тех, на кого стареющая литература социалистического реализма рассчитывала как на наследников и продолжателей. Набоков, Набоков и еще раз Набоков является для многих молодых писателей сегодня путеводным маяком. Почему - Бог весть, но нельзя не вспомнить в этой связи, что «юность — это возмездие».
Л-ра: Литературная учеба. – 1989. – № 6. – С. 153-161.
Произведения
Критика