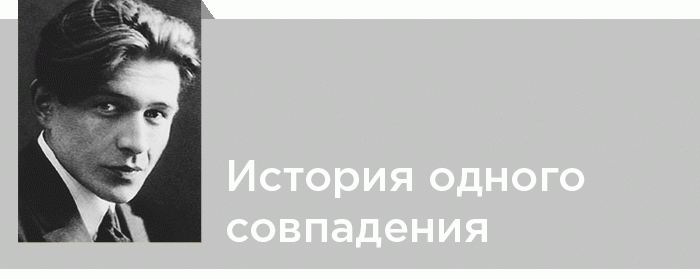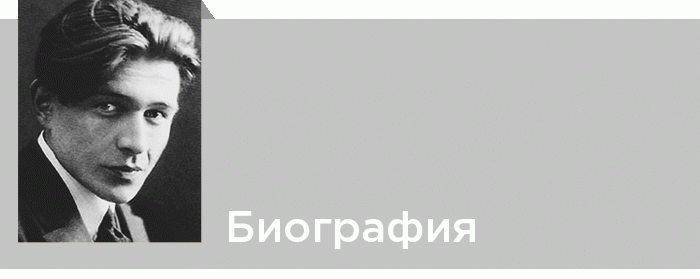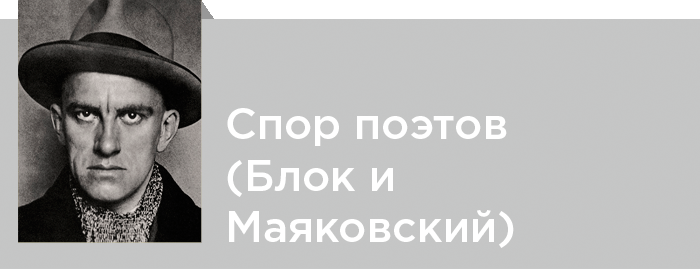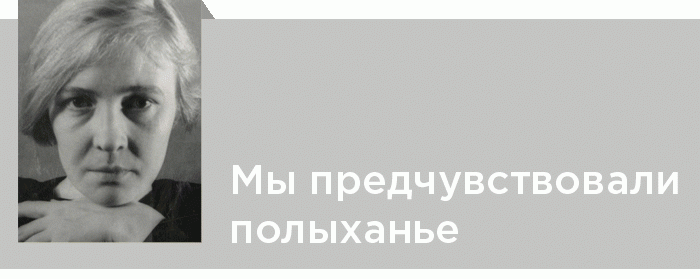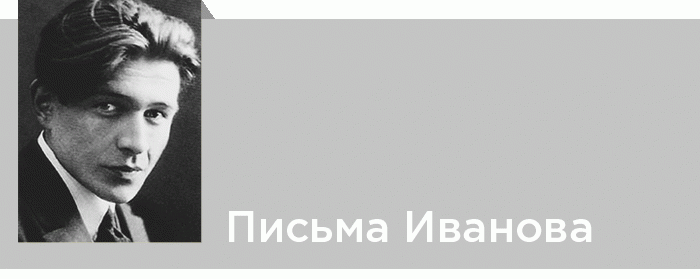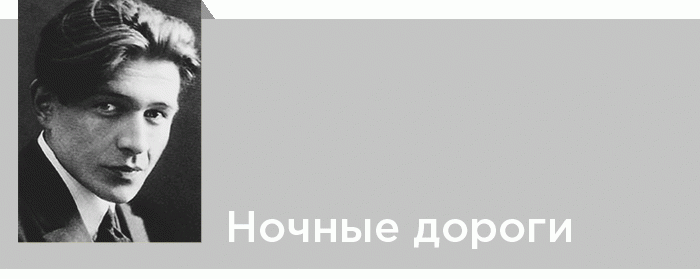«Держался он вызывающе...» (Г. Газданов — литературный критик)
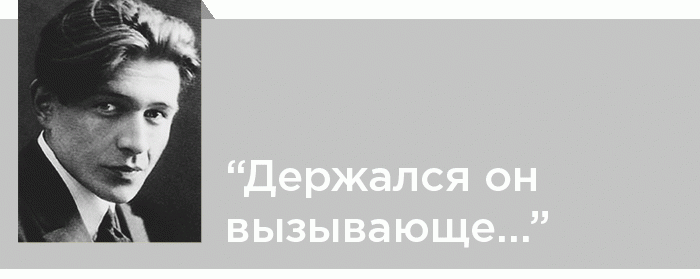
Ф. Хадонова
«Для меня «литературоведение» всегда представлялось чем-то загадочным», — писал Газданов своему другу Л. Ржевскому в ответ на присланную книгу статей. Ироничность, вообще свойственная Газданову, сочеталась у него с подлинным интересом к творчеству других писателей, и таким же ироничным и одновременно серьезным исследователем он был по отношению к собственной прозе.
Для Газданова деление на прозу и критику, в сущности, условно. Начиная с ранних рассказов и во всех его романах есть рассуждения об искусстве и литературе, о писателях, композиторах и художниках, и если выделить их из произведений, они могли бы сложиться в своего рода трактат об эстетике. В то же время его статьи о литературе — это высокая проза; язык, которым они написаны, абсолютно не похож на тот, насмешливо названный Газдановым «аптекарским», которым обычно пишутся учебники по литературе.
Первым «настоящим» рассказом считается для Газданова «Повесть о трех неудачах», опубликованная в пражской «Воле России» в 1927 году. Наверное, с этого рассказа начинается и Газданов-критик: в нем молодой писатель определил свое отношение к русской литературе, признав безоговорочно талант Л. Толстого и отмежевываясь от «скверной традиции... общественно-беллетристической литературы»; одновременно писатель выступил и в роли критика собственного творчества, объяснив особенности эпизодического построения рассказа. Изначально это были устные доклады, прочитанные Газдановым на литературных вечерах объединения молодых поэтов и писателей «Кочевье». Объединение было создано по инициативе М. Слонима в Париже в 1928 году, просуществовало около четырех лет, и провело около ста вечеров. Вначале вечера «Кочевья» носили закрытый характер, но впоследствии вызвали большой интерес и стали публичными. На вечерах обсуждались не только произведения известных писателей, но и новинки советской и эмигрантской литературы. Газданов был одним из активных участников «Кочевья», где он читал свою прозу и провел несколько авторских вечеров. В ноябре 1928 года Газданов выступил с докладом «Чувство страха по Гоголю, По и Мопассану», впоследствии опубликованным в «Воле России» под названием «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане». 24 октября 1929 года в Париже состоялся литературный вечер, на котором вступительное слово к стихам А. Ладинского сказал М. Слоним, во втором отделении Газданов читал свой доклад «Миф о Розанове», вызвавший оживленную дискуссию, в которой участвовали В. Варшавский, Б. Доплавский, Р. Рейзини, Б. Сосинский, В. Фохт и др.
Многие статьи Газданова о литературе, например, «О Поплавском», «О молодой эмигрантской литературе», «О Чехове», «О Гоголе», «Литературные признания», уже известны российскому читателю. Незнакомой остается деятельность Газданова как редактора на Радио «Свобода», — за эти годы (1953-1971) им были подготовлены передачи о русской и зарубежной литературе, о литературной критике в России и Советском Союзе. Он вел рубрики «О книгах и авторах» и «Дневник писателя». Назову некоторые из радиовыступлений: «Памяти Ремизова» (1957), «О поэзии Пастернака» (1958), «О русских лауреатах Нобелевской премии» (1966), «Федор Степун» (1970), «Поль Валери» (1971), «Литературный журнализм» (1971), «Тенденциозность в литературе. Грэм Грин, Франсуа Мориак» (1971), «Об Алданове» (1971), «Достоевский и Пруст» (1971) и другие.
Судьба русской литературы XX века сложилась так, что критика оказалась возможна главным образом в эмиграции. В известной книге Г. Струве «Русская литература в изгнании» критика оценивается даже как наиболее значительная часть литературного наследия зарубежья: «едва ли не самым ценным вкладом зарубежных писателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут признаны разные формы нехудожественной литературы — критика, эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная литература. Все это области, в которых в Советском Союзе давление на свободное творчество и свободную мысль сказывалось... пожалуй, еще больше, чем в художественной литературе. Это особенно верно по отношению к периоду после 1930 года — до того, по крайней мере в литературной критике и истории литературы, созданы были ценные вещи, с разгромом же «формализма» и эта ветвь советской Литературы прервалась». Уже опубликовано многое из критики и эссеистики эмигрантских писателей, и если проза Газданова, пусть и не широко, но известна, то его критическое наследие начало печататься в самое последнее время.
Статьи Газданова о литературе трудно назвать нехудожественными, как определял критику Г. Струве, это как бы та же проза. Вернемся к его первому рассказу «Повесть о трех неудачах». Отношение к русской литературе, выраженное здесь, в последующих статьях и произведениях раскрывалось, дополнялось, но было постоянным для Газданова. В русской литературе существуют для него либо гении, как Толстой, Достоевский, Гоголь, либо «второстепенные писатели, которые чаще всего плохо представляют себе, что такое литературное искусство». Газданов высоко ценил также творчество А. Белого, Блока, Ремизова, Мандельштама, Пастернака. Появление второстепенных писателей объясняется общественной необходимостью. Обычно эти писатели пользуются успехом, издаются большими тиражами, и их книги составляют «большую литературу современной им эпохи». То, что они делали, Газданов называл литературным производством, не имеющим никакого отношения к искусству и подчиняющимся иным требования и законам. В таком восприятии русской литературы Газданов расходится со стереотипным, вульгарным; собственно, такое восприятие искусства, возможно, помешало русской критике стать профессиональной, но это уже другая тема. К категории второстепенных писателей, чрезвычайно многочисленной, Газданов относит из наиболее знаменитых Золя, В. Гюго. Из русских писателей — Некрасова, Тургенева и Брюсова, лишенного, как писал Газданов, самого ничтожного поэтического дарования. Газданов считал, что сопоставление имен Блока и Белого с Брюсовым — это литературное недоразумение. «Ведь после Пушкина был Блок, и этим все кончилось». Или другое недоразумение: сопоставление Блока, Белого, Сологуба, Брюсова, Гиппиус. Для Газданова Блок так же несоизмерим с Брюсовым или Сологубом, как Пушкин с Дельвигом, хотя Дельвиг, конечно, значительнее Брюсова. И в то же время Газданов был уверен, что литература, состоящая только из Белого, Ремизова, Блока, погибла бы, люди перестали бы читать книги. Большинство таких писателей недоступны и непонятны читательской массе, и нельзя требовать, чтобы рядовой читатель брался за «Петербург», или за «Возмездие», или «Взвихренную Русь», когда для него написаны «Царские бриллианты» или «Жемчуг слез». Не скрывая огорчения, в «Литературных признаниях» Газданов писал: «Нельзя... чтобы все писали, как Толстой или Пруст... И, я думаю, не стоит бесполезно и укоризненно напоминать о существовании Мопассана, Бальзака или Гоголя». Такое разделение на «немногочисленных великих» и «многочисленных второстепенных» существовало всегда, и Газданов не считал это знамением времени. Если публика все-таки читает истинных художников, то потому, что это ей внушается критикой, «отчасти в силу любопытного социологического закона подражания, люди с низкой культурой подражают вкусам людей более культурных». Но все-таки большей популярностью всегда пользовались и пользуются авторы невежественные и неталантливые.
Газданов во многих своих статьях о литературе напоминал, что взгляды на искусство — это область, где исключена возможность категорического суждения. Однако суждения самого Газданова о литературе отличаются явной категоричностью. И часто эта категоричность сочетается с такой ироничностью, парадоксальностью, резкостью, что трудно воспринимать их иначе как элемент литературной игры. Понятно, что любая иерархия писателей произвольна и субъективна, но, выделив «немногочисленных великих писателей», Газданов резок также и по отношению к ним. Приведу некоторые из литературных оценок, которыми Газданов намеренно, как мне кажется, хотел шокировать общепринятые мнения: «Жизнь Арсеньева» не имеет отношения к искусству, потому что произведение это стилистически беспомощно, книга Набокова-Сирина «Другие берега» также выходит за пределы искусства, потому что в случае с Набоковым позволительно ставить вопрос о границах творчества. «Другие берега» оказываются за пределами искусства именно своим сверхмастерством, которое Газданов называл «ультрафиолетовым мастерством». В эссе «О Гоголе» Газданов называл «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина» ученическими произведениями по сравнению с «Мертвыми душами». В романе «Полет» один из героев не может читать Достоевского «без сдержанного раздражения и усмешки». И этот же герой говорит героине: «постоянное чтение Достоевского вредит твоему стилю». В другом романе, «Эвелина и ее друзья», Мервиль похож на героев Достоевского, потому что «либо мрачен, либо находится в состоянии судорожного восторга». Розанов то причисляется Газдановым к немногим, «понимающим» в русской литературе, то оказывается, что Розанов искусство не очень любил и многого в нем не понимал. В рассказе «Третья жизнь» он определяет свой ранние вещи как дикие и неестественные, а в более позднем романе «Эвелина и ее друзья» характеризует свой стиль как сомнамбулический.
Не стоит, наверное, слишком доверчиво и пугливо относиться ко многим неожиданным и шокирующим оценкам Газданова. Его беспощадность часто имеет игровой и провокационный смысл. Взять хотя бы его известную статью, опубликованную в «Современных записках» под названием «О молодой эмигрантской литературе». Статья вызвала дискуссию, которая была даже описана в книге Г. Струве «Русская литература в изгнании», где Струве вслед за Адамовичем, назвавшим статью «Гимназической писаревщиной», признал многие положения этой статьи наивными и легковесными. В самом начале статьи Газданов заявил, что молодой эмигрантской литературы нет, что ее существование — просто миф. Газданов выступил в то самое время, когда на страницах эмигрантских изданий говорили об «особой миссии эмигрантской литературы»; эту дискуссию писатель считал претенциозной и необоснованной: за шестнадцать лет появилось только одно подлинное дарование — Набоков-Сирин, но это писатель вне среды, вне страны. Далее автор доводит мысль до абсурда — «вне всего остального мира» иронично продолжая, что этот замкнутый мир не имеет никакого отношения к молодой эмигрантской литературе. Точка зрения утрирована, но, как ни парадоксально, напоминает выдержку из многочисленных рецензий критиков творчества Набокова. Или другая явная цитата-пародия из критических отзывов эмигрантских авторов, которые хвалили и Газданова, и Набокова, считали, что писать умеют, но о чем писать, — не знают, у них нет темы и т. д. Газданов, пародируя своих критиков, писал: «Если предположить, что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы, продолжая эту мысль, прийти к выводу, что им нечего было бы сказать». И пессимистично продолжал, что если бы даже говорили, их голос не отозвался в диком и глухом пространстве, которое их окружало. К сожалению, косвенный ответ Газданова так и не был адекватно воспринят критиками. И хотя Газданов в этой же статье объяснял, почему после опыта мировой и гражданской войны невозможно писать так же, как писатели старшего поколения, а сознание молодого поколения определял как биологически чуждое ценностям «архаических понятий начала столетия», критики продолжали требовать сюжета, темы, упрекали за обилие персонажей и эпизодичность повествования. И это тем более странно, что Газданов не только в статьях, но и в прозе объяснял особенности своего видения мира и литературного дара. Эмигрантскими критиками и писателями статья была воспринята как еще одно свидетельство безысходного пессимизма, пародийный же ее подтекст остался незамеченным. Понятно, что положение молодых писателей за рубежом к оптимизму не располагало, но вряд ли только это было причиной эпатирующего заявления Газданова, что «молодой литературы нет», и удивившего многих отсутствия имени самого Газданова среди писателей молодого поколения. Это тоже выглядело вызывающе, ведь Газданова, наряду с Набоковым, причисляли к наиболее талантливым представителям молодой литературы.
В «Литературных признаниях» (1934) Газданов снова выделил Сирина, назвав его единственным талантливым писателем «молодого поколения», и ответил в косвенной форме на упреки эмигрантских критиков творчества Набокова, многие из которых предъявлялись и к нему. Газданов по-своему объяснял существование героев-иностранцев у Сирина, что так не нравилось критикам, наивно требовавшим у молодых писателей героев-русских: «То, что герои Сирина иностранцы, — писал Газданов, — я думаю, не случайно. Мы живем, не русские и не иностранцы, в безвоздушном пространстве, без среды, без читателей, вообще без ничего — в этой хрупкой Европе — с непрекращающимся чувством того, что завтра все опять «пойдет к черту», как это случилось в 14-м или 17-м году. Нам остается оперировать воображаемыми героями, если мы не хотим возвращаться к быту прежней России, которого мы не знаем, или к сугубо эмигрантским сюжетам, от которых действительно с души воротит». В этой же работе Газданов выделил еще одного прозаика, российскому читателю практически неизвестного, — Ю. Фельзена. Фельзена, как талантливого романиста, выделяла и эмигрантская критика, но его судьба оказалась такой же трагичной, как судьба И. Болдырева и В. Поплавского. В оценке современной литературы Газданов придерживался все того же разделения писателей, назвав одно-два исключения, всю остальную «молодую» литературу он определил как «нечто вроде записок сестер милосердия и отставных прапорщиков».
Судя по воспоминаниям людей, знавших Газданова, его статьи были такими же вызывающими, как и выступления на литературных вечерах. Приведу цитату из Г. Адамовича, подружившегося с Газдановым в послевоенные годы: «Именно в эти годы я оценил его быстрый, своеобразный ум, его острое чутье и даже его природную доброжелательность, ускользавшую от моего понимания, или от моего внимания прежде. В довоенный период эмиграции что-то меня от Георгия Ивановича отдаляло, сближению мешало. Держался он вызывающе, в особенности на публичных собраниях, в то время в Париже очень многочисленных: никаких авторитетов не признавал. Ни с чьими суждениями, кроме собственных, не считался <...> Много позже я понял, сколько было в Газданове хорошего, верного, именно в дружественности, сколько в нем было истинно человечного, прикрытого склонностью ко всякого рода шалостям. Мы говорили о литературе, постоянно касались Льва Толстого, перед которым он глубоко преклонялся. <...> Почти так же высоко ставил он Достоевского, однако все же с оговорками и даже с недоумениями <...> Остроумны, метки бывали его суждения о Марселе Прусте, одном из его любимцев».
Л. Толстой — единственный писатель, который избежал саркастических замечаний Газданова.
Можно только догадываться, скольких врагов нажил себе Газданов резкими и иногда очень жестокими рецензиями. Но дело не только в его ироничности, придававшей суждениям о писателях и книгах необычность, неожиданность и парадоксальность. Газданов различал искусство и не имеющее к нему отношения «литературное производство», — точно так же он делил и критику на подлинную и создающую мифы о литературе. Подлинная существует в очень ограниченном круге среди профессионалов, где оценки правильны и беспощадны, но они никогда, или почти никогда, не доходят до широкой публики, которая, как считал Газданов, слепо верит всему, что писалось. Мифологию, сопровождающую литературу, Газданов определяет как сумму общепризнанных и принятых недоразумений, образующих довольно прочную систему установившихся взглядов на каждый данный отрезок времени в литературе. Газданов в своем восприятии литературы делает некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление этой довольно прочной системы. Другое дело, что для читателя, знакомого с прозой Газданова, его статьи о литературе могут показаться менее интересными, — они лишены схем, классификаций, выводов...
Газданов не отрицал значимости той или иной системы классификации, встречающихся в учебниках по истории искусства, к которым могут быть прибавлены несколько суждений общего порядка и которые могут быть неопровержимы, но для него они лишены глубины личного восприятия и попытки проникновения в тот исчезнувший мир, где возникало непостижимое вдохновение гения. В статьях о литературе писатель выступал агностиком; как и в прозе, считая, что в восприятии произведения мы можем говорить только о впечатлении, которое производит особый, уникальный мир, созданный «сложным движением воображения» или «сложным движением необычной фантазии» художника. Для Газданова важно понять и проникнуть в этот особый мир, важно выяснить и определить его непохожесть и уникальность.
Статьи Газданова о литературе фрагментарны, в них нет убедительных дедуктивных разворотов, Газданов не верил в возможность исчерпывающего познания вещей, и даже более радикально утверждал, что «действительности, вообще говоря, нет». Действительность содержится только в нашем восприятии, которое тоже не является чем-то постоянным. Порядок не несет сама жизнь, писатель тоже страшится навязать порядок своему предмету, поэтому и в прозе Газданова изложение событий лишено завершенности. Так же не завершены и его взгляды на литературу.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1994. – № 9-10. – С. 92-95.
Произведения
Критика