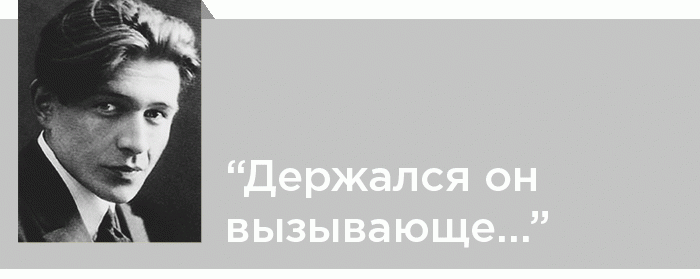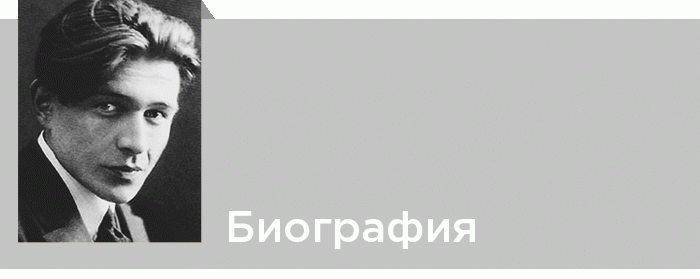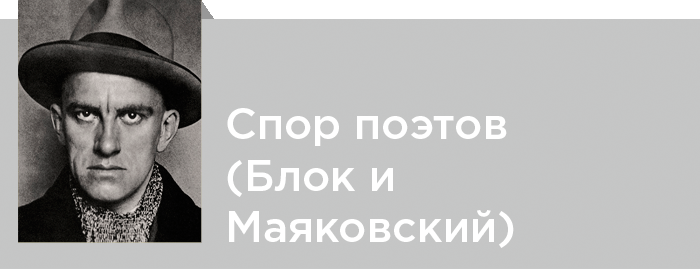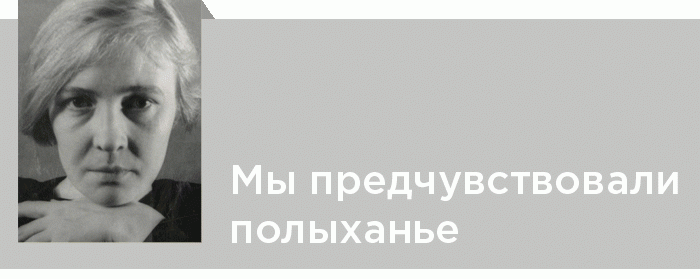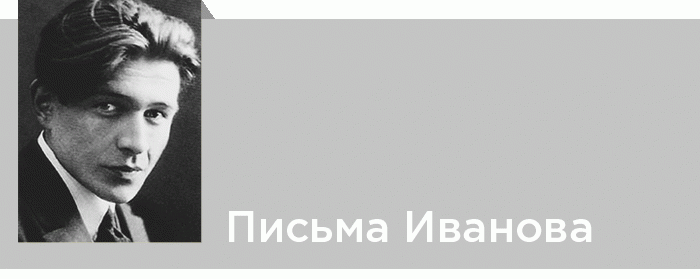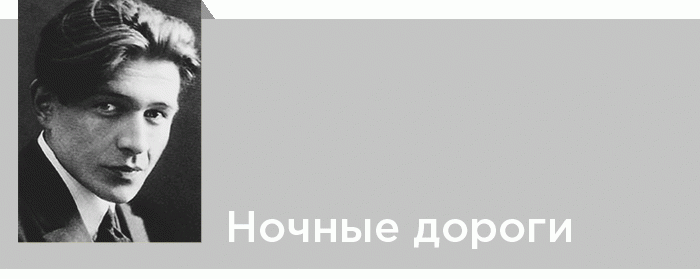История одного совпадения
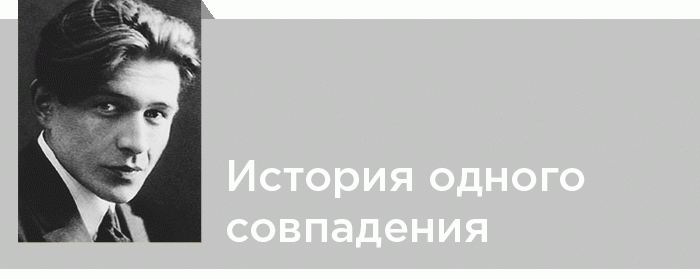
Мария Васильева
Каждый раз, читая эти спокойные строки, эти длинные обороты, эту мягкую, неброскую вязь слов, не понимаешь — откуда ворожба, необычайное напряжение?
Он снимает извечные тригоринские комплексы: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого». По Газданову, можно жить, дышать и писать, не думая о том, что уже 27, а всё еще не Лермонтов.
Газданову было 27, когда вышел его первый роман «Вечер у Клэр». Быть может, именно с этого года берет начало необъяснимость прозы Гайто? Вроде бы — все так просто и ясно, однако слово Газданова не способно породить эпигонов. Если попытаться писать как Гайто, — ничего не выйдет, кроме скучнейших и вялых фраз с бесчисленным количеством запятых, двоеточий и тире и с неминуемым распадом образа и мысли на очередной «газдановской» строке.
Доказать, что Газданов писал блестящую прозу, не так просто. Он разбрасывал сюжет по частям, пускал целые абзацы на незначительную деталь, потому что так пошла рука; он допускал шероховатость стиля, будучи прекрасным стилистом; он постоянно в романах и рассказах описывал свою биографию (разве это литература?! — надо писать жизнь, а не себя! Газданов был уверен в обратном). Он увлекался вдруг какой-нибудь интонацией и тут же забывал о ней. Он мог писать не «крепкую» прозу, не лихо закрученный сюжет, не блеск стиля — и в то же время ни на минуту не выпускать читателя из своего мира.
Газданов — яркий пример абсолютной необъяснимости откровения в литературе. И все-таки к природе газдановского откровения можно приблизиться через самого писателя, через его заметки и статьи о литературе.
В 1929 году (в том же году вышел в свет «Вечер у Клэр») Газданов опубликовал статью в журнале «Воля России» под названием: «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане». В этой небольшой, монтажно собранной по мыслям статье приоткрываются некие изначальные точки отсчета во взглядах и замыслах писателя.
Почему имена столь непохожих художников встали рядом? Автор не искал параллелей ни в стиле, ни в сюжете. Но для Газданова духовная связь этих писателей была очевидна. Он брал в основу доказательства самое сложное, иррациональное и трудно доказуемое логикой начало в творчестве — мироощущение писателя, существующее над текстом, вне истории, вне литературных школ и социальных явлений. Быть может, в своих рассуждениях он ближе всего подошел к познанию особого литературного дара, названного в статье «фантастическим».
Трагическая смерть Эдгара По, Гоголя, Мопассана — сгорание за Слово, которое легло на бумагу. Не будь трагического мироощущения — не было бы трагедии в судьбе. Здесь определяется та неожиданная и недоказуемая логикой связь столь непохожих по творческому почерку писателей, выведенных в заглавии, — Эдгар По, Гоголь, Мопассан. В статье будут упомянуты Достоевский и Паскаль, Рильке и Блок, Пруст и Франсуа Вийон. Но для Газданова — само творчество Гоголя, Эдгара По и Мопассана в своем познании фантастического в течение всей жизни постоянно было на грани душевного, психического срыва, — именно у этих троих художников была какая-то особая трагическая избранность.
Идея статьи не в нагнетании страха, речь идет о душевном или, скорее, духовном потрясении. Видимо, писатель и сам пережил это потрясение. Ласло Диенеш посвятит в своей книге этой проблеме главу «Третья жизнь», названную по одноименному рассказу писателя; эту же тему ученый затронет и в другой главе с толстовским названием «Ужас Арзамаса».
«Эдгар По погиб, зная, что спасение невозможно, Гоголь погиб, думая, что спасение есть. Я не знаю, что более ужасно». В чем же было спасение Газданова? Писатель не только не пришел в своей судьбе к катастрофе, но прожил долгую, уравновешенную творческую жизнь. Предположить, что Газданов нашел какую-то ступень, безопасную меру в познании неведомого, «фантастического» — значит перечеркнуть мировоззрение самого Газданова.
Возможно, причина кроется не только в философских взглядах писателя, но и в той «области социальных явлений», независимость от которых так страстно отстаивал Газданов-художник. Он был частью уникального и сложного социального явления, — частью первой волны русской эмиграции. Большинство самых одаренных писателей русского зарубежья установили традицию долголетия, особенно непривычную для русской литературы. Там, в покинутой России, в пустоте, молчании, в исчезнувших звуках сгорает Блок. Еще один пример трагической избранности — и абсолютной проживаемости слова. Судьба русского зарубежья сложилась иначе. Бунин, Набоков, Ремизов, Зайцев, Адамович, Алданов, Гиппиус, Мережковский, Бальмонт... — все они прожили долгую жизнь. Газданов из их числа Он неразрывно был связан с мироощущением литературы в изгнании: прежде всего это было неизменное чувство потери пристанища. Что было за пределами и за чертой самой большой и для многих катастрофической потери? Новый опыт жизни без России. Творчество из ничего. Это могло бы перечеркнуть целое поколение в литературе. Но самое большое потрясение обязывало к выживанию.
Эмиграция — это, скорее, не опыт умиротворенного существования в чужой среде, это какое-то новое состояние смирения, преодоления катастрофы внутри себя. Долголетие как долготерпение. Литература эмиграции возвращала и отстаивала те ценности, в которые верила, ту страну, которой уже не было, потому что Россия «Других берегов» и «Темных аллей» ушла навсегда. Эмиграция в большей или меньшей степени обладала тем особым отношением к миру, о котором говорил Газданов в статье «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».
«Эдгар По погиб, зная, что спасение невозможно, Гоголь погиб, думая, что спасение есть». Литература эмиграции не погибла и жила, зная, что спасение невозможно, что «от судеб защиты нет». (Г. Адамович не раз вспоминал эту пушкинскую фразу, говоря о судьбах писателей-эмигрантов). Целое поколение не сгорело, а выжило в трагедии, прекрасно ее сознавая, особая, новая ступень в трагическом опыте литературы.
И даже в этом исключительном ряду имен Газданов оказался явлением по-своему исключительным, прежде всего потому, что не сделал вообще попытки к интеллектуальному выживанию в «одичавшей Европе» и бродяжничал, нищенствовал, спал на скамейках и в метро.
На грани нищеты оказались тогда многие писатели-эмигранты, вспомним Бунина или Ремизова. В бродяжничестве, скитаниях можно было бы найти романтические параллели с тем же Эдгаром По или Франсуа Вийоном. Но талант подчастую не прощает черного заработка, который сопутствовал Газданову целых 25 лет (из опыта литературы русского зарубежья это, пожалуй, самое долгое пребывание за чертой). Есть закон всеразмывающего быта, который в конечном счете не дает места творчеству — огрубляется, тускнеет душа. Вспоминаются газдановские слова: «Если считать доказанным то весьма спорное положение, что большинство людей, выехавших шестнадцать лет тому назад за границу, принадлежало к интеллигенции, то за эти годы заграничная жизнь этих людей, в частности, необходимость чаще всего физического труда, произвела их несомненное культурное снижение».
Инстинкт самосохранения художника многим не дал дойти до этой черты. Бывали исключения. К ним принадлежит Газданов. Но парадокс этого писателя и состоит как раз в том, что за долгие годы, работая таксистом, он не столько оставался писателем, сколько стал им. Случай в эмиграции исключительный.
Прожитое слово... Видимо, мысли, сказанные в небольшой статье в самом начале литературной судьбы, были для писателя важными и определяющими. В течение всей его жизни они переходили потом цитатами в другие произведения, превращались в эпиграфы, определяли идеи зрелой прозы.
Эпиграфы к рассказу «Водяная тюрьма» (
Философия большинства романов: «Полет», «Возвращение Будды», «История одного путешествия», «Призрак Александра Вольфа», «Пилигримы» — находит свое объяснение в этой статье. Один из самых сложных психологических рассказов «Третья жизнь» (
История русской литературы знает много неожиданных совпадений и параллелей. В 29-м году, в той же «Воле России», через два месяца после публикации «Заметок об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» будет напечатана Ремизовым статья «Тайна Гоголя». Позже она войдет в книгу «Огонь вещей» под названием «Природа Гоголя». В статье пока еще ни слова о фантастических снах Гоголя. Здесь больше ремизовской словесной игры, похожей на скороговорку бесноватого, чем самого Гоголя и его «тайны». Позже тема Гоголя-сновидца будет волновать Ремизова на протяжении многих лет и в 1954 найдет свое окончательное воплощение, когда, выйдет отдельное издание книги «Огонь вещей» с подзаголовком «Сны и предсонья». У Газданова уже в 1929 году читаем такие слова: «Напрасно Гоголь уверял себя: «И думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающего мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении». «На самом деле, — считал Газданов, — жизнь Гоголя была подчинена фантастическому миру, где сны переходили в реальность».
Ремизов был уверен, что вся русская литература овеяна снами. Для Газданова тема снов не была самоцелью. Он смотрел шире, говоря о высокой степени духовного зрения, которым обладают немногие.
Не будем присуждать право первенства в размышлениях о фантастической (сновидческой) природе Гоголя. В конечном счете именно Ремизов, начавший свою литературную карьеру задолго до Газданова, в дореволюционной России, станет уникальным собирателем снов в литературе.
Интересен другой факт или, точнее, другое совпадение. 1954 год — своеобразный итог для Ремизова в его отношении к Гоголю и к русской литературе; книгой «Огонь вещей» он еще больше утвердит себя как продолжатель гоголевской традиции. Тема снов — та, с которой Газданов когда-то начал, говоря о природе фантастического, у Ремизова станет ведущей. Он поступит как истинный Мартын Задека, скрупулезно собирая сны русской литературы в свою книгу-толкователь. В нее, кстати, вошли и «посвященные», по Газданову, писатели — Гоголь, Достоевский и изгнанный Газдановым из, истинного искусства Тургенев. Книгу «Огонь вещей», писавшуюся в течение 25 лет и опубликованную за три года до смерти, можно было бы назвать программной. Ремизов-художник в течение четверти века утверждал свое право на Гоголя. В рецензии на книгу Д.И. Чижевский, философ, литературовед первой волны эмиграции, автор замечательных работ о Гоголе, назовет Ремизова «писателем, который в наши дни, конечно, ближе всего к «гоголевской» традиции русской литературы».
Газданов, посвятивший Гоголю в юные годы одно из самых проникновенных эссе, через 30 лет тоже подведет своеобразный итог в работе «О Гоголе». В этом возврате к фантастическому имени Гоголя есть какая-то закономерность. Имя Гоголя, значит, сопутствовало литературной судьбе Газданова, так же как, сопутствовало на протяжении десятилетий и Ремизову. Парадокс заключается в том, что автор, так чутко распознавший когда-то «природу» и «тайну» Гоголя, в поздней работе не только не пытался утвердить свою природную близость к классику, напротив, — он отрекался от Гоголя как раз в том самом «природном», «тайном», иррациональном, неожиданно поражая своей жестокостью суждений.
Самими писателями были поставлена точки над і. И вопрос казался бы исчерпанным, если бы не явная неожиданность ситуации, — в 29-м году в «случайных и беглых заметках» молодой Газданов «предугадал» многие главы будущей книги Ремизова, преемника «гоголевской традиции». Судя по публикации эссе «Тайна Гоголя», замысел гоголевских глав из книги «Огонь вещей» для самого автора в 29-м году еще не был полностью уяснен. В окончательном же варианте книги порой читаешь «газдановские» мысли:
«Чары Гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир». «Гоголь родился посвященным: в детстве ему слышались голоса».
Казалось бы, нет более непохожих писателей, чем Ремизов и Газданов, но некоторые авторские откровения из ранней газдановский статьи и книги Ремизова поражают своим сходством. Газданов сравнивает реального Гоголя с Придуманным самим же Гоголем героем — Хомой Брутом, заглянувшим в глаза Вию — фантастическому, страшному, неведомому миру. И Ремизов одну из глав заканчивает приходом Вия в церковь. Последняя фраза главы: «Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь...»
Да, Газданов не меньше, чем Ремизов, чувствовал «тайну» Гоголя. Откуда же эта уничтожающая категоричность суждений и какая-то особая раздраженность интонаций в поздней работе Газданова, главная мысль которой такова: «Все творчество Гоголя, — это какой-то бред, принимающий разные формы, начиная от «Пропавшей грамоты» и «Вия» и кончая «Мертвыми душами», «Ревизором», «Записками сумасшедшего», «Носом» и книгой «Выбранные места из переписки с друзьями». В статье Газданов хотел прежде всего показать «некоторые противоречия» «Выбранных мест из переписки с друзьями». Но если бы речь шла только о «Выбранных местах...». Он всегда считал их «чрезвычайно спорными, мягко говоря, для русской литературы», и свое негативное отношение к книге выразил еще в 39-м году. Непривычно ново то, что в одном ряду со «спорными» «Выбранными местами...» оказалась теперь большая часть гоголевских произведений.
Смех Гоголя для Газданова — «смех сквозь странный бред, похожий на начало безумия». «Трудно найти такое ледяное презрение к людям, как у Гоголя», — продолжает автор. И далее: «Гоголь в лирическом отступлении пишет «Русь, чего же ты хочешь от меня? Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»
Это чем-то все-таки напоминает — страшно сказать — Поприщина. «В Испании есть король. Он отыскался. Этот король — я»
«Что это такое? Бред? Записки сумасшедшего?» напишет Газданов о «Выбранных местах из переписки с друзьями».
И, наконец, последнее слово об этой книге: «...в силу своеобразного возмездия происходит что-то одновременно парадоксальное и страшное: рукой Гоголя в этой книге точно водят созданные им герои и прежде всего Манилов, Хлестаков, Поприщин».
Намек на эти уничтожающие выводы, конечно, можно было бы заметить уже в ранней статье «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане», но слова о «беспощадно-издевательском» отношении Гоголя к своим героям (даже таким, как старосветские помещики и Башмачкин) окончательно убеждают, — в поздней статье нет ничего близкого к разговору о «болезни сосредоточенного внимания», с которого начал когда-то Газданов. Теперь все в Гоголе — безумие, бред, мания величия, ледяное презрение к людям. И речь не о литературном гении писателя, всегда восторгавшем Газданова, — речь о другом, говоря словами самого автора, — «о самом существенном».
В этом неприятии самого существенного кроется странное противоречие, — отказываясь от мира Гоголя, от его «природы» и «тайны», он словно отрекается и от своей посвященности. Приходится верить либо раннему, либо позднему Газданову или уличить писателя «во лжи», в отсутствии необходимых для художника духовного самостоянья и цельности — слишком легко он впадает в крайности. И тем не менее работа, написанная Газдановым через 30 лет, не только не противоречит статье «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане», но является ее своеобразным логичным продолжением — она абсолютно органична и закономерна. Это становится особенно очевидным в сравнении работ Газданова о Гоголе с ремизовской книгой «Огонь вещей».
«Книга Ремизова в части, посвященной Гоголю, отличается... и своеволием чисто ремизовского стиля, и намеренной гиперболичностью утверждений. Главы о Гоголе содержат много кажущегося «озорства», — напишет в своем отзыве на книгу Д.И. Чижевский.
«Озорство» было частью души писателя Ремизова. В его образе жизни было многое от игры.
Ремизов так же играл и в Гоголя. Суть замыслов заключалась не только в «своеволии стиля», — Ремизов шел на больший эксперимент и большее своеволие — он додумывал и дописывал за Гоголя сюжет. И в этом «озорстве» были свои, ремизовские условия игры: Манилов — декабрист, Чичиков — не сын своего отца, «в прохожего молодца». А чего стоит доведенный до «совершенства» Ремизовым «шерстявый» Ноздрев!.. В мире литературной игры все допустимо, тем более писателю, который «ближе всего к «гоголевской» традиции русской литературы». Но в какой-то момент текст Ремизова начинает жить вдруг своей, абсолютно не гоголевской жизнью, и причина кроется не в «своеволии стиля», где лубочный ремизовский разгул, его «кипь», «хлывь», «ввыдер», «буй» далеки от фантастического гоголевского языка. Причина кроется в своеволии того «самого существенного» (говоря словами Газданова), в той разноприродности дарований, которая в какой-то момент дает о себе знать.
«Отец Чичикова занимался психоанализом, как и откуда появился на свет Павлушка, он чувствовал, что Пигалица права. Павлушка не его сын, но кто же его отец и как это случилось? Из мутного окна смотрели на него глаза безответно.
И однажды, потеряв терпение, он поднялся в своих хлопанцах на лавку к самому окну — и растворил никогда не открывавшееся окно, вылез из окна и пропал.
Горбун нашел его на лавке — окно раскрыто, дул весенний ветер — он лежал вытянувшись во весть рост, рот ростаращен, как рвут зубы, и на лице сидела мышь, насторожа уши и моргая усом». Кажется, автору «Огня вещей» было мало самого Гоголя — ему тесно в гоголевском сюжете. Вспоминаются слова Ремизова, сказанные еще в начале 1900-х гг.: «Все думал о «сюжетах» для рассказов. Записывайте свои сны. «Страшного, страшного побольше». Ремизову не хватало «страшного» в Гоголе — он добавлял от себя. Здесь кроется начало переигрывания, когда актер теряет самоконтроль и начинает фальшивить. Кажется, Ремизов увлекается и не чувствует, что его «озорство» тяжелее и грубее гоголевского озорства, а его «страшное» не из мира «страшного» Гоголя, и уж тем более не из мира «Мертвых душ».
Подобное своеволие сюжета было чуждо Газданову. Он не только не смог бы играть в Гоголя, примеряя к себе его образы и сюжеты, он даже не смог еще раз в открытую вернуться к таинственному гоголевскому миру, где фантастичное и «чудовищное воображение» не имели ничего общего с литературной игрой.
«Это не было ни обмороком, ни сном, ни секундным забвением; это было как бы бесконечной душевной пропастью, подобной той, которая, наверное, предшествует смерти... Очнувшись, я увидел, что продолжаю идти по тротуару, но все, что окружало меня, и все свои ощущения и мысли я почувствовал с такой необычайной свежестью, с такой ледяной ясностью, с какой должен их видеть человек, внезапно исцелившийся от долгого сумасшествия...»
Газданов всегда знал, что духовное потрясение, пережитое Гоголем, почти смертельно, и потому холодный и жесткий тон эссе о Гоголе — это скорее страх человека уже познавшего и испытавшего что-то. Это особая форма близости, Газданов — «блудный сын» гоголевской традиции в литературе русской эмиграции. В нем никто не видел продолжателя Гоголя, и это понятно, он сам никогда не претендовал на это место, но в немилосердности интонаций позднего Газданова есть что-то от бунтующего ученика. Душой он был причастен к миру Гоголя, но умом — слишком трезв, и потому боялся и уходил от него не случайно. Он даже не верил в гоголевское «озорство», в чем был, конечно, не прав: ««Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — произведение юмористическое, но этот юмор чрезвычайно тревожный». Газданов в веселом и светлом Гоголе предчувствовал такую тревогу, которая была для него безмерна.
В итоге каждый трактовал природу классика исходя из своей. Газданов не только не посмел бы примерять к себе Гоголя, он боялся прикоснуться и подойти вплотную, истоки нетерпимости статьи «О Гоголе» прямо противоположны предполагаемому бесчувствию. В этой нетерпимости Газданов порой более чуток, чем в своевольной импровизации Ремизов.
После жестоких слов статьи «О Гоголе», соперничающих наравне даже со страстной жестокостью знаменитого письма Белинского к Гоголю, вдруг на самой последней странице читаешь: «Какая жуткая жизнь была у автора «Мертвых душ»! Ни жены, ни детей, ни собственного очага, ни дома, ни друзей, ни привязанности, ни пристанища, ни любви, ни даже России, из которой его все время тянуло в чужие земли; скитания, унижения...» — и вдруг чувствуешь, что многое из перечисленного вошло бы в авторскую исповедь самого Газданова и стало бы частью исповеди «фантастического мира» русской эмиграции.
Газданов и Гоголь... Очевидна была близость к Толстому, Газданов сам не раз признавался в любви к великому классику, — авторитет Толстого был для него неопровержим. Но мир Гоголя тревожил исподволь и не покидал ни на минуту. «Все, что говорит Ремизов о снах у Гоголя, ставит ту же важнейшую для характеристики раннего творчества Гоголя проблему: действительность у Гоголя сливается со сном... Фантастика раннего Гоголя именно такое слияние сна с действительностью», — заметит в своей рецензии Д.И. Чижевский. И там же напишет: «Ремизов... конечно, более всех призван сказать свое слово о снах в произведениях Гоголя». И это верно. Ремизов сказал свое слово, а Газданов всего лишь замолвил. Но так или иначе — слово было.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1994. – № 9-10. – С. 96-100.
Произведения
Критика