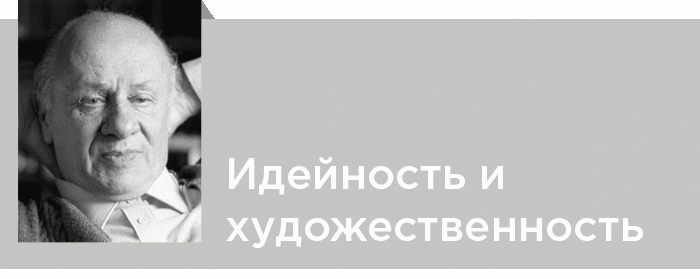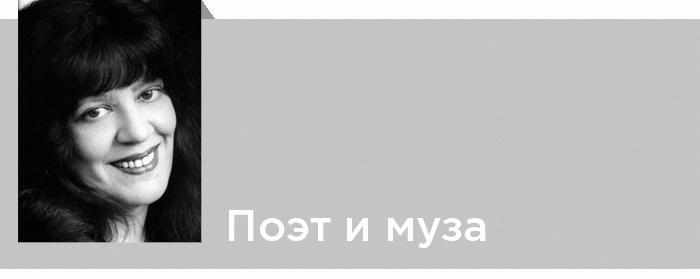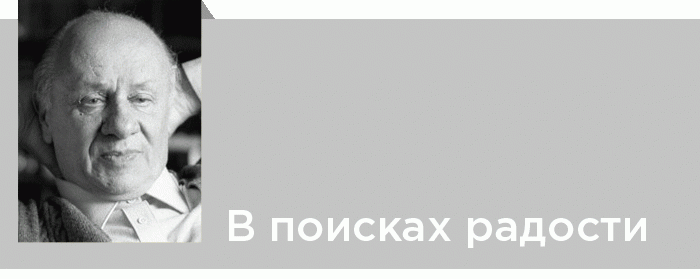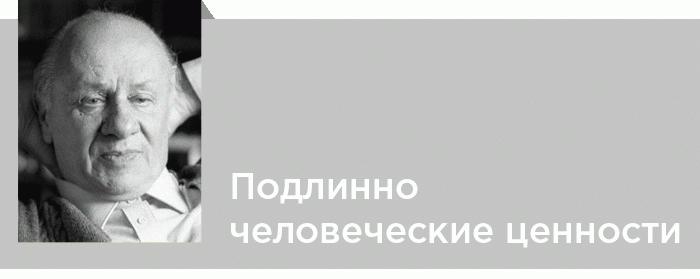О драматургии вообще и в частности

Е. Калмановский
Здесь будет рассказано о сегодняшних дебютах нашей драматургии, о достигнутом в том, что еще не добыто в творчестве, в своих размышлениях мы пойдем бок о бок только с одним писателем, с Виктором Розовым.
Естественно, в таком подходе к вопросам драматургии есть наряду с плюсами свои минусы. Не удастся сказать о пьесах А. Арбузова и А. Софронова, Штока и А. Володина, В. Лаврентьева, И. Зорина, о пьесах, которые появились давно и вызывали споры, то одобрение, то несогласие. Нет, в статье читатель не найдет общего обзора новых пьес. Но ведь нигде не сказано, что на свете существует только один путь размышлений о том или ином предмете.
Драматургия сегодня радует значительно меньше, чем поэзия или проза. На то есть разные причины. Одна из главных — недостаточно активное сопротивление нашего общего вкуса известной несерьезности, неподлинности многих пьес, в том числе и тех, что широко внедрились в репертуар театров.
Что же касается Розова, то его путь содержит явные победы и, увы, очевидные неудачи, но не грешил и не грешит претензиями, поверхностными новациями, обещанием мнимых достоинств. Вокруг Розова драматурги, режиссеры, зрители увлекались наплывами, хорами, обращениями в зал, изысканностями монтажа. Он же (не он один, конечно) оставался как бы безучастен к исканиям такого рода.
Вовсе не хочу сказать, что в драматургии вредно прибегать к зримому обновлению, новым формам. Речь о другом: настоящее всегда то, что «внутри», а не то, что «снаружи». Потому-то грош цена любому занимательному «снаружи», когда за ним, в нем бедность и невнятица, ничего такого, что придает подлинную ценность встрече с читателем или зрителем.
Наконец, еще одно важно. Розов разговаривает обычно ровным голосом, просто, скромно. Но подобно тому, как привычные спутники нашего быта при внимательном рассмотрении вызывают «сто тысяч почему», так ведь и явления искусства, что кажутся иногда при первом взгляде не таящими в себе неожиданностей, оказываются полны проблем и открытий. Не побоимся и мы почаще задаваться всяческими «почему?»
1
Вот, например: почему писатель выбирает себе тот, а не иной род литературы?
Долговременный опыт показывает, что между дарованием драматурга и автора прозы нет абсолютного, нет даже решительного различия. Пьесы писали Чехов и Лев Толстой, Щедрин и Лесков. Стихов они не писали (не считая шуточных, для домашнего употребления). Тот факт, что какой-либо писатель полностью посвящает себя именно сочинению пьес, очевидно, — опять-таки судим на основе имеющегося опыта — объясняется особым интересом такого писателя к сцене, к искусству театра. Так вот и Розов. Он учился на актера, работал в театре, потом стал драматургом.
Первая пьеса «Ее друзья» (1949) — как бы пролог к творческому пути. Принято считать, что эта пьеса плоха. Но перечтите ее сегодня, и вы увидите: не так-то уж она плоха и не вовсе непохожа на следующие. Розов уже определяет в ней ряд ценностей, на которых будет потом настаивать неизменно. Пьеса жизненна во многом (атмосфера, взаимоотношения).
Сюжет ее — история о том, как ослепла десятиклассница Люся Шарова, как помогали ей товарищи, как лечили ее и вылечили — далек от принятых в ту пору обычных сюжетов для юношества. Во многих пьесах тех лет кого-нибудь разоблачали, кляли, перевоспитывали, били прописями, борцы гордились добродетелями, учителя и родители несли суровый и тяжкий труд нравоучительного посева в невозделанные молодые души.
И вдруг — «Ее друзья», пьеса без патетики и гордыни, да еще про ослепшую девочку... Розов со скромным упорством отдалялся в основном от той дороги, по которой пойдешь — счастье найдешь. Над пьесой навис зловещий упрек: «Нетипично!» Репертком поначалу ее запретил, рецензенты и потом поругивали за отдаленность от основной линии. Теперь былое начинает забываться, и с удивлением читаешь про пьесу то, что никак не соответствует истине: она-де в рамках тюзовских штампов тех лет, она-де благополучна... Розову выпало из-за нее немало огорчений. Зачем делать эту же пьесу поводом для новых?
Конечно, была в «Ее друзьях» и робость, и попытки внешними средствами «угромчить» голос автора, тихий, задумчивый, порой невеселый. В пьесе легко ощутимы прямолинейность, чрезмерная досказаны ость, непредусмотренная наивность диалогов. Был ли тогда Розов наивен? Возможно, был. Зато новая эпоха нашей жизни быстро помогла ему повзрослеть в творчестве, стать вполне самим собой.
В конце концов, как ни понимай пьесу «Ее друзья», она все-таки лишь предыстория творческого пути. А сам он впрямую отвечал важнейшим переменам в нашей общей истории.
Розов заново открывал реальность. Мы узнавали себя, детей своего времени, и утверждались, ободренные искусством, в этом своеобразии. Нас звали не уходить от себя, а быть собой — вот ваша жизнь. Розов поверил в молодое поколение.
2
Идут годы, пишутся новые пьесы. Яснее лишь различия, перемены, этапы пути драматурга. В то же время острее и определеннее замечаешь общее, единое, неизменное.
Вот, например, начала всех пьес Розова оказываются похожи друг на друга. Всегда заурядный жизненный штрих, нечто обыденное, будничное: встреча, мимолетный спор, шутка...
Есть сходство и в том, как пьесы раскручиваются. А сходство в финалах, в самых концовках есть. Беру наугад заключительные лики хотя бы нескольких пьес: «Страница жизни» (1953): «Мечты были действительностью. Но на смену им шли новые. Человеку свойственно мечтать...»
«В добрый час» (1954): «Ничего!.. Пусть поищет!..»
«Вечно живые» (1956): «...Зачем все мы, кому ты и другие отдали и недожитые жизни... Как мы живем?.. — мой, Боря, Мой... И я беру твою жизнь с собой!»
«Неравный бой» (1960): «Спокойной и...» — «С добрым утром!»
«Перед ужином» (1963): «Авось, со временем мы будем лучше и что-нибудь сделаем для человечества. Авось!»
Розов всегда выводит все в конце концов к разуму, мысли, доброй вере, любви, надежде…
Произведения Розова по-своему цельны. Своеобразные начала пьес ведут к своеобразным концовкам, не похожим с виду на начала. Таков Розов и есть, так сочетаются привязанность к будням и обыкновенным людям с особой разумностью, настойчивым желанием извлечь урок, помочь, научить.
Розов очертил широкий круг духовных ценностей, изложил систему истин, которые определяют силу и здоровье нашего будничного существования.
Что это за ценности, что за истины?
Своевременно посолидневший Леонид Павлович («В поисках радости») бросает такую фразу о своем друге: «Он вырабатывает свое отношение к жизни и, согласно этому отношению, свое поведение в ней». Казалось бы, мысль как мысль. Можно и так сказать. Однако вдумчивую собеседницу Леонида Павловича его слова поражают.
На самом деле, люди не просто пользуются, так сказать, «готовой жизнью», они сами ее творят, каждый человек, в каждый час своего существования. В этом истина, а не в том вовсе, чтобы располагаться, размещаться, приспосабливаться, применяться. И настоящее «отношение к жизни» — это принципы, серьезные цели, а не хитрость или ловкость.
Творчество и труд формируют общую жизнь и жизнь частную. Труд за станком и за столом, труд воспитания себя, близких своих, труд любви и домостроительства, все труд, всегда труд, везде и во всем. Труд как творчество. Но это именно труд, работа, дело. Все нравственные болезни, даже самые изящные и замысловатые, имеют первоисточником своим нежелание труда, дела, Стремление так или иначе, тем или другим путем (иногда и мнимой деятельностью, в сущности пустыми, но усердными хлопотами) их миновать, обойти.
Еще в «Странице жизни» Костя Полетаев, прочтя «Отца Горио», заметил не без наивности, но ведь и точно: «...Если здоровый человек не работает, он хуже всякого скота и от безделья всякими пакостями начинает заниматься».
Сам Розов написал в одной из своих статей: «Воля человека и его страсти — это всадник и конь. И чем бешенее конь, тем труднее им управлять, тем крепче должна быть рука всадника — воля».
Не душевные стихии, не страсти, не одни желания да хотения диктуют достойному современнику его жизненный путь. Нет, ведут его воля и разум — в борьбе со многим в себе и вокруг себя, в вечном стремлении к действию, к выбору, к творчеству.
Человек, у которого хватает сил в трудах и борьбе со всяческим сопротивлением строить свою жизнь не покладая рук, строить жизнь и неустанно «строить себя», — такой человек получает хотя бы одну, но важную награду. Жизнь его не зайдет в. тупик, не иссякнет и не иссохнет раньше срока, она будет полной и человечной и прервется лишь с последним его дыханием.
Семидесятилетняя учительница Елизавета Максимовна («Страница жизни») не может больше вести уроки в школе, уходит на пенсию. И все-таки: «А ведь, пожалуй, у меня тоже никогда не будет „потолка”». Елизавета Максимовна садится писать книгу о своей жизни, об учительской профессии, о своих, учениках. Хороша, ли будет книга? Кто знает!. Но человек, взявшийся за такое, хорош — это уж бесспорно.
Конечно, как мы уже знаем, речь идет о подвижничестве, о нравственном максимализме, о том, чтобы не давать себе никакого роздыха в стремлении к благородству, к высоте. Быть там, где всего труднее («Если я честный, я должен быть там, где всего, труднее, понимаешь?»), и всегда выбирая то, что потруднее, а стало быть, и повозвышенней в нравственном смысле.
Разумное человеческое существование в пьесах Розова имеет всегда, важнейший оттенок: оно включает в себя постоянный расчет на совместность, коллективность, оно неразрывно с существованием других. Разум и воля здесь не попирают человечность, они ей служат. Оттого — «не ищите ответов на вопросы внутри себя, там вы их не найдете. И оправданий себе не подыщете». Ответы — в жизни общей, в совместном деле, в людских связях.
Труд жизни — это еще (может быть, прежде всего) труд взаимопонимания, активного соучастия в судьбах тех, кто живет рядом, труд связей, любви; заботы, ответственности перед другими и за других. А следовательно, и за общее дело, за общество.
Скромные герои Розова гражданственны, но нужны особые обстоятельства, чтобы они не постеснялись слов высоких, как клятва.
«Ты думаешь, кому-нибудь сына на войну отправлять хочется?.. Надо!.. Ты что, считаешь, что за тебя, за твое благополучное существование кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизнь? А ты — ни за кого и ничто?» Так кричит Федор Иванович Бороздин Марку, однако эти слова могли быть произнесены в каждой пьесе.
Драматург определяет, очерчивает круг истин, настаивает на их значительности не оттого, что просто любит учительствовать. Он верит в истины, критерии, мерила, потоку что убежден в силе, здоровье самой жизни, в том, что у нее разумные они же и есть истины.
Нет спора, можно идти к еще сложным вопросам и явлениям, чем которым посвящает свой труд Розов, есть смысл учиться у него ответственности, выработанности.
Целен, серьезен, вдумчив сам Розов, оттого и все его герои связаны от пьесы к пьесе незримой веревочкой. Конечно, в зависимо от пьесы они оказывались в ситуациях более или менее острых, да и степень условности автора в их собственную душевную жизнь не везде одинакова.
Совершенно ясно, например, что значительная разница между «Страницами жизни» и «В добрый час». И все же во всех пьесах — свои, особенные, розовские герои, поскольку привнесено свое понимание быта и человека.
Герои Розова упорнейшим образом разматывают нить своей судьбы, выправляют, меняют, бросают книжную тропу, выходят на истинную — и идут, идут... Уж как запуталась жизнь Вероники, но и она, ежась от боли, выходит снова к себе, к людям, свету и ясности.
Необычайно интересно всмотреться в то, как люди в пьесах объединены друг с другом, какие связи тянутся от человека к человеку.
Почти в самом начале второго действия «Неравного боя» есть характернейший диалог. Ночью во дворе оказываются Митя и Григорий Степанович. Перебрасываются репликами. У каждого свои тревоги. И вот то, что нам сейчас важно:
«Митя. А вы солнца ждете? Григорий Степанович. Кто его знает, может, и дождусь. (Смеется). Занятно!
Митя. Что вы смеетесь?
Григорий Степанович. Вот, значит, ты, а вот я — что между нами общего? Ничего, кажись. Оказывается, есть!.. Много!..»
Между людьми у Розова много общего, у них общая жизнь. В пьесах живёт поэзия людского общежития, поэзия общности.
Диалоги строятся по-особенному. Идет ежеминутное активное познание собеседника. Часто можно заметить, что тот или другой из говорящих явно откликается не на текст собеседника — его ответная реплика, соотносимая с только что услышанным текстом, кажется нелогичной. Она такова, но в ней присутствует логика, так сказать, более высокого порядка: отклик ориентирован не на текст, а на чутко уловленный подтекст или «затекст». Аркадий с отцом говорят о новом открытии биологов, коллег Петра Ивановича. А он, Петр Иванович, безо всякого перехода, вдруг: «А почему бы тебе не поехать на периферию?» — он уловил за откликом сына грусть и зависть к ясности отцовских дел, на них отозвался.
В «Вечно живых» Володя рассказывает о фронте, боях. «Ты стихи пишешь?» — прерывает его Федор Иванович.— «А вы как догадались?» — «Проник», — скромно отвечает Федор Иванович, явно довольный своей проницательностью.
Вот это «проник» точнейшее розовское. У него хорошие люди всё время «проникают», им стало бы неуютно и бедно без того.
Двое разговаривают, третий оказывается рядом, проходит мимо, хлопочет по дому, читает, просто присел поблизости. Двое разговаривают, третий молчит. Но, зная характер связей в пьесах Розова, можно быть уверенным, что и он не безучастен к тем двоим. Действительно, бросил вдруг словечко — и уже окончательно ясно, что он думал, оценивал, соучаствовал.
Дома, в которых совершаются события пьес, крепки, прочны, всерьез построены и не рассыпаются от самых тяжких ударов. Везде, куда ни глянь, добрая, славная, дружная семья.
В «Ее друзьях» Шаровы живут открытым домом: «У нас после каждого экзамена — пир!» С чего же и начинаться дому, как не с хлебосольства — все к столу, голодными отсюда не уходят!
В «Странице жизни» две семьи, и хотя у обеих по разным причинам есть полное право на неустроенность и бивачное житье, такому не бывать.
«В добрый час»... Семья Авериных, надо думать, у всех в памяти. Правда, Анастасия Ефремовна не вполне понимает молодежь, суетится, делает ошибки. Но разве не добра она и не прежде всего ею держится дом?
Потом «В поисках радости» с высочайшим культом благородства, совместности, материнского дома.
«Вечно живые». Федор Иванович Бороздин, суровый и безмерно добрый поэт семейного быта. Во второй картине, в военной Москве, он сердится: «...Ты знаешь, я не люблю, чтобы за столом мелькали. Сидели так двадцать лет и еще пятьдесят просидим». Через несколько лет, вернувшись из эвакуационных скитаний: «Третий день в Москве околачиваемся, а никак за стол все вместе не сядем!»
Только в «Неравном бое» нет дома, нет семьи (мать Славы Заварина умерла, отец в командировке, сам он оказался «в людях», хоть они ему и родственники).
Семьи у Розова хороши оттого, что держатся не на кровном родстве и взаимном укрывательстве. Они есть одной из высших форм человечной, своими руками построенной общности людей.
Раз уж я взялся вспомнить лучшее из сказанного героями пьес Розова, было бы ошибкой обойти слова Анны Михайловны из «Вечно живых» о ней самой, муже и сыне: «Мы с Кириллом прожили вместе двадцать девять лет, и сказать, что я любила его, и мало и неверно. Это была часть меня. Он, я и Владимир составляли одно целое, невозможное врозь». Хорошо!
Можно было бы сказать о самоотверженности героев Розова, однако это слово в данном случае неточно. Ведь они стремятся к тому, чтобы раскрыться до конца, найти свою точку, выявить свои силы и возможности. Вернее говорить не о самоотверженности, а о щедрости хороших людей у Розова. Они богатеют душой, деятельно связывая хвою жизнь с другими. И в том находят источник силы сопротивления как житейской пакости (способной вообще-то угнездиться в душе и хорошего, но слабого человека), так и житейскому горю.
Конечно, люди в пьесах порой пребывают в состоянии «публичного одиночества», в беглой пестроте мелких действий. Однако постоянная поправка на тех, кто рядом, уже накрепко определила строй души каждого, определила психологические тонкости и сложности, своеобразие любого выражения чувств.
Мы наблюдаем внешнюю ироничность, так сказать, ироничность формы, застенчивую недосказанность; патетика в изъяснениях редка, редка и поучительность — ее не надо путать с чистосердечным желанием посвятить другого в свои мысли, разделить их с собеседником.
Все эти особенности душевной жизни имеют основой не ощущение взаимной отчужденности, разорванности, неминуемой раздельности людей и судеб. Как раз напротив — суть в доверии к чуткости ближнего и, в свою очередь, чуткости к нему.
Возникают так называемые «обратные ходы».
Елизавета Максимовна возвращается домой, дав последний в своей жизни урок. Домашние ни живы ни мертвы. «Да... Сейчас войдет она сюда и разрыдается...» — говорит сын Елизаветы Максимовны. Но она входит — и сразу: «Конечно, пронюхали. Занятный народ эти ученики. Собирается ли прийти какая-нибудь комиссия из гороно, — они уже за два дня в курсе дела» и т. д. Не «разрыдалась», рассказала о «занятном», забавном...
На проводы Бориса Бороздина в армию приходит его сослуживец Кузьмин, им на двоих полагалась одна броня. Борис пошел добровольцем, следовательно, броня досталась Кузьмину. Все ждут: вот сейчас он начнет упрекать Бориса и клясться в своем мужестве. Он же вдруг сообщает: «Конечно, может быть, это нехорошо, но война, фронт... меня, знаете, как-то не манят. Вы знаете, мне даже неприятно, когда мальчишки стреляют из ключа: набьют в обыкновенный ключ от замка спичечных головок, заткнут гвоздем, а потом как бахнут об стенку... Чрезвычайно неприятно», Борис специально объясняет: «Не трус я. Нет, не в трусости дело…»
Непрямой путь выявления внутренней жизни, смесь различных чувств и желаний, многослойность душевного существования, юмор, составляющий как бы особый вкус буден...
Особенно неожиданно и запальчиво подобные жизненные смеси проявились в Андрее («В добрый час»).
4
В творческой биографии Розова с некоторых пор радикальных перемен, казалось бы, не происходило. Но перечитываешь подряд все восемь его пьес и видишь: не так-то шло плавно; Розов сегодня во многом иной, чем был поначалу. А наиболее четкая веха такого «иного» — «Неравный бой».
В пьесах, так сказать, «классического периода» сейчас можно особенно ясно ощутить склонность к внешней ясности, четности, гармоничности, договоренности.
Выше говорилось, что у пьес Розова пободное построение, многие сюжетные линии остаются незавершёнными, незакругленными. Так-то оно так, но в тексте присутствуют все же незримые стрелки, указывающие (с неодинаковой степенью детализации) направление пути каждого из героев. Не все приходят к очевидным итогам, но направление обретают все. Конечно, кто знает: быть может, придет время, и Федор («В поисках радости») вернется в материнский дом, но сейчас жизнь понесла его в сторону. И это в лучшем случае надолго.
При всей правдивой жизненной осложненности мотивов и поступков в ранних пьесах «рука всадника — воля» в конце концов неизменно оказывалась сильнее, чем «бешеный конь» страстей. Так у хороших людей. Но и у плохих причиной фальшивой их жизни была скорее слабость «руки», нежели яростные страсти. Потому-то, например, Марк («Вечно живые») и не кажется вполне убедительным, что кипения злых страстей в нем не угадываешь. А поступки его как будто свидетельствуют о немалой силе, твердости в неблаговидных предприятиях. Что же его вело, что же давало такую силу устремленности?
Ни в одной из пяти первых пьес никто никого не разлюбил. Любовь представала чувством не всегда легким и ведущим к счастью, но безусловно ясным и обогащающим. «Любовь - прекрасное чувство, даже если она не взаимная. Иное дело, когда человек в подобном случае начинает блекнуть: хныкать, киснуть... У большого человека и неразделенная любовь — источник силы, а у маленького... Впрочем, у маленького все маленькое: и горести и радости», — объясняла Елизавета Максимовна.
Но вот вдруг Клавдия Васильевна обронила слова страшные, жестокие: «Очень часто любовь принижает человека, разрушает его жизнь. Я даже не знаю, совершено ли во имя любви на земле больше высоких поступков или подлых». Когда в «Поисках радости» были сказаны эти слова, они показались, пожалуй, своего рода педагогическим предупреждением, жизненной пропедевтикой. Теперь ясно, что в них, в частности, заключалось предзнаменование нового круга поисков истины.
Да, трудно определить, когда точно Розов отправился в этот новый цикл исканий. Во всяком случае, еще пьеса «В поисках радости» на всех сценах более или менее удалась, принята была единодушной хвалой, как, впрочем, и предыдущие произведения (кроме «Ее друзей» и «Вечно живых» — эти последние неожиданно нашли у критики весьма кислый прием). Но уже в комедии из жизни семьи Савиных вырисовывались черты жизни, внутренне, в самой основе более сложной и драматичной, чем в ранних пьесах.
Потом появились «Неравный бой», «В дороге», «Перед ужином», «В день свадьбы». В пьесах обнаружилась несомненная избирательность по отношению к театрам, которые по привычке спешили «ставить Розова». На многих сценах постановки не удались. Вокруг пьес шли споры, высказывались суровые устные упреки, споры нет-нет да и вырывались на печатные страницы. Относительно спокойная жизнь драматурга Розова кончилась.
Нет, он не отказался от того, что уже нашел. Однако он хочет, более того — считает необходимым дополнить свой взгляд на вещи новыми гранями.
И грянул бой, пусть «неравный». А до того ведь истинных боёв в основе сюжета, в центре событий не встречалось. Борьба со всем ограниченным или фальшивым являлась одной из естественных основ бытия, однако материализовалась она только в отдельных, мимоходных вспышках. Здесь же будни взорвались. Какие уж тут будни!
У Романа Тимофеевича с супругой не выдержали нервы. Они чуть не задохнулись от злости. За ней без труда угадываешь неосознанную зависть, лихорадочную обиду на того, кто имеет силы жить, не вертясь, не хитря, не подличая, не оскорбляя сам себя ежеминутно. Нравственная дремучесть сжимает кулаки и выкрикивает оскорбления другим. Как, например, стерпеть, что есть вокруг, видите ли, какие-то таланты, они требуют к себе бережности. Наоборот, им-то в душу и надо в первую очередь плюнуть, унизить погрубее — пусть знают! Антонина Васильевна кричит в ярости: «...Это тебе не какой-нибудь необъяснимый Пушкин или лорд Байрон, это всего-навсего обыкновенный мальчишка, наш Славка. И загадки в нем, слава богу, нет! Ясен — как три копейки! И с ними надо вот как! (Сжала руку в кулак)». Где уж ей подыскивать аргументы, убеждать да доказывать. Есть один надежный аргумент — сила. Потому — в защиту мужа: «Ты его не тронь, ты его не нервируй! Он корову кулаком промеж рогов насмерть бьет... А тебя — как муху... Не трави его!.. Не тронь!..»
Так вот и проводили дни, поклонялись силе, любили влезать в чужую жизнь (Антонина Васильевна печалится: «Боюсь только — в отдельной-то квартире скучно будет»), между собой жили поганенько, но от других это обстоятельство по возможности скрывали, бичуя с удвоенной силой действительные и мнимые грехи ближних и дальних. Так шли дни. Да жизнь вокруг резко переменилась. Пришло другое время.
Безусловно, бой разгорелся, не просто между умным и глупым, столкнулись времена. Для Славы, для Лизы сражение во дворе «небольшого домика около самой Москвы» не прошло кратким эпизодом. В них, в свою очередь, созрел святой гнев, поселилась тревога.
Итак, будни взорваны, в пьесе ход событий не будничный, он и внешне концентрированный, сгущенный. Можно сказать, что Розов в «Неравном бое» предоставляет много больше прав художественной условности; отбор событий, деталей более энергичен, более окрашен авторски (есть и специальные «уравновешиватели» — так написаны, например, Тихон с Верочкой).
Начинает комедию безымянная соседка, она ищет по дворам свою козу. Потом она снова является как своеобразный резонатор до предела сгустившейся тревоги на поле действия. Она плачет и извергает проклятия: «Понастроили всякой своей дурацкой техники — машины, электрички, самолеты, вертолеты, на Луну собираются, а все равно толку нет! (Плачет, упав на забор)». Вот образ бессильного, слепого беспокойства человека, отбившегося от времени. И, наконец, она еще раз мелькнет почти в самой! финале, преисполненная радости: «Нашлась козочка-то, нашлась! (Совеем восторженно). Это не мою задавило, а чужую!.. Не мою!.. Чужую задавило!.. Чужую!.. (Исчезла)». Соседка эта, словно тревожный лейтмотив дня, поддерживает напряженность его течения, усиливает сгущенность письма, для Розова необычную.
Розов продолжает с мужественным упорством искать поправки и осложняющие нюансы к уже найденному, уже установленному. Мы помним его мысль о «коне» страстей и «всаднике» — воле. Теперь ему, видно, кажется: чего-то в этом выводе он не охватил, не учел. Как бы всадник не посадил коня на столь скудный паек, что он вовсе зачахнет. Конечно, всадник сможет тогда пересесть в седло мотороллера — такие нынче времена. Но не уйдет ли из жизни нечто необходимейшее, от природы ей присущее? Не обеднится ли она, не оскудеет?
Гордость семьи, умный, чистый, цельный Гриша поднимает бунт. Он возражает матери: «Я не хочу быть разумным, мама. Сейчас я хочу быть свободным от разума. Это нестерпимо: быть разумным, всегда разумным!.. Как будто тебя твой собственный разум поймал, держит, и ты обязан ему служить... В конце концов, к черту его!.. Ум дан человеку не затем, чтобы душить человека... Проклятый сторож, он мне надоел...»
Бунт в защиту страстей, живой цельности откликов и решений... Потому не только Гриша, но и Верочка явно милее Розову, чем Валерьян. Верочка, которая признается: «Меня несет какой-то поток... Я как чувствую, так и живу...» — «Ну какой она человек! Сама себе мученья придумывает... Ей мучений не хватает, честное слово!..» — объясняет Валерьян Верочкины поступки. Видимо, в таком объяснении немалая доля истины. Верочку пугает размеренная ровность чувств, благополучная разумность жизни.
Так вот все завертелось, закрутилось. Розов дает нам понять, что подобная «предельность» самоощущений — когда немедленно, сейчас же необходимы перемены, взлеты, решение труднейших задач — хотя бы отчасти коренится в истории, в сегодняшней атмосфере нашей жизни. Иллариону Николаевичу за пятьдесят, но и для него настал момент решать важнейшее в своей судьбе: сбросить наследие былых времен или стать, подобно Серегину, двоедушным ревнителем «культовой» старины. Только что совершился решительный переворот в жизни Николая Федоровича. Волнуется, делает свои открытия Иван. Жизнь бурлит, торопится и торопит. Надо многое изменить, пересмотреть, исправить, увидеть заново и без предубеждения.
В комедии сюжетные линии, судьбы, темы разительно неравноправны. Есть своя динамика, но есть и статика: сцены с Эммой Константиновной, с Серегиным... Наверное, и играть эту пьесу надо в известной степени нестройно, сосредоточиваясь на одном, пробрасывая другое, выделяя главное, новое, проблематичное, не настаивая на второстепенном.
Драматургия ответов сменяется у Розова драматургией вопросов. Так и в последней его пьесе — драме «В день свадьбы».
Кажется, что ее автор все сильнее опасается, не ввел ли он читателей и зрителей хоть в малый обман своими прежними пьесами, не охватив всех сложностей жизни. В новой драме он еще шире, открывает игралище жизненных страстей, напоминает о тревожных загадках людского бытия и отрадной неисчерпаемости его смысла. Вопросы, вопросы, вопросы...
Отец Нюры — той, что в самый день свадьбы решила отказаться от своего жениха Михаила, которого давно и безраздельно любит, — отец ее, человек старый, жизнью умудренный, рассуждает о браке и супружеских расхождениях: «Какой тебе тут природа диктант дает, какую подсказку шепчет, и не знаешь. С одной стороны, порядок, условие, так сказать, такое, договор, его соблюдать необходимо, а с другой...» Здесь говорящий останавливается в раздумье, но, пожалуй, относительно «с другой» он согласился бы с Василием, испытанным другом Михаила.
Василий возмущен другом, когда тот считает для себя невозможным отступиться от слова, данного Нюре. Рассуждает Василий так: «А главный-то долг у человека перед кем? Перед природой, вот что... Не честный ты человек, а выдуманный... выдуманный ты человек, точно...» Михаил и Нюра вообще не столь категоричны, однако в конечном счете и они приходят к тому, что надо дать волю чувству, освободиться от обязательств, ломающих твое естество.
Драма вовсе не исчерпывается таким узлом людских страстей и сомнений; в ней много всего: и самоотверженность, и шутки, парадоксы и каверзы житейские, причудливые сочетания старины и новизны, портреты людей с фальшивинкой.
Что же касается важных вопросов обеих последних пьес, тех, на которые натолкнули прежде всего тяжкие превратности любви, то вопросы эти, конечно, любовью не исчерпываются, к ней одной не сводятся.
Вопросы расслышаны Розовым чутко. Что же касается ответов, то здесь, пожалуй, драматургу недостает сейчас известной «плотности» в исследовании жизни. Все-таки многое в живой современной картине он отсекает, отбрасывает, не берет в расчет. Поэтому трудно понять, как же, скажем, любовь человека связана сегодня, именно сегодня, с его делами.
Л-ра: Звезда. – 1965. – № 3. – С. 205-214.
Произведения
Критика