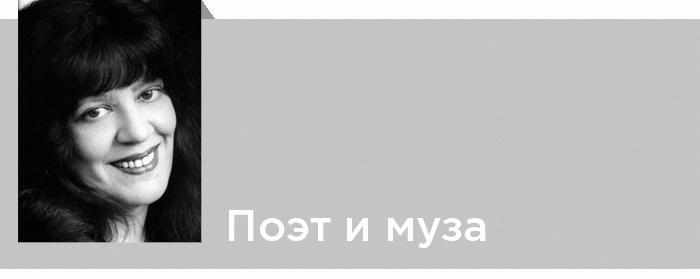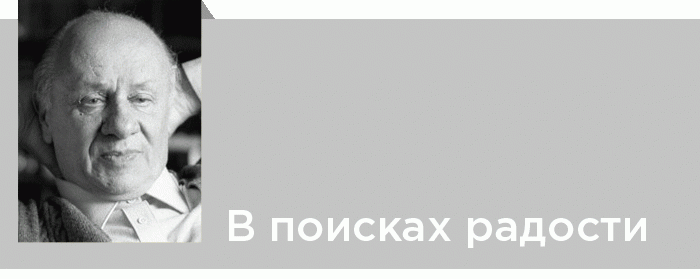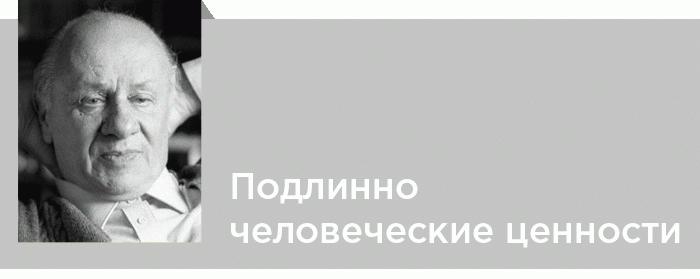Идейность и художественность
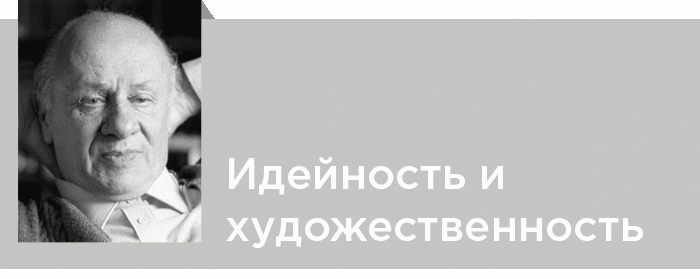
Назаренко В.
…Художественность трактуется в теории и практике литературы обыкновенно как нечто нейтральное к идеологии. Это зависит, по всей вероятности, во многом от того, что художественные достоинства связываются прежде всего, если не исключительно, с достоинствами языка, который действительно может служить любой идеологии.
Однако в последнее время (в частности и особенности — в статьях Е. Книпович) все более настойчиво отмечается теснейшая связь художественности с идеологией.
Но в широком обиходе понятия о природе художественности пока еще зачастую сводятся к тому, что идейность — сама, по себе, а художественность — сама по себе.
Поэтому сфера понятий о художественности и сама художественная практика могут оказываться под влиянием чуждой идеологии. Здесь нынче один из важнейших участков идеологической борьбы нашей литературы.
Вопрос о природе художественности — быть может, в силу кажущейся элементарности — наименее разработан литературной теорией, о чем еще придется говорить далее. Пишущий эти строки далек от претензий полностью осветить этот сложный вопрос. Хочется лишь поделиться некоторыми наблюдениями и соображениями, возникшими как в личном читательском опыте, так и среди литературно-критических занятий.
Хорошим материалом для начала разговора на эти темы, кажется мне, может быть новое произведение Виктора Розова — литературный киносценарий «А, Б, В, Г, Д...», напечатанный в журнале «Юность» (1961, № 9).
«А, Б, В, Г, Д...» — произведение обнаженно целеустремленное в воспитательном плане, проникнутое педагогическим и даже дидактическим пафосом. Виктор Розов — не из тех литераторов, которые словно стесняются своей воспитательской роли, считая, что воспитующий смысл надо, подобно невкусному лекарству, запрятывать в сладенькую облатку развлекательности для самодовлеющей «художественности».
Сюжет «А, Б, В, Г, Д...» прост до крайности и весь подчинен задачам назидательности.
Недавний школьник Володя — убежденный и ожесточенный «нигилист». При случае он заявляет с некоей гордостью: «Товарищи, меня мама с папой воспитывали, лучшие московские учителя старались — так сказать, педагогические светила! — и то ничего не вышло. Я давным-давно выучил все эти скучные истины — и А, и В, и В, и Г, они у меня в зубах навязли и завязли... Так что вы не трудитесь, коэффициент полезного действия будет равен нулю».
И вот Володя, как ему думается, «выучивший и А, и Б, и В, и Г», волею случая оказывается в положении бездомного и нищего бродяги, - далеко от московских улиц. Индивидуалист, так сказать, «теоретический» получает возможность быть индивидуалистом на практике, жить почти вне общества.
И тут-то Володя своим горбом усваивает некое «Д». «Д» — по замыслу драматурга — жизненная практика. Нелегко дается юному индивидуалисту освоение этой премудрости. Драматург последовательно показывает в различных встречах странствующего Володи нищету индивидуалистической самовлюбленности и самонадеянности. Всё, что связано с антиколлективистскими надеждами и попытками, ведет к краху — сеет в душе тоску. Чтобы добыть хоть немного денег, Володя пытается продать пиджак на пристанционном базарчике; пиджак в суматохе крадут. Обнаружив у себя «капитал» в три копейки, он хочет купить хлеба, но теряет монету и остается голодным. Подрядившись за харчи пилить дрова некоему алчному старикашке, он подвергается унизительному надувательству. Договорившись на какой-то станции с каким-то Андреем Даниловичем грузить кладь, он становится объектом вымогательства.
Грязным, духовно неприютным оказывается индивидуализм на практике. Но как только Володя попадает в трудовой коллектив — на строительстве, на металлургическом заводе, — его обвевает теплом, дружеской заботой; да и мучительная для индивидуалиста проблема куска хлеба — здесь не проблема; в коллективе не пропадешь.
Практическое постижение этого «Д» заставляет Володю по-новому понять и некогда скучные «А, Б, В, Г;..» Он начинает ощущать их мудрость, они — обобщение практики; и в конце своей «одиссеи» Володя вроде бы начинает жить по этим самым правилам «А, Б, В, Г, Д...», начав всерьез постигать азбуку жизни; откуда и название сценария.
Так представляется мне замысел драматурга, обличающего «нигилизм», возникающий в тепличном быту; ратующего за воспитание жизненное и трудовое; избравшего при этом формы определенно, условные и отчасти символические.
И воспитательное значение такого замысла в принципе несомненно. Надо прибавить мастерство драматурга, проявившееся с блеском во многих сценах, эпизодах, кадрах.
Однако во многом воплощение замысла оказалось, по-моему, противоречивым.
* * *
Володин «нигилизм» чрезвычаен и даже чрезмерен; так это, по-видимому, и задумано драматургом, нагнетающим предельно циничные Володины реплики. Например: «Люди изобретают цветное видение и магнитофон, готовы открыть тайну белка и улететь на Луну, но этого не делаются ни честнее, ни счастливвее...» «Истребить на земле всех самых вольных тупиц, жуликов, карьеристов, приспособленцев, подхалимов... мне иногда кажется просто возможно. Вот я и думаю: а может быть взорвать весь земной шар к чертовой матери. Уничтожить всех разом, пусть начнется все сначала, с одноклеточных. Может быть, тем, другим, повезет?» «Человечество так скверно себя ведет, что может быть, и стоит немножко покарать». Такие «афоризмы» отпускает Володя, когда его спрашивают о возможности войны, он говорит: «мне безразлично».
Это, очевидно, входит в замысел драматурга, стремившегося показать, как может жизнь вправить даже настолько вывихнутые мозги.
Однако оказалось упущенным и очень важное. А именно: что сделало Володю столь мрачным «нигилистом»? Драматург вводит его в повествование так сказать, «испеченным» в этом смысле стремясь, видимо, сосредоточиться на перевоспитании. Между тем причины Володиного «нигилизма» чрезвычайно важны, и для подлинного перевоспитания, всякое лечение требует понимания причин болезни. Без диагноза как лечить? И потому такой «диагноз» важен не только художественной логики данного сценария, но имеет куда более широкое значение несколько слов об этом.
* * *
Уместно со всей энергией сказать: проблема молодежного «нигилизма», искусственно раздута стараниями неглубокой критики.
Розовский Володя недоволен всем человечеством, но себя, однако, обожает, требует себе полнейшей независимости: «Я никому ничего не должен, не успев родиться на свет, я только и слышу: должен, должен!" Я никому ничего должен!» Володя очень высокого о мнения и заявляет при случае: «Для меня все авторитеты относительны». В. Розов безусловно далек тут от мысли, что Володя — некий собирательный образ юного «героя нашего времени». Драматург живописует лишь частный случай — плоды недостатков воспитания и оторванности от реальной жизни. И «нигилизм» Володи, по замыслу драматурга, должен бы предстать чем-то уродливо-карикатурным. (Но, к сожалению, это не очень получилось, и об этом несколько далее.)
Но критика порой готова неосновательно обобщать, беря чересчур всерьез такие фигуры. Характерны в этом смысле высказывания Д. Лазарева в «Заметках о молодой прозе» («Вопросы литературы», 1961, № 9). Восторженно отзываясь о романе В. Аксенова «Звездный билет», Л. Лазарев пишет, что в этом произведении «с наибольшей остротой поставлены проблемы», волнующие будто бы всю литературную молодежь. Что это за «проблемы»? Л. Лазарев пишет: «Герои произведения ищут ответа на вопросы: как жить и во имя чего жить? Они не хотят готовых ответов, снимающих с них ответственность. Они ищут самостоятельные решения, им недостает большой идеи, освещающей их повседневный труд и работу». Почти во всех откликах на роман В. Аксенова отмечалось, что в нем живописуется лишь ничтожная часть молодежи, для коей, как видно, не годятся в «большие идеи» — идеи героического созидания нового общества. Но Л. Лазарев в свойствах аксеновских персонажей усматривает некую драму чуть ли не всей нашей молодежи. Говоря уже о всей «молодой прозе», он отмечает: «Как только речь заходит о будущем, о главном в жизни, о ее цели и смысле — герои либо умолкают, либо хлопают друг друга по спине, либо обращают все в шутку»; «Здесь и молодые писатели и их герои обычно пасуют, часто им сказать нечего». Ширя и ширя свое обобщение, Л. Лазарев полагает далее, что «возникла в острой и даже болезненной форме проблема: как соединить высокие устремления, возвышенные мечты и будничную работу». По мнению Л. Лазарева, «все упирается в нечеткое понимание задач революционера в период мирного строительства нового общества». И такое «нечеткое понимание», по мнению критика, — беда не одного писателя, не тех или иных персонажей, но нечто такое, что составляет «проблему».
В таком, разумеется превратном, толковании фигур житейских и литературных хлюпиков есть доля вины и писателей, подчас недостаточно определенно высказывающихся в своих повествованиях. Так, В. Розов, по-видимому, полагал совершенно понятными для каждого чителя - причины убогого Володиного «нигилизма» и не стал обдумывать и уточнять эти причины и создал возможность любого истолкования этих причин.
* * *
Неясность причин Володиного «нигилизма» вызвала много последствий в повествовательной ткани. Эта неясность примечательным образом сказалась в трактовке всех, с кем сталкивается Володя.
Вот его родители. Драматургу для начала повествования важны их взаимоотношения с Володей; как говорится, семейный конфликт. В этом конфликте отец и мать могут по-разному противостоять сыну. Они могут быть духовно сильнее его, понимая из своего жизненного опыта убожество Володиного «нигилизма», зная об этой душевной нескладице то, чего сын, по молодости лет, не знает. Но такая трактовка требует, чтобы драматург и мы, читатели, понимали причину Володиного «нигилизма». И эта трактовка становится невозможной, поскольку эти причины неизвестны.
Возможна и другая трактовка конфликта: отец и мать, наоборот, по своему духовному ничтожеству, не понимают благородных терзаний сына. Но эта трактовка для убедительности требует, чтобы и драматург, и мы, и Володя знали, отчего «нигилизм». И эта трактовка становится невозможной, поскольку эти причины неизвестны.
При неизвестности причин драматургу остается лишь одна возможность: Володе, неведомо почему ни во что не верящему, противостоят родители, неизвестно почему ничего не понимающие в сыновней душе. При этой трактовке, конечно, нет никакой возможности индивидуализировать характеры родителей; нельзя живописать их духовно сильными, понимающими; но и непонимание оказывается как бы бесплотным, ибо неизвестно, чего же они не понимают. И мы видим: образы, Володиных родителей сотканы из «штампов», из тех ходовых и абстрактных реплик, обозначающих то гнев, то горечь, то иронию, которые могут служить в любом конфликте, живописуя хоть родителей, удрученных тем, что вырастили прохвоста, хоть родителей, не понимающих, что сын — выдающаяся личность. Но «штампованность» и бескрасочность по-своему тоже характеризуют; и хотя Володя в своем «нигилизме» лишь ходячая схема, но все же эта схема возвещает нечто, и Володя явственно возвышается духом над своими родителями. Так получается и далее.
Вот Володя снисходительно пожелал «прокатиться» за Урал, к дяде, чтобы родители, боящиеся оставить его одного дома, могли съездить на курорт. И вот он приезжает к дяде. Дядя в прошлом — «знаменитый партизан». Это — сложная и богатая биография, незаурядные глубины характера. Драматургу было что взять в этом характере «крупным планом, противопоставить Володиному «нигилизму». Но оказалось неясным — что взять, что противопоставить, ибо неясно — чему противопоставлять: причины Володиного «нигилизма» неизвестны.
И не оказывается возможности как-либо индивидуализировать фигуру дяди; и эта фигура тоже составляется из «штампов», из банальных и поверхностных характеристик и реплик этакого «простодушного рубаки», «старого вояки». И фигура дяди обретает почти комические черты; Володя же в своем серьезнейшем «нигилизме» и тут возвышается духом.
Вообще все персонажи сценария по своей душевной бесцветности как бы «играют в поддавки» с Володиным «нигилизмом». Сила духа, по странной прихоти повествования, остается все время привилегией «нигилиста».
Сразу по приезде к дяде разыгрывается сцена, в результате которой Володя окажется бездомным бродягой. Узнав о прибытии московского родственника, сошлись друзья Симы — приемной дочери Володиного дяди. В разговоре Володя щеголяет своим цинизмом, вызывает возмущение. Но любопытно: негодующие реплики как-то примитивны, не свидетельствуют о душевной сложности. «Подумаешь, какая персона особая приехала! Гений непризнанный!» «Ты из себя клоуна не изображай». «Не уйдет! Без денег не уедет — обратно притащится! Мы его переработаем!» Проскальзывает в этих вульгарнейших репликах нечто от того стиля, в коем часто изображают нападки обывателей на не понимаемую ими выдающуюся личность.
А Володя сразу же и впрямь совершает незаурядный поступок. Разгневанный «серостью и посредственностью» зауральской родни, он убегает, бросая вещи и деньги, чтобы как придется добираться домой, в Москву. И начинает добираться. Это говорит о немалой силе воли. Но откуда эта сила?
Начинается Володина «одиссея» по зауральским местам. За ним следует Сима, сперва пытаясь воротить его, а затем, когда уже далеко они забрели и заехали, просто сопутствуя ему. Она влюблена в него тем сильнее, чем грубее он с ней обходится. И это, естественно, призвано еще более усиливать Володино обаяние для читателя.
В странствиях случаются разные встречи. И в каждой по-разному Володя оказывается не посрамленным духовно. Вот путевой обходчик радушно зовет голодных юнцов-бродяжек к себе, потчует. Заводит разговор о международном положении; хочет знать мнение столичных жителей насчет возможности войны. Володя цедит сквозь зубы упомянутое выше «мне безразлично». Обходчик — бывший фронтовик — возмущен. Отношения расклеиваются. Володя — в морально-гражданском плане — оказывается тут словно в вонючей луже. Но драматург спешит на помощь своему герою. Жена обходчика тут же сообщает, что ее муж, «контуженный», дает понять, что не относится всерьез к его пафосу. И человек, негодующий на скверное равнодушие Володи, представлен одиноким чудаком, если даже и не травмированным психически по причине контузии. И Володя продолжает свой путь непосрамленным.
Силу духа проявляет Володя и в столкновении с алчным старичком, и при встрече с жуликом Андреем Даниловичем, и в ссоре с неким липким «командировочным » из снабженцев.
Наконец Володя попадает на металлургический завод, и его берут подручным горнового. Эта работа очень трудна с непривычки. Но он мужественно преодолевает физическую слабость и неподготовленность. И тут тоже получается: Володин «нигилизм» аккумулирует в себе некую духовную силу.
Драматург явно намеревался развенчать «нигилизм», а в воплощении замысла парадоксальным образом. Пришел к поэтизации его.
В «нигилизме» оказывается словно бы некая особая ценность. Характерен в этом смысле разговор Володи и дяди, уже в самом конце сценария. «Живет в тебе этот сволочной бес», — раздраженно говорит дядя. «Без этого беса, дядя, по-моему, вообще жить не стоит. Нельзя же относиться к жизни серьезно», — отвечает племянник, уже побывший рабочим металлургическою завода и получивший там определенное признание. Выходит, именно «нигилизм» делает Володю особо ценным приобретением для рабочего класса.
* * *
Но может быть, все это не так уж важно? А самое главное — в том, что Володя все же как-то в чем-то меняется, перевоспитывается?
Однако тут есть некоторая сложность, которой никак нельзя пренебрегать, если думать о воспитательном значении литературы всерьез, а не формально.
В самом начале, в ответ на увещание матери, Володя говорит: «Потерпи, вероятно, со временем обломаюсь...»
Это примечательная реплика. Это значит: Володя в своем «нигилизме» довольно углублен; представляет себе, что жизнь может «обломать» его и сделать таким, каким ему быть не желательно, но зато — во вкусе презираемых им родителей. Это значит: Володя предполагает возможность своего «перевоспитания» и горько подсмеивается над ним. Другой раз, уже в доме дяди, Володя, вне себя, кричит в ответ ребятам, возмущенным его цинизмом: «Человека из меня сделать? Значит, я не человек? Хорошо!.. И вы будете из меня человека делать... По образу своему и подобию!.. Дорогая вы моя серость и посредственность!» Здесь опять-таки говорит Володя о своем возможном перевоспитаний, и оно ему отвратительно. Циничное отношение к перевоспитание вообще свойственно многим из тех, кого призвана перевоспитывать литература. Они далеко не наивны; некоторые уловки чересчур простодушных «перевоспитателей» вызывают у них насмешки; они часто активно сопротивляются своему перевоспитанию или, если нет иного выхода, притворяются перевоспитавшимися.
Представим себе такого читателя над литературным сценарием «А, Б, В, Г, Д...»
Одно то, что в сценарии изображено перевоспитание, такого читателя заденет мало, еще не послужит перевоспитанию такого читателя. Он — циник, он окажет: эка невидаль, в книжках, всегда перевоспитываются. Но «нигилистические» афоризмы Володи его заинтересуют. «А может быть, взорвать весь земной шар к чертовой матери!» — такая мыслишка придется по душе этакому цинику, поразит его воображение забубенным размахом.
Подлинно воспитующая сила повествования требует, чтобы изображение того, как перевоспитался Володя, производило неизмеримо большее эмоциональное и интеллектуальное впечатление, чем «красоты» его «нигилизма».
Как же обстоит тут дело? В каком отношении находится то «обламывание», которое горестно провидит в начале Володя, и то перевоспитание, которое далее показывает драматург? Те, кто в сценарии делают Володю человеком «по своему образу и подобию», насколько не похожи они на то, что презрительно третируется Володей как «дорогая моя серость и посредственность».
* * *
Очень важную роль в замысле драматурга играет молодой верхолаз Пальчиков. Володя и Сима встречаются с ним на дороге, когда бредут к большому строительству, чтобы наняться и подработать. Вскоре грузовик подвозит их. В пути возникают отрывочные, но душевные разговоры.
Чувствуется, фигура Пальчикова должна иметь как бы символическое значение. Это как бы «положительный» двойник «отрицательного» Володи. И Пальчикова зовут Владимир. И Пальчикову около девятнадцати. И Пальчиков из Москвы: в поисках романтики он «бежал» из дома три года назад. Между Володей и Пальчиковым перо драматурга устанавливает некую таинственную зависимость. Когда Володя нанимается на строительство и устраивается в общежитие, ему отводят пустующую койку; она долго будет не занята, человек в больнице. И вдруг Володя, увидев знакомую мандолину, понимает: это койка Пальчикова. И сразу приходит известие: Пальчиков упал с верха — работал без пояса и убился. И Володе говорят насчет койки: «Можете теперь постоянно». Странное положение, при котором Володя оказывается на постели только что ушедшего из жизни своего «двойника», вызывает, вероятно, вихрь мыслей и огромное нервное напряжение. Вероятно, в этих обстоятельствах Володя как-то совсем по-иному взглянул на себя. Однако драматург не передает нам его «внутренних монологов», но заставляет Володю разузнать, откуда упал Пальчиков, и ночью взобраться туда, на самый верх, и — главное из главного — тихо шептать: «Я могу упасть... Я могу упасть...» «Нигилист» опять же оказывается в ореоле.
Через несколько строк сценарий уже переходит к тому, как Володя и Сима покидают это строительство. Но короткий эпизод с Пальчиковым существен для понимания как замысла драматурга, так и того, как этот замысел воплотился.
Когда Володя с Пальчиковым ехали в грузовике, то две темы особенно выступили в их отрывочных речах.
Одна тема — о профессии верхолаза. «Жутко», - сказала Сима. А Пальчиков ответил: «А чего! Самое главное — не думать. Нам, когда я на курсах был, Максимыч говорил: „Когда работаешь, ни о чем, кроме работы, не мечтай. Самое, — говорит, — опасное — думать о том, что можешь упасть и убиться”».
И тут Володя говорит: «Я бы обязательно подумал». — «Зачем?» — спрашивает Сима. «Просто выяснить: смелый я или нет». Пальчиков не говорит на это ничего. Но в этот же день, в два часа, его смена. И тут же он падает и разбивается насмерть. И Володя внутренне убежден: это он погубил Пальчикова, спровоцировав его думать там, где думать нельзя. И, чтобы искупить свою вину, он и взбирается на самый верх и шепчет: «Я могу упасть». И — не падает, хотя и подумал.
Так противопоставлены «двойники». «Положительный», но не думающий Пальчиков; «отрицательный», но думающий Володя. Хотя Пальчиков говорит о недумании только на работе, наверху, но и во время поездки на грузовике он изображен драматургом не в особо интеллектуальных качествах. Пальчиков обаятелен, «душа нараспашку», «рубаха-парень». Он не дорожит деньгами. Он играет на мандолине и поет. Его все любят. Горе товарищей при вести о его гибели — одна из сильнейших страниц сценария. Тем не менее, вопреки замыслу самого же драматурга, Пальчиков — парень не думающий, и это особенно заметно в его разговорах с Володей.
Так, замечая унылый Володин вид, Пальчиков произносит: «Ничего, экипируешься, наешься — сразу мировоззрение переменится». А Володя сомневается в прямой зависимости мировоззрения от экипировки и сытости, замечая: «Я иногда бывал и сыт и одет...»
Пальчиков делится с Володей своими давнишними, полудетскими, но и теперь властными мечтами: «Я хотел в Африку. Посмотреть жирафов на воле... страусов... Читал, что они быстро бегают... и красиво, наверное. А? Может, еще и поеду, теперь многие ездят». А Володя отвечал: «В Африке теперь атомные бомбы испытывают — бегают твои страусы сломя голову, деться некуда».
Мечта посмотреть на жирафов и страусов, которые «быстро бегают», оказывается в сценарии единственным душевным сокровищем Пальчикова. В этой мечте он выступает как дитя, обаятельное, но не думающее.
А когда Володя стоит там, наверху, откуда упал Пальчиков, ему мерещится:
«В свисте ветра возникает музыка. И на фоне мчащихся туч бегут страусы по волнистым пескам пустыни. Нельзя понять — бегут они или плывут по воздуху... Мелькают пальмы и пирамиды, башни, минареты, караваны верблюдов, арабских всадников с копьями в руках..., все то, что может казаться детскому чистому воображению. И на всем этом — страусы бегут, бегут, бегут. Возникает смеющееся лицо Пальчикова, он смотрит на страусов, и смех его переходит, в детский восторг и ликование. Музыка нарастает, страусы бегут стремительнее. Восторг Пальчикова предельный. В музыке возникает гул летящего самолета, зловещий гул. Он нарастает стремительно. Мы видим летящую над пустыней и хижинами бомбу. Взрыв!!! Летящий откуда-то сверху вниз головой Пальчиков... Лицо его выражает скорее недоумение, чем ужас».
Кадры для кинофильма, безусловно, эффектнейшие. Но, однако, как читается эта символика?
Володе мерещатся, тут переживания Пальчикова в последние мгновения его жизни. Страусы и прочие экзотические картины — «все то, что может казаться детскому, чистому воображению» — обозначают невзрослое, бездумное счастье Пальчикова наверху, за работой. Но вдруг он вспоминает Володино «Я бы обязательно подумал». И — думает. О возможности падения. Но не только. Володя, как мы помним, еще и развенчал детскую африканскую экзотику, владевшую Пальчиковым, разъяснив, что в Африке «атомные бомбы испытывают». «Взрыв», возникающий в этом символическом видении, символизирует одновременно и крах детских бездумных иллюзий Пальчикова, и ужас внезапно явившейся мысли. Мысли о возможности падения, но и шире — о собственной до того наивности. Гибельность мысли для таких, как Пальчиков, символизируют эти кадры; иначе я затрудняюсь прочесть эту символику, тем более что в том же смысле она подтверждена и событиями сценария.
«Положительного двойника» Володи губит мысль; а сам Володя — «отрицательный», «нигилист» — проходит через многие испытания, ибо он, дескать, закален в мышлении.
В сценарии странным образом возникает знак равенства между «нигилизмом» и интеллектуальностью, потому что единственной интеллектуальной фигурой, по прочтению повествования, оказывается Володя.
Вот, в конце сценария, его берет к себе сталевар Павел подручным горнового. Подобно Пальчикову, и Павел изображен человеком обаятельным. И он не жаден до денег, щедр, заботлив, ласково опекает, прячась за грубоватое слово, новичка-подручного. Все это очень тонко передано драматургом. Единственное, чего не хватает Павлу, — интеллектуальности. Точнее сказать, не находит у него драматург способности мыслить о чем-либо выходящем за пределы своего конкретного труда.
Вникая в сценарий В. Розова, мы могли заметить довольно явственно что художественные достоинства — жизненная правдивость, впечатляющая сила изображения — чрезвычайно зависят от качеств писательского мышления.
Л-ра: Звезда. – 1962. – № 2. – С. 183-189.
Произведения
Критика