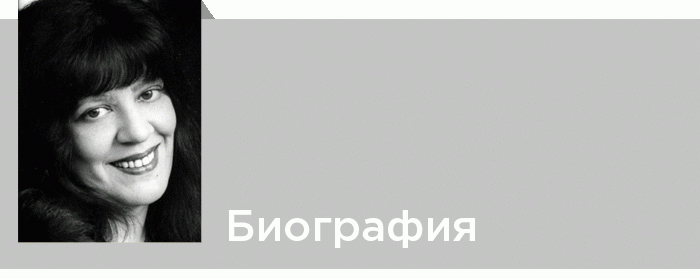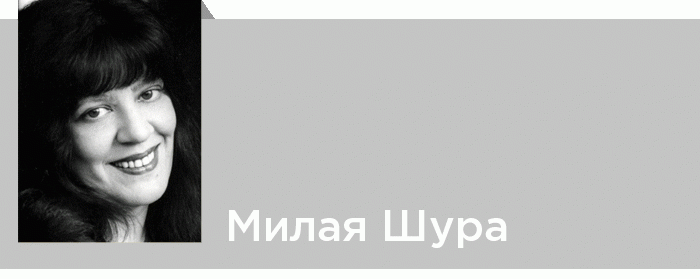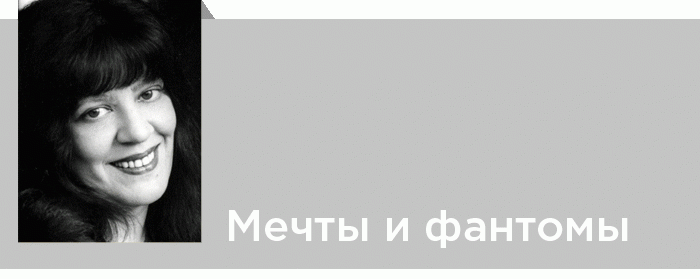Татьяна Толстая. Поэт и муза
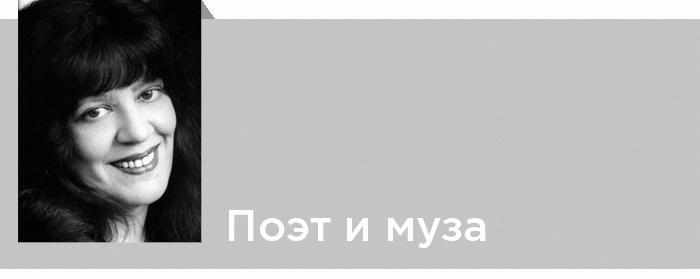
Нина была прекрасная, обычная женщина, врач и, безусловно, заслужила, как и все, свое право на личное счастье. Она это очень хорошо сознавала. К тридцати пяти годам после длительного периода невеселых проб и ошибок - не стоит о них говорить - она ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, изменами и прошениями, нужна такая звериная, знаете ли, страсть - черная ветреная ночь с огнями, чтобы пустяком показался классический женский подвиг стоптать семь пар железных сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов - и получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик - крошку с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца. Ну, естественно, очень многим женщинам нужно примерно то же самое, так что Нина была, как уже сказано, в этом смысле самая обычная женщина, прекрасная женщина, врач.
Побывала она замужем - все равно что отсидела долгий, скучный срок в кресле междугородного поезда и вышла усталая, разбитая, одолеваемая зевотой в беззвездную ночь чужого города, где ни одной близкой души.
Потом какое-то время пожила отшельницей, увлекалась мытьем и натиркой полов в своей чистенькой квартирке, поинтересовалась кройкой и шитьем и опять заскучала. Вяло тлел роман с дерматологом Аркадием Бо-рисычем, имевшим две семьи, не считая Нины. После работы она заходила за ним в его кабинет никакой романтики: уборщица вытряхивает урны, шваркает мокрой шваброй по линолеуму, а Аркадий Борисыч долго моет руки, трет щеточкой, подозрительно осматривает свои розовые ногти и с отвращением смотрит на себя в зеркало. Стоит, розовый, сытый, тугой, яйцевидный, Нину не замечает, а она уже в пальто на пороге. Потом высунет Треугольный язык и вертит его так и сяк - боится заразы. Тоже мне Финист Ясный Сокол! Какие такие страсти могли у нее быть с Аркадием Борисычем - никаких,конечно.
А она заслужила право на счастье, она имела все основания занять очередь туда, где его выдают: лицо у нее было белое и красивое, брови широкие, черные гладкие волосы низко начинались на висках, и сзади - пучок. И глаза были черные, так что мужчины в транспорте принимали ее за молдаванку, и даже как-то привязался к ней в метро, в переходе на "Кировской", человек, уверявший, что он скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать, якобы для головки гурии, срочно: у него глина сохнет. Конечно, она не пошла по естественному недоверию к лицам творческих профессий, так как у нее уже был печальный опыт, когда она согласилась выпить кофе с одним будто бы кинорежиссером и еле унесла ноги,- большая такая была квартира с китайскими вазами и косым потолком в старом доме.
... А времечко-то бежало, и при мысли о том, что у нас в стране примерно сто двадцать пять миллионов мужчин, а ей судьба отслюнила от своих шедрот всего лишь Аркадия Борисыча, Нине иногда становилось не по себе. Можно было бы найти другого, но кто попало ей тоже был не нужен. Душа-то у нее с годами становилась все богаче, и саму себя она понимала и чувствовала все тоньше, все больше жалела себя осенними вечерами: некому себя преподнести, такую стройную, такую чернобровую.
Иногда она заходила в гости к какой-нибудь замужней подруге и, одарив чужого ушастого ребенка шоколадом, купленным в ближайшей булочной, пила чай, долго говорила, все поглядывая на себя в темное стекло кухонной двери, где ее отражение было еще загадочнее, еще выигрышнее и выгодно отличалось от расплывшегося силуэта приятельницы. И было бы просто справедливо, чтобы ее кто-нибудь воспел. Выслушав наконец и подругу - что куплено, да что пригорело, и чем болел ушастый ребенок, рассмотрев чужого стандартного мужа - лоб с залысинами, тренировочные штаны, растянутые на коленках, нет, такой не нужен,уходила, разочарованная, уносила себя, изящную, за дверь, и на площадку, и вниз по лестнице, в освежающую ночь - не те люди, зря приходила, напрасно преподнесла себя и оставила в тусклой кухне свой душистый отпечаток, напрасно скормила изысканный, с горчинкой шоколад чужому ребенку, только сожрал, и измазался, и не оценил, вот пусть-ка его засыплет с ног до головы диатезом. Зевала.
А потом была эпидемия японского гриппа, когда всех врачей сняли с участков на вызовы, и Аркадий Борисыч тоже ходил, надев марлевый намордник и резиновые перчатки, чтобы вирус не прицепился, но не уберегся, слег, и его больные достались Нине. Тут-то, как выяснилось, ее и подстерегала судьба, лежавшая в лице Гриши на топчане, под вязаными одеялами, бородой кверху и в полном беспамятстве. Тут-то оно все и случилось. Полугруп немедленно похитил Нинино заждавшееся сердце; скорбные тени на его фарфоровом челе, тьма в запавших глазницах, нежная борода, прозрачная, как весенний лес, сложились в волшебную декорацию, незримые скрипки сыграли свадебный вальс -Ловушка захлопнулась. Ну все знают, как это обычно бывает.
Над умирающим заламывала руки омерзительно красивая женщина с трагически распущенными волосами (потом, правда, оказалось, что ничего особенного, всего лишь Агния, школьная подруга Гришуни, неудавшаяся актриса, немножко поет под гитару, ерунда, не с той стороны грозила опасность) - да, да, она вызывала врача, спасите! Она, знаете ли, зашла случайно, ведь дверей он не запирает и никогда не зовет на помощь, Гриша, дворник, поэт, гений, святой! И вот... Нина отклеила взгляд от демонически прекрасного дворника, осмотрела комнату большая зала, пивные бутылки под столом, пыльная лепнина на потолке, синеватый свет сугробов из окошек, праздный камин, забитый хламом и ветошью.
- Он поэт, поэт, он работает дворником за жилплощадь,- бормотала Агния.
Нина выгнала Агнию, сняла сумку, повесила на гвоздь, бережно взяла из Гришуниных рук свое сердце и прибила его гвоздями к изголовью постели. Гришуня бредил в рифму. Аркадий Борисыч растаял, как сахар в горячем чае. Тернистый путь был открыт.
Вновь обретя слух и зрение, Гришуня узнал, что счастливая Нина останется с ним до гробовой доски; вначале он немного удивился и хотел отсрочить наступление нечаянного счастья или, если уж это нельзя, - приблизить встречу с доской, но после по мягкости характера стал покладистее, только просил не разлучать его с друзьями. Временно, пока он не окреп, Нина пошла ему навстречу. Конечно же, это была ошибка: он быстро встал на ноги и снова втянулся в бессмысленное общение со всей этой бесконечной оравой: тут были и какие-то молодые люди неопределенных занятий, и старик с гитарой, и поэты-девятиклассники, и актеры, оказывавшиеся шоферами, и шоферы, оказывавшиеся актерами, и одна демобилизованная балерина, говорившая: "Ой, я еще позову наших",- и дамы в бриллиантах, и непризнанные ювелиры, и ничьи девушки с запросами в глазах, и философы-недоучки, и дьякон из Новороссийска, всегда привозивший чемодан соленой рыбы, и подзадержавшийся в Москве тунгус, боявшийся испортить себе пищеварение столичной пишей и евший только свое какой-то жир пальцем из баночки.
Все они - сегодня одни, а завтра другие - набивались вечерами в дворницкую; трехэтажный флигелек трешал, приходили жильцы верхних этажей, бренчали на гитаре, пели, читали свои и чужие стихи, но в основном слушали хозяйские. Гришуня у них считался гением, уже много лет вот-вот должен был выйти его сборник, но мешал какой-то зловредный Макуш-кин, от которого все зависело, Макушкин, поклявшийся, что, мол, только через его труп. Кляли Макушкина, превозносили Гришу, женщины просили читать еще, еще, Гриша смущался и читал - густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм. "Э-э-э-э-э",- качал головой тунгус, ни слова, кажется, не понимавший по-русски. "Что, ему не нравится?" - тихо спрашивали гости. "Нет, кажется, это у них похвала",- мотала волосами Агния, боявшаяся, что тунгус ее сглазит. Гости засматривались на Агнию и приглашали ее продолжить вечер в другом месте.
Естественно, все это обилие народу было Нине неприятно. Но самое неприятное было то, что каждый Божий день, когда ни забежишь - днем ли, вечером ли после дежурства,- в дворницкой сидело, пило чай и откровенно любовалось Гришиной мягкой бородой убогое существо не толще вилки - черная юбка до пят, пластмассовый гребень в тусклых волосах - некто Лизавета. Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой тлей быть не могло. Посмотреть только, как она, выпростав из рукава красную костлявую руку, неуверенно тянулась за каменным, сто лет провалявшимся пряником - будто ждала, что ее сейчас стукнут, а пряник отберут. И щек у нее было меньше, чем требуется человеку, и челюстей больше, и нос хрящеватый, и вообще было в ней что-то от рыбы - черной, тусклой глубоководной рыбы, ползающей по дну в непроглядном мраке и не смеющей подняться выше, в светлые солнечные слои, где резвятся лазурные и алые породы жителей отмелей.
Нет, какой уж тут роман. Но Гришуня, блаженненький, смотрел на этот человеческий остов с удовольствием, читал ей стихи, подвывая и приседая на рифмах, и после, сам расчувствовавшись от собственного творчества, сильно, со слезой мигал и отворачивался, поглядывая на потолок, чтобы слезы втекли обратно, а Лизавета трясла головой, изображая потрясение всего организма, сморкалась и имитировала детские прерывистые вздохи, будто тоже после обильных рыданий.
Нет, это Нине было крайне неприятно. От Лизаветы нужно было избавляться. А Гришуне нравилось это наглое поклонение; да ему, неразборчивому, все нравилось на этом свете: и утреннее махание лопатой по рыхлому снежку, и житье в зале с камином, заваленным трухой, и то, что первый этаж и дверь отворена - заходи любой, и толчея, и шастанье туда-сюда, и лужа от натекшего снега в сенях, и все эти девочки и мальчики, актеры и старики, и бесхозная Агния, добрейшее якобы существо, и неизвестно зачем приходящий тунгус, и все эти юродивые, признанные и непризнанные, гении и отверженные, и обглоданная Лизавета, и для круглого счета - заодно и Нина.
У посетителей флигелька Лизавета считалась художницей, и действительно, ее выставляли на второсортных выставках, а Гришуня вдохновлялся ее темной мазней и сочинил соответствующий цикл стихов. Чтобы изготовить свои полотна, Лизавета, как африканский колдун, должна была привести себя в необузданную ярость, и тогда в ее тусклых глазах зажигался огонь, и с криками, хрипами, с каким-то грязным гневом она накидывалась и месила кулаками на холсте голубые, черные, желтые краски и тут же расцарапывала ногтями непросохшую масляную кашу. Направление называлось - когтизм, страшное было зрелище. Правда, получались какие-то подводные растения, звезды, висящие в небе замки, что-то ползучее и летучее одновременно.
"А почему нельзя спокойнее?" - шептала Гришуне Нина, наблюдавшая как-то сеанс когтизма. "Ну вот, стало быть, нельзя,- шептал дорогой Гришуня, дыша сладкими ирисками,- это вдохновение, это дух, что ты поделаешь, он же бродит где хочет". И глаза его светились лаской и почтением к бесноватой пачкунье.
Лизаветины костлявые руки расцветали язвами от ядовитых красок, и такими же язвами покрывалось Нинино ревнивое сердце, прибитое гвоздями над Гришиным изголовьем. Не хотела она пользоваться Гришей на общих основаниях; ей и только ей должны были принадлежать голубые очи и прозрачная борода красавца дворника. О, если бы она могла стать не случайной, зыбкой подругой, а полновластной хозяйкой, положить Гришуню в сундук, пересыпать нафталином, укрыть холщовой тряпочкой, захлопнуть крышку и усесться сверху, подергивая замки: прочны ли?
О, тогда - все что угодно, тогда пусть Лизавета. Пусть она живет и коптит свои картины, пусть хоть зубами их грызет, хоть на голову встанет и так и стоит нервным столбом, принаряженная, с оранжевым бантом в тусклых волосах, на ежегодных выставках у своих варварских полотен, краснорукая, краснолицая, вспотевшая и готовая заплакать от обиды или счастья, пока в углу на шатком столике, прикрывшись ладошками от любопытных, граждане пишут в богатый красный фолиант неизвестный до поры отзыв: может быть, "безобразие", или "великолепно", или "куда смотрит администрация", или же что-нибудь слюнявое, вычурное за подписью группы провинциальных библиотекарш - как их якобы пронзило насквозь святое и вечное искусство.
О, вырвать Гришу из тлетворной среды, обчистить с него прилипших, как ракушки к днишу корабля,посторонних женщин, вытащить из бурного моря, перевернуть, просмолить, проконопатить, водрузить на подпорки в тихое, спокойное место!
А он, беспечный, готовый повиснуть на шее у любой уличной собаки, пригреть любого антисанитарного бродягу, тратил себя на толпу, разбрасывал себя пригоршнями; простая душа, брал авоську, нагружал ее простоквашей и сметаной и шел навещать заболевшую Лизавету, и приходилось идти с ним, и, Боже мой, что за берлога, что за комната, желтая, жуткая, заросшая грязью, слепая, без окон! И еле различимая на железной койке под военным одеялом Лизавета, блаженно наполняющая черный рот белой сметаной, и Лизаветина испуганная, толстая, непохожая дочь над школьными тетрадками.
"Ну как ты тут вообще?" - спрашивал Гришуня. И Лизавета шевелилась у желтой стены: "Ничего". "Тебе нужно что-нибудь?" - навязывался Гришуня. И железная койка скрипела: "Настя все сделает". "Ну, учись",- топтался поэт, гладя толстую Настю по голове, и пятился в коридор, а обессиленная Лизавета уже спала.
"Нам бы надо с ней, это... объединиться,- неопределенно показывал руками Гришуня и отводил глаза. - Видишь, какие трудности с жильем. Она из Тотьмы, снимает чулан, а ведь какой талант, а? И дочка у нее очень к искусству тянется. Она лепит хорошо, а кто ее в Тотьме учить будет". "Мы с тобой женимся, я твоя",- строго напомнила Нина. "Да, конечно, я забыл", - извинился Гришуня. Мягкий был человек, только дурь в голове.
Уничтожить Лизавету было так же трудно, как перерезать яблочного червя-проволочника. Когда ее пришли штрафовать за нарушение паспортного режима, она уже ютилась в другом месте, и Нина посылала отряды туда. Лизавета пряталась в подвалах - Нина затопляла подвалы; она ночевала в сараях - Нина сносила сараи; наконец Лизавета сошла на нет и стала тенью.
Семь пар железных сапог истоптала Нина по паспортным столам и отделениям милиции, семь железных посохов изломала о Лизаветину спину, семь кило железных пряников изгрызла в ненавистной дворницкой - надо было играть свадьбу.
Уже редела пестрая компания, уже приятная тишина стояла вечерами во флигеле, уже с уважением стучал в дверь случайный смельчак и тщательно, сразу жалея, что пришел, вытирал ноги под Нининым взглядом. Недолго оставалось Гришуне уродоваться с лопатой и зарывать свой талант в сугробы, он переезжал к Нине, где его ждал прочный, просторный письменный стол, покрытый оргстеклом, слева на столе - вазочка с двумя прутиками вербы, справа - в рамке с откляченным хвостом улыбалась Нинина фотокарточка, так сказать, "твое лицо в его простой оправе". И улыбка ее обещала, что все будет хорошо, сытно, тепло и чисто, что Нина сама сходит к товарищу Макушкину, чтобы решить наконец затянувшийся вопрос со сборником, она попросит товарища Макушкина внимательно просмотреть материалы, дать советы, кое-что подправить, нарезать вязкий торт Гришиного творчества на съедобные порционные пирожные.
Нина разрешила Гришуне в последний раз проститься с друзьями, и на прощальный ужин повалили неисчислимые полчища - девочки и уроды, старики и ювелиры, и пришли, выворачивая Ноги, трое балетных юношей с женскими очами, и приполз хромой на костылях, привели слепого, и мелькнула тень Лизаветы, почти уже бесплотная, а толпа все прибывала, жужжала и неслась, как мусор из пылесоса, пушенного в обратную сторону, и расползались какие-то бородачи, и стены флигеля раздвигались под людским напором, и были крики, плач и кликушество. Били посуду. Балетные юноши уволокли истерическую Агнию, прищемив ей волосы в дверях, тень Лизаветы изгрызла себе руки и валялась на полу, требуя, чтобы ее затоптали,- просьбу уважили; дьякон увел тунгуса в уголок и расспрашивал его знаками, какая у них вера, и тунгус отвечал, тоже знаками, что вера у них самая хорошая.
А Гриша бился фарфоровым лбом об стену и кричал, что ладно, он умрет, но после смерти, вот увидите,- снова вернется к друзьям и уже больше никогда с ними не расстанется.
И дьякон не одобрял такие речи. И Нина тоже не одобряла.
А к утру вся нечисть сгинула, и Нина, уложив Гришуню в такси, отвезла его в свой хрустальный дворец.
... Ах, знаете, некому написать портрет любимого человека, когда он, протирая заспанные голубые очи и выпростав из-под одеяла молодую мохнатую ногу, зевает во всю ширь! И смотришь на него как завороженная, и все-то в нем твое, твое: и изъян в зубном ряду, и проплешина, и чудесная бородавка!
И чувствуешь себя королевой, и люди расступаются на улице, и коллеги почтительно кивают, и Аркадий Борисыч вежливо подает руку, обернутую в стерильную бумажку.
Хорошо было врачевать доверчивых больных, хорошо нести домой полные сумки вкуснятины, хорошо было вечером проверять, как заботливая сестра, что написал Гришуня за день.
Только вот слабенький он был, много плакал, и не хотел кушать, и не хотел писать ровненько на чистой бумаге, а все подбирал по старой привычке клочки да сигаретные коробки и чертил каракульки, а то просто рисовал загогулины и закорючки. И сочинял про желтую-желтую дорогу, все про желтую дорогу, а над дорогой - белая звезда. Нина качала головой: "Подумай, солнышко, такие стихи нельзя нести товарищу Макушкину, а ты должен думать о сборнике, мы живем в реальном мире". Но он не слушал и все писал про звезду и дорогу, и Нина кричала: "Ты меня понял, солнышко?! Не смей такое сочинять!" И он пугался и дергал головой, и Нина, смягчившись, говорила: "Ну-ну-ну" - и, уложив его в постель, поила мятой и липой, поила адонисом и пустырником, а он, неблагодарный, плакал без слез и придумывал оскорбительные для Нины стихи о том, что пустырник, мол, пророс в его сердце, и заглох его сад, и выжжены леса, и какой-то ворон склевывает, дескать, последнюю звезду с умолкшего небосклона, и будто он, Гришуня, в какой-то неопределенной избе толкает и толкает примерзшую дверь, но не выйти, и только стук красных каблуков вдалеке... "Чьи же это каблуки? - потрясла Нина листком. - Вот просто интересно знать: чьи это каблуки?!" "Ничего ты не понимаешь",- вырывал бумагу Гришуня. "Нет, я все прекрасно понимаю,- с горечью отвечала Нина,- я просто хочу знать, чьи это каблуки и где они стучат?" "А-а-а-а-а!!! 'Да они у меня в голове стучат!!!" - орал Гришуня, накрываясь одеялом с головой, а Нина шла в уборную, рвала стихи и обрушивала их в водяную преисподнюю, в маленькую домашнюю Ниагару.
Раз в неделю она проверяла его письменный стол и выбрасывала те стихи, которые женатому человеку сочинять неприлично. И порой ночью она поднимала его на допрос: пишет ли он для товарища Макушкина или отлынивает? И он закрывался руками, не в силах вынести яркого света ее беспощадной правды.
Так они худо-бедно прожили два года, но он, хотя и окруженный всяческой заботой, не ценил ее любви и совсем перестал стараться. Бродил по квартире и бормотал, бормотал, что вот он умрет, и завалят его землей, глиняными кладбищенскими пластами, и мелкое золото березовых копеечек милостыней осыплется на могильный холм, и сгниет под осенними дождями деревянный крест или фанерная пирамидка - что уж там не жалко будет над ним поставить,- и все-то его позабудут, и никто не придет, только праздный прохожий минутку помучается, вычитая четырехзначные числа,- он сбивался со стихов на тяжкий, сырой, как еловые дрова, верлибр или на ритмичную, заунывную прозу, и вместо чистого пламени из злокачественных строк валил такой белый удушливый дым, что Нина надсадно кашляла, махала руками и кричала, задыхаясь: "Да прекрати же ты сочинять!!!"
Потом добрые люди рассказали ей, что Гришуня хочет вернуться во флигель, что он ходил к новой, взятой на его место дворничихе - толстой бабе - и торговался с ней, за сколько она уступит ему его прежнюю жизнь, и баба вступила в переговоры. У Нины были связи в горздраве, и она намекнула там, что вот прекрасное трехэтажное здание в центре, можно занять под учреждение, они же как раз искали. Они благодарили ее там, в горздраве, им это подходило, и очень скоро дворницкой не стало, камин сломали, и один из медицинских институтов разместил во флигеле свои кафедры.
Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся и себя ощупывал. "Что это ты такой веселый?" - допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт,-где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом "Захоронению не подлежит". "Что это такое?" - испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты - веселый народ - будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать, но только пусть она учтет, что отныне она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек.
И вот с этого момента, говорила потом Нина, любовь их как-то пошла наперекосяк, потому что не могла же она пылать полноценной страстью к общественному достоянию и целовать академический инвентарь. Ничто в нем больше ей не принадлежало.
И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно, заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни,женщина, боровшаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?
Но несмотря на все горе, что он ей причинил, все-таки у нее осталось, говорила она, очень светлое чувство. А если любовь получилась не такая, как мечталось, то уж не Нина в том виновата. Виновата жизнь.
И после его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И когда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие, и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми.
И еще Нина говорила, что сначала очень расстраивалась из-за всего, но потом ничего, успокоилась, после того как одна женшина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками - ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят.
Произведения
Критика