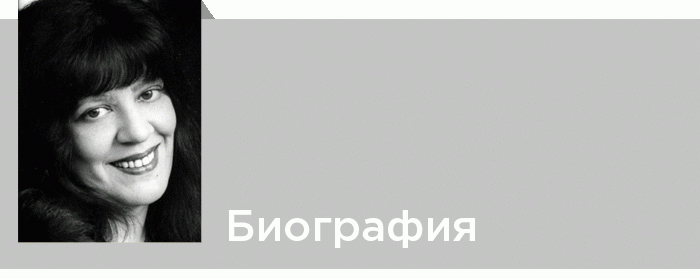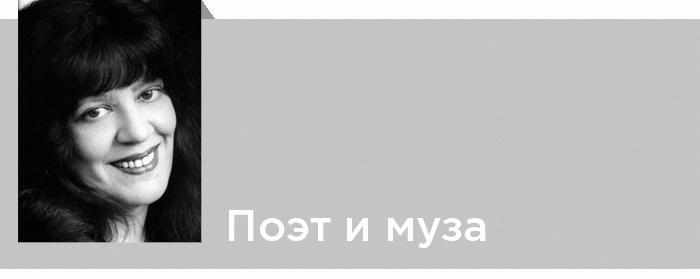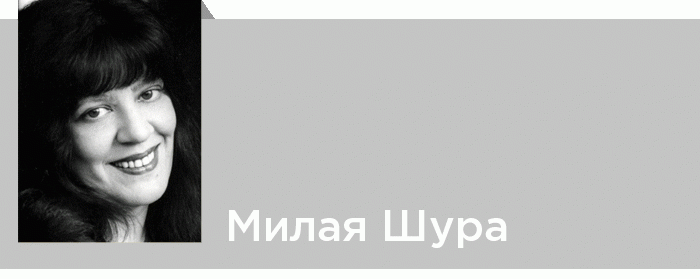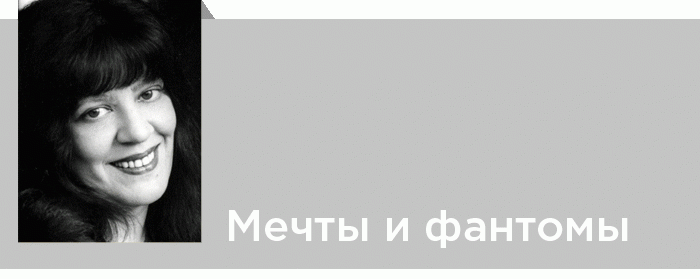Во сне и наяву

П. Спивак
У Татьяны Толстой, недавно выпустившей свою первую книжку, как будто и не было периода литературного ученичества. Первые ее рассказы появились в журналах четыре года назад.
Надо иметь зоркий и приметливый глаз, чтобы написать: «Колесики лимона — будто разломали маленький желтый велосипед». Надо обладать умным и чутким воображением, чтобы сказать, что «перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения — черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города».
Детство шелестит листвой чудесного сада, сверкает всеми цветами радуги в рассказе, давшем название сборнику. Но мысль, проникая сквозь эту похожую на дивный сон картину, прозревает явь, реальность, которая захвачена каким-то потаенным грозным движением. Воссозданная памятью и воображением автора декорация куда-то движется, плывет. Именно плывет, словно погруженная в некую текучую среду. Т. Толстая недаром настойчиво повторяет этот глагол: плывет потолок, плывет мансарда, плывут крыша, флюгер, луна — «через сад, через сон». И догадываешься вдруг, что это ведь жизнь движется, это само время плывет сквозь сад и старую дачу — и вот уже скоро придет последний час жизни тихого соседа-бухгалтера дяди Паши. Да и чудесные вещи, запомнившиеся с детства, — тлен, рухлядь, не более. «Что же, вот этой было тем, пленявшим?.. Как глупо ты шутишь, жизнь!» На смену детскому мироощущению приходит знание крутого норова жизни — и тогда работой мысли, усилием памяти прошлое и настоящее сливаются, проецируются друг на друга, открываются одно в другом.
Это постоянное смещение и сближение временных планов чрезвычайно характерно для Т. Толстой. Оно может возникать как своего рода «ускоренная съемка»: «тихо старея, пройдет по дому» героиня одного из рассказов, но чаще — как просвечивание одного времени другим, когда граница, отделяющая прошлое от настоящего, кажется легко проницаемой. В одном из лучших рассказов писательницы — «Соня» — возникает некая компания в освещенной солнцем комнате, и видение это появляется и исчезает, а рассказ заполняется голосами, и в их нестройном шуме автор ищет гармонию, которая слышится, как сказал Б. Окуджава, «сквозь смех наш короткий и плач».
С недоуменного вопроса: в чем смысл? — и начинается рассказ: «Жил человек — и нет его. Только имя осталось — Соня». Имя, надо сказать, на редкость точное. Соня она и есть, живет как во сне, заторможенная какая-то, романтически-сентиментальная старая дева, о внешности которой лаконично сказано: «Достоинство всех английских королев, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты». К тому же — редкостная дура. И о ней — через полвека?
А ведь в одной компании с Соней «столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи книги, монографии по искусству». Соня рядом с ними — мишень для острот, объект розыгрышей — таких, как пылкие любовные, письма, сочиненные «этой змеей» Адой от имени вымышленного Николая и принятые Соней, разумеется, всерьез...
Написано все это с той мерой юмора, живости и свободы, что в рассказе совершенно не чувствуется «конструкция»: перед нами кусок жизни, где бытовой анекдот обрывается самопожертвованием Сони ради спасения Николая в блокадном городе. И Соня, персонаж анекдота, оказывается трагической героиней, действующим лицом истории.
И вот что интересно: Соня в рассказе не только возвеличена, но — и, что очень важно, не где-то «в другом месте», а одновременно — высмеяна. Ирония у Т. Толстой — не просто способ избежать патетики, не броня, защищающая сокровенное и висящая на нем мертвым грузом, а, как и острота восприятия, — необходимая черта художественного, то есть самого естественного и человечного, видения жизни.
Критике все это, к сожалению, дало повод для кривотолков. Так, М. Золотоносов, автор рецензии в «Литературном обозрении» (1987, № 4), нашел, что «пока еще Т. Толстая слишком «внутри» своих рассказов, слишком близко к героям» и потому якобы уходит от этических оценок, сосредоточиваясь на... своих собственных творческих проблемах. К подобным же выводам приходят критики, высказывающие упреки, казалось бы, обратного свойства — в чрезмерной отстраненности от героев, в том, что, дескать, в рассказах Т. Толстой человека не любят, а изучают, — упреки, сопровождаемые обычно сетованиями на грозящее нам будто бы горе от ума, на то, что ум наш стал куда проворнее доброты, и т. д. Между тем для самой Толстой такое противопоставление (откуда оно взялось — вопрос особый) попросту немыслимо: глупость бывает безобидной, даже трогательной (как у Сони), но зло и жестокость не могут быть ничем обоснованными. И в этой неповрежденной целостности гуманистического взгляда на жизнь состоит, на мой взгляд, одна из особенностей ее таланта.
Т. Толстая далека от мысли, что мир, так сказать, всегда и во всем разумен, она протестует против романтической иллюзии, будто жизнь безусловно прекрасна. Для нее даже детские слезы над тарелкой каши — не минутный каприз, а горькая печаль беззащитности перед жизнью: «Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд — а слов не дал...» («Любишь — не любишь»).
С этим перекликается явственно различимый, например, в рассказе «Факир» образный мотив морозной тьмы окраин, тягучей тоски пустынных просторов, где супруги Юра и Галя готовы чуть ли не волками выть в своем доме у кольцевой дороги. Их и в самом деле жаль. Но сотворить себе кумира и восхищаться им только за то, что он живет не на краю Москвы в блочном доме, а в высотном дворце в центре города? Тут уж не об одной бытовой неустроенности идет речь, но об определенном уровне представлений о том, чем мерится достоинство человека, его счастье и несчастье...
Беда многих героев Т. Толстой, самая суть их «сна» как раз в том, что они не замечают дара самой жизни, ждут или ищут счастья где-то вне яви, а жизнь тем временем проходит. Доверчиво ждал счастья Петерс из одноименного рассказа — взрослый ребенок, человечек с оставшимся с детства нелепым именем, чем-то похожий на чеховского Беликова, но без беликовской злокачественности, — а жизнь смеялась над ним. На первый взгляд перед нами просто история неудачных попыток героя найти себе спутницу жизни. Но то тут, то там по ходу повествования словно срабатывают сигнальные звоночки, предупреждающие: рассказ-то не о том.
Эта вроде бы совершенно невзначай сказанная фраза о ледоходе на Неве в день похорон бабушки Петерса, эти весенние и зимние набережные, реки, каналы, эти ветры и дождевые потоки... Весь рассказ идет как бы под аккомпанемент неуклонного всеобщего ритма — смены времен года, навевающих герою то отчаяние, то новую надежду. После очередного разочарования Петерс окончательно впал в какую-то спячку: теперь он «жил сквозь сон», пока не пришло наконец к нему пробуждение. Жизнь торжествует над сонным мороком, но голос автора насмешливо-печален. Вот Петерс несет из магазина «холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли», — это ведь и о нем самом сказано, и аналогия продолжает разворачиваться: Петерс разделывает цыпленка, «чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями...» И в этом сопряжении будней героя с потоком вселенского времени, с природным круговоротом непоправимость незадавшейся жизни осознается с особенной остротой.
Большинство героев Т. Толстой могут показаться сборищем психологических курьезов. Эти взрослые по сути дети: Соня, Петерс, доживающая свои дни Александра Эрнестовна из рассказа «Милая Шура», слабоумный Алексей Петрович из недавно опубликованного рассказа «Ночь». Но ведь детское (как и художническое) — это всеобщее, сущностно-человеческое, и потому драма беззащитности, беспомощности, переживаемая ими, есть лишь заострение общечеловеческой проблемы. Этим-то они и дороги писательнице; самодовольного «ну, мы-то совсем другие» тут нет и быть не может.
Именно поэтому Т. Толстая напряженно ищет адекватную форму отношений человека с реальностью. В этом она видит коренную проблему нашего существования, проблему, которая не терпит упрощенного к себе отношения. Именно поэтому, смею предположить, к числу своих неудач она относит рассказ «Чистый лист», где эта проблема как бы «выпарена» в условном эксперименте с элементарным и заранее очевидным результатом. Здесь Т. Толстая вступает со своими героями в какие-то другие отношения, более поверхностные, что ли, сбивается на фельетон.
Этот упрек отчасти можно адресовать даже одному из лучших рассказов писательницы — «Самая любимая». Заграничные родственники, чья черствость стала причиной смерти героини рассказа Женечки, вероятно, неожиданно для самого автора как бы иллюстрируют ходячие представления о западном прагматизме. Драматичная сложность человеческих отношений, которые так тонко, с таким щемящим лиризмом рисует Т. Толстая на протяжении рассказа, сменяется в конце вдруг плоским обличительством, которое явно «отслаивается» от всего предыдущего текста.
О Т. Толстой сейчас много спорят. У нее уже не только знаменитая и обязывающая «литературная» фамилия, но — литературное имя, которое упоминают в одном ряду с именами лучших писателей старших поколений. Это не насильственное уравнивание, а признание родства по крови: сформировавшаяся в глуше время, Т. Толстая с ее ясным разумом и свободой от духовной спячки взросла на их поле. И эта преемственность внушает надежду.
Л-ра: Октябрь. – 1988. – № 2. – С. 201-203.
Произведения
Критика