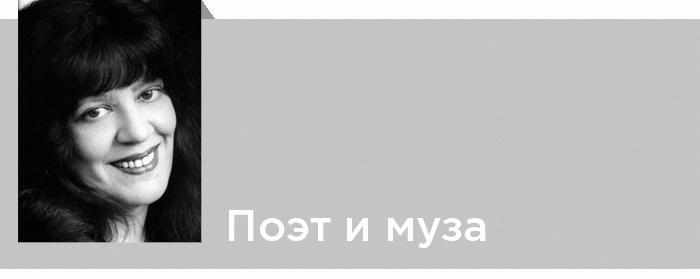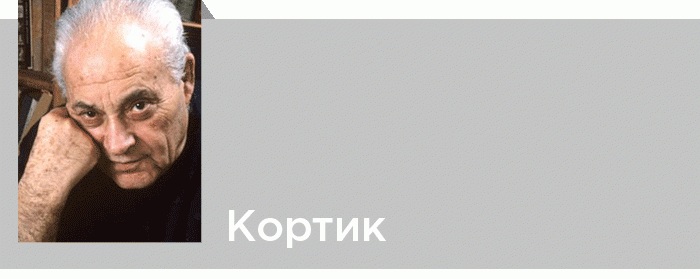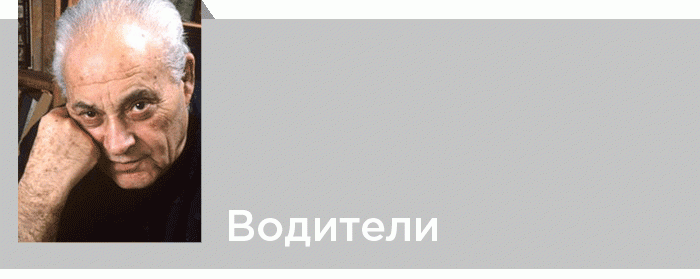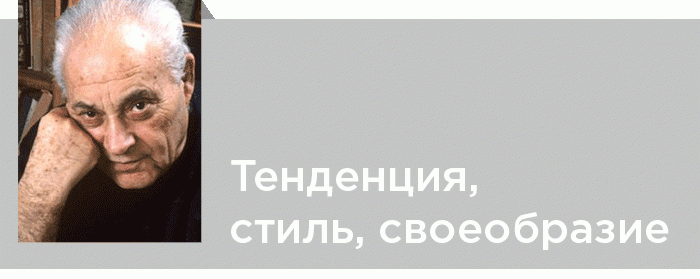Почва. Воздух. Судьба
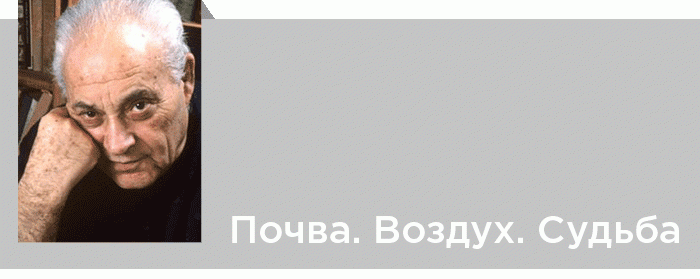
Л. Аннинский
...один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится...
Ф. Достоевский
Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно в конце концов рухнуть...
Шолом-Алейхем
...и дышат почва и судьба.
Б. Пастернак
Читатель, знающий историю этих трех высказываний, может, конечно, принять соединение их за игру: слишком разными людьми произнесено, в слишком разных условиях, со слишком разными целями.
Однако читатель, знающий современное состояние нашей литературы, поймет смысл такого сопоставления. Слова, обозначавшие в свой час творческую задачу того или иного художника, могут отделиться от своего часа и от своей ситуации. Они могут зажить новой жизнью, символизируя процессы и ценности иной эпохи и иной реальности. Я вспоминаю их не затем, чтобы уйти в толщу времени, их породившего, а затем, чтобы понять происходящее сейчас — с нами, в нашей духовной реальности, в нашей литературе.
Это тем более интересно, что слова обладают огромной автономностью: огромной свободой и огромной инерцией. Говоря «почва», я имею в виду отнюдь не то, что сто двадцать лет назад вынашивалось в редакции одного недолгого санкт-петербургского журнала, и говоря «воздух» — отнюдь не то, что было сказано семьдесят лет назад о гешефтмахере из Касриловки. Я имею в виду то духовное содержание, которое накопили в этих словах прошедшие с тех пор времена, и прежде всего наше время. Хотя, конечно, след старых судеб в эти слова впечатай. Так ведь и новые слова, сегодня сказанные, не вполне точно выявляют содержание вынашиваемых сегодня ценностей и отнюдь не исчерпывают их нынешнего объема.
Мы обозначаем те или иные реалии современного литературного процесса, имея в виду и фундаментальные ценности, за ними сокрытые и их определяющие. Только вот сами эти ценности не так просто определить. Может быть, потому, что фундаментальное в глубину беспредельно. Говоря «почва» или «воздух», я не определяю предмет. Скорее я обозначаю неопределимость его в терминах литературного обихода, в образах литературной сцены. Поэт всегда скажет об этом лучше теоретика: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство...»
Может быть, поэтому мне не хочется далее углубляться в общие рассуждения о том, что такое почва — опора для современного человека и какой ценой эта опора ему дается. Я попытаюсь показать это на конкретном примере. На примере писателя, который никогда не являлся певцом деревни, поэтом земли и почвы и много лет работал на материале, лишенном яркой национальной окраски. Что же до производственных романов, которые выходили у этого автора, то они как бы отделялись от прочих (и лучших) его повестей некими цеховыми перегородками: это про шоферов, а это про речников... — пока не наступил в его судьбе момент, когда все эти жанрово-тематические перегородки пали. Они вообще построены на песке, эти литературные стенки. Впрочем, до песка тоже еще надо дострадаться.
Читатель понял, о ком пойдет речь — об Анатолии Рыбакове. Сочинения его, собранные в четыре тома и выпущенные сейчас издательством «Советская Россия», позволяют кое-что связать в его творчестве. А главное — связать и соединить его судьбу с кардинальными процессами нашей литературы. С почвой, на которой растем, с воздухом, которым дышим.
Конечно, странно сейчас перечитывать ранние рыбаковские повести. Даже и «Кортик» знаменитый, в детскую классику вписанный, несколькими поколениями школяров хрестоматийно усвоенный. Не то чтобы устарело, нет, в прозе Рыбакова есть какой-то прочный, жесткий каркас, который не поддается ржавчине времени. Но это именно каркас, скелет. Ткань-то, конечно, стареет, и в том же «Кортике» на теперешний читательский взгляд предостаточно прописей своего времени. Видно, как в декорации 1923 года вписан положительный герой 1948-го — Тимур среди монстров нэпа; да еще сквозь крепкие линии детективного сюжета — попутные уроки пионерской морали; да еще популярные лекции на интересные темы из «кортиковедения», из истории российского флота, из истории литейного дела. Как чтение для подростков не стареет. И теперь читается легко. Я про другое: странно читать все это после «Тяжелого песка». После кровавой каши, где накрывает людей какая-то слепая, «статистическая», безглазая гибель. После хаоса гетто. После гекатомб, когда безымянно ложатся в яму тысячи. После всего этого ясная, четкая, прозрачно разгадываемая каллиграфия «Кортика» — штрих по розовому фону, все сходится, все следует одно из другого, все объясняется... Логика!
Рыбаков, кстати, потому и покорил читателей при счастливом своем дебюте в 1948 году, что вернул подростковой литературе, несколько разрыхлевшей от благостной нравоучительности конца 40-х годов, жестковатую энергию структурно-осмысленного мира. Веру в осмысленность его. Это был в известном смысле поиск опоры. Опоры в логике. Действительно: в заштатном Ревске случайно нащупать под собачьей конурой кортик с шифрованной надписью и потом в Москве наткнуться на следы этой же истории, найти концы, связать, пройти по следу, угадать, попасть в точку — и не сбиться! Спрятаться в афишной будке в московском дворе и, наблюдая в дырку, разглядеть, что делают в комнате злоумышленники, по их случайным разговорам около будки все расслышать, все распутать — это ж какими кристально логичными должны быть злоумышленники в своих разговорах и действиях и почему-то именно около будки и выбалтывать самое существенное! И чтобы ножны от кортика нашлись, и чтобы шифр совпал, и чтобы старуха вовремя проговорилась — до чего же загадочно-разгадочен, до чего законосообразен художественный мир раннего Рыбакова, если возможны такие цепочки, такие далеко рассчитанные многоходовые комбинации!
Апофеоз этого фантастического разгадывания — ключевой эпизод из «Бронзовой птицы», когда вдумчивые пионеры находят тайник по эмблеме, нарисованной владельцем клада, собственно, по тому, как нарисована птица. Попутно урок орнитологии. Орлы бывают — беркуты, они же халзаны, могильники, курганники, они же степные. Ба, да это же намеки! Идем по речке Xалзан, видим посреди степи курган — и выходим точнехонько на клад. Словесные знаки прямо совпадают с предметами совершенно другой реальности, орел «изображает» название речки, его голова намекает на скалу, а лапы — на могилу, то есть на склеп, то есть на клад, — слово клеится со словом, и по мостику таких умозаключений идут к цели отряды. Пионерская логика.
Положим, в «Бронзовой птице» все это уже на грани фокуса. Повесть, написанная в развитие «Кортика», отдает литературной инерцией. Для рыбаковских трилогий вообще характерна слабость второго звена. Первая повесть — открытие; вторая шьется по образу первой — жанр опробован, материал лоснится от употребления, белые нитки торчат. Третья часть — преодоление мертвой точки. В Рыбакове есть какая-то литературная двужильность: вторую часть загоняет в схему; кажется, все исчерпал, а в третьей — неожиданно резко — выходит из схемы в совершенно новое измерение. Так, после «Бронзовой птицы» «Выстрел» переводит в принципиально новую плоскость трилогию о Мише Полякове: сквозь детективную историю со сцеплением причин-следствий проступает свинцово-тяжкая, «статистическая», неуправляемая жизненная закономерность. На первом плане хлюст-нэпман; Миша его выслеживает, выводит на чистую воду; но оказывается, что главное дело не в этом. Мелкий бес будит крупного: хотят урвать чуть-чуть — срываются по-настоящему; перед глазами вертится какой-нибудь пижон Навроцкий; с ним, позером а фанфароном, сражается маленький железный Миша Поляков. Но все это фанфаронство вдруг куда-то проваливается, летит в небытие, и из небытия встает зло, несоизмеримое с самим понятием принципа, какая-то инфернальная уголовщина. И перед нами уже не рационально-романтический, черно-розовый, светло-графичный Рыбаков 40-х и 50-х годов. Это 70-е. Тяжесть. Неуловимая текучесть зла. Взорванная структура... песок.
Любопытно проследить по этой первой рыбаковской трилогии, так сказать, внешние метаморфозы зла. Сначала (в «Кортике», в «Бронзовой птице») это типологически прочные и плотные фигуры, взятые из учебника истории: белый офицер, нэпман, старуха помещица... В финале, в «Выстреле», за ясными и внятными фигурами — пустота. Пустое место. Дырка, серость, неразличимое пятно. Серый, Серенький — так зовут этого тихого убийцу, человека без лица, без имени, вообще без признаков, которого невольно вызвал из небытия кривляющийся на авансцене нэпман Навроцкий. Разваливается сцена, на месте четких кулис возникает безвидная мгла, «задняя комната», где сидят какие-то упыри — зло необъяснимое, фатальное, безлико-серое. Пролом в бездну... Рыбаков 40-х годов этого не видел — Рыбаков 70-х видит.
Возьмите трилогию о Кроше, цикл повестей, сделавший Рыбакова писателем 60-х годов, и вы найдете те же ступени поиска. И опять по той же модели. Первая повесть, «Приключения Кроша», — открытие типа, открытие жанра, открытие интонации. Мальчишка — скептик, остряк, иронист... Я не говорю, что Рыбаков вообще первый нашел этот человеческий тип, — его тогда открыли многие. Как и во времена «Кортика», Рыбаков откликнулся на зов времени. Но на новый зов. В конце 40-х годов он выдвинул фигуру Миши Полякова — вариацию гайдаровского Тимура. В начале 60-х — фигуру Сережи Крашенинникова, Кроша, крошки, «бебешки», который строит из себя наивного ребенка, в сущности издеваясь над дураками и жуликами. Конечно, это и продолжение излюбленной Рыбаковым темы — темы маленького борца, железного праведника, упрямого идеалиста, верящего в несокрушимую закономерность добра; но это вариант, глубоко отвечающий стилю и строю именно 60-х годов; юный герой задает взрослым каверзные вопросы, он прикрывает свою романтическую веру шуточками и венчает повествование иронической фразой: «Где логика?»
Вторая часть — по той же фигуре треугольника — возникает как слабое отражение первой. «Каникулы Кроша» написаны но инерции: герой продолжает острить; уголовный сюжет кое-как держит действие, но уже слабоват, вяловат; какие-то эстетствующие хлюсты спекулируют по мелочи; попутно нам читаются лекции о японской скульптуре; из-под этих игр смутно и невнятно проступает что-то недоброе, какие-то полузабытые предательства, совершенные в научном мире, но Рыбаков в эти бездны не углубляется, отделываясь кратким замечанием о времени, которое сильнее людей.
Но о том, что сильнее людей, ниже. И о третьей повести цикла, о «Неизвестном солдате», переломившем трилогию о Кроше к новому качеству, ниже. А пока о старом качестве. О логике, по которой действует Крош. В общем, это та же логика, по которой действовал Миша Поляков. Но нюансы знаменательны. Миша Поляков действовал в мире, законосообразность и объяснимость которого не вызывали и тени сомнений; Миша потому и действовал с такой уверенностью, на свой страх и риск пускаясь в поиски и расследования, что заранее знал: параллельно ему ту же работу делает сама логика, то есть ведут поиск те, кому следует его веста. Он знал: в решающий момент непременно появится откуда следует спокойный и проницательный человек — товарищ Свиридов — и задержит преступников, выслеженных юным героем.
А Крош? Веселый озорник, любимец класса, мастер задавать каверзные вопросы — дитя 60-х годов! — он тоже уверен в конечной доброй логичности мира. И все же... помните ту ключевую сцену в первой повести, когда Крош (дело происходит в авторемонтных мастерских) убеждается, что слесарь Лагутин — вор. И Крош дает понять ему о своей догадке, тонко намекает ему, мягко подсказывает в надежде, что Лагутин, опомнившись, вернет украденное и даже, знаете, в порыве чувств пожмет Крошу руку. Помните, какой мгновенный необъяснимый ужас испытывает Крош, когда Лагутин, спокойно и нагло глядя ему в глаза, говорит: а может, это вы крадете, а на других валите. Крош немеет, он привык распутывать головоломки и различать моральные нюансы, но он впервые сталкивается с прямым, тупым, холодным и наглым злом. Он теряется: перед ним что-то инфернальное, что-то по ту сторону логики, что-то такое, от чего кровь останавливается в жилах и почва уходит из-под ног.
Миша Поляков в таких ситуациях не терялся — он знал, что делать. Крош не знает. И это интересно объяснить. Суть в том, что в художественном мире второй рыбаковской трилогии перестал ощущаться... товарищ Свиридов. Из-под логики, незримыми нитями прошившей мир, выдернулась основа, и Крош со своими вопросами несколько завис в воздухе. Конечно, справедливость восторжествовала, и история Сережи Крашенинникова вышла к доброму финалу. Но тот мгновенный ужас, тенью прошедший по душе героя, когда он оказался наедине с силой, вообще не понимающей вопросов, когда на какой-то миг он, привыкший ощущать под ногами твердое основание, почувствовал, что там, под ногами, бездонность, вакуум, песок...
Теперь от подростковых трилогий Рыбакова я хочу перейти к его первым взрослым романам. Может быть, у этих книг и разные адресаты. По наблюдению Е. Стариковой критики, рецензировавшие «Водителей», не все даже и читали «Кортик», а читавшие никак не связывали эти вещи. Но они связаны, хотя каждая из них и несет печать своей литературной ситуации. Автор у тех и этих книг один. Внутренний путь один. Духовный смысл один.
«Водители» написаны следом за «Кортиком». Книга вышла в 1950 году, стяжала немедленные лавры и прочно встала в ряд произведений, как раз составлявших в ту пору канон производственного романа. По этой причине, не скрою, я побаивался перечитывать ее сегодня. Хотя уже простое сопоставление объема романа в публикациях 1950 года и в нынешнем четырехтомнике показывало, что Рыбаков отнюдь не механически составлял собрание сочинений, он почти вдвое сократил текст. Столь колоссальный процент — свидетельство настоящей беспощадности Рыбакова к себе: почти так же сильно сокращен в собрании сочинений и следующий роман, «Екатерина Воронина». Так вот: этот жесткий самопересмотр наводил меня — опять-таки априори — и на некоторые подозрения: скажу вам по секрету, что бывают писатели, которые «по истечении эпохи» вынуждены вымарывать в своих книгах целые главы. Рыбаков вроде бы не из таких... И все же я не поленился, полез сличать варианты. И успокоился: автору «Водителей» и «Екатерины Ворониной» не пришлось делать конъюнктурные вымарки. Что же он сокращал? Ткань. «Усушивал» текст, снимал мелкие подробности, убирал дополнительные штрихи и краски. И поскольку экономная точность лежит в самой основе рыбаковского письма, почерк его лишь обострился в нынешнем переиздании, сохранив суть и качество: ткань стала чуть резче, жестче, хотя кое-где, может быть, и за счет внешней плавности, облегчающей читателю жизнь.
Не только это, конечно, держит сегодняшнее внимание в «Водителях». И даже не столько это. Не фактура дела, а скорее стиль делания. Всплывает сюжет, ранее малоощутимый. В 1950 году могло казаться, что деловито написанная книга ратует за повышение производительности труда, сегодня ясно, что она содержит и еще кое-что выбивающееся из тогдашнего ряда. Главный герой «Водителей», начальник автобазы, по психологической фактуре отчетливо противостоит брезжившему в ту пору эталону душевности: суховатый, четкий работник среди «своих парней», железный специалист среди «отцов родных», законник среди добряков и плутов.
Зовут героя «Водителей», между прочим, Михаил Поляков. Рыбаков говорил, что это чистая случайность, совпадение, но я не верю. Я думаю, что столь быстрая возрастная трансформация маленького героя «Кортика» есть не что иное, как проверка по конечному результату. Рыбаков торопит события, он хочет скорее долепить характер. Именно характер, объемный, плотный, естественно вырастающий из социальных и иных условий.
Но именно характер так и не дался ему ни в «Водителях», ни в «Кортике», ни вообще в повестях о Мише Полякове. Здесь нет нутра, нет той тайны целого, которая сообщила бы герою эффект художественного самодвижения. Кое-где в четкой графике «Водителей» ощущается как бы вакуум почвы, то есть Рыбаков ее ищет, он к ней взывает, он пристально всматривается в жизнь: за ведомостями, инструкциями, директивами, схемами и чертежами, окружающими Полякова, он стремится разглядеть реальность низовую, фундаментальную. Он вчитывается в письмо безвестного рационализатора, придумавшего новую конструкцию сварочной горелки. «Кто ты такой, Березкин? Сварщик, механик, токарь, шофер?.. Сам ты начертил свою горелку, или это сделал по твоему корявому эскизу какой-нибудь районный техник?..»
Читатель без труда разыщет источник этого стилистического всплеска: достаточно открыть «Мертвые души». Рыбаков и не скрывает своей любви к Гоголю, да и смешно скрывать: в 1950 году об этом писали чуть ли не все рецензенты «Водителей». Дело не в истоках приема, это-то более или менее на поверхности. Дело в другом: почему чужой прием здесь оказался нужен, хотя на фоне рыбаковского письма он выглядит произвольным пятном краски (и это в сокращенном варианте, раньше таких пятен было куда больше). Так почему здесь Гоголь? А вот почему. Прописаны действующие структуры. Но не чувствуется опоры, земной основы, вековой толщи характеров. Рыбаков ее ищет — и «проваливается», старается написать — и попадает в готовый гоголевский прием... Это истинная драма романа «Водители».
Именно эта драма с еще большей отчетливостью выявляется в следующем романе Рыбакова — в «Екатерине Ворониной».
Окунувшись в волжскую старину, Рыбаков цепко освоил реалии и ее быта. Он изучил лоцманскую и капитанскую работу, проник и «в межень и в половодье», он вызнал, каков бурлак в плесе и на берегу и как горыч гонит «валы с беляком». Сквозь чалки, кнехты, яры и прораны впервые прорисовалось в прозе Рыбакова то, чего ранее в ней не было, — кондовая старина, хлябь и твердь традиционного народного быта. Затиснутые в лямку, в несвободу косматые старики, тяжкие нравом, прибитые работой, бунтующие с нерасчетливой силой, — какой контраст с прежней прозой Рыбакова, с суховатым, экономным его письмом!
И все же по мере того как из легендарной хмари начинала вырисовываться в романе конкретная человеческая судьба, рыбаковское перо возвращалось к привычной манере. Екатерина Воронина, потомственная волжанка, прошедшая через новые времена — через непримиримость пионерского детства, через войну в юности и через мучительное одиночество, доставшееся этому поколению молодых вдов, — она, волевая натура, не удержалась на «волжском размахе», и Рыбаков дописал ее в своей обычной стилистике. Но что получилось? Бурлящая, бунтарская кровь, пламенная, неуправляемая, чуть не в дурь выбивающаяся, — кипящая эта лава твердеет и как бы огранивается, обретая меру и форму в облике уверенной женщины, ведущей за собой неуверенного мужчину. Именно эта волевая огранка силы ощущается в «Екатерине Ворониной» сегодня как истинный сюжет. Возможно, что субъективно Рыбаков ставил перед собой не совсем такую задачу. Хотел написать сочувственный портрет современницы, труженицы послевоенных лет. Хотел проследить истоки, ее душевной силы: проследить корни. Беспредельность корней.
Вышло нечто другое. Беспредельность все ж как-то ускользнула из романа. Есть точность, есть художественный расчет, есть мера. Маловато ткани, не хватает психологической плоти.
Один мотив, впервые ощутившийся у Рыбакова в «Екатерине Ворониной», кажется мне особенно знаменательным. Мотив терпения. Раньше его интересовало другое: выдержка, воля, сдержанность. Через вдовью долю, через одинокую женскую судьбу Рыбаков прочувствовал нечто для себя новое. Много лет спустя вышла у него вновь на поверхность эта тема — уже после того как Рыбаков, вернувшись от взрослых читателей к подросткам, продолжил трилогию о маленьком Мише Полякове, а потом, в 60-е годы, начал и продолжил трилогию о Кроше. В финале этой вот второй трилогии, в повести «Неизвестный солдат», на пороге 70-х годов, неожиданно отдетонировал у него мотив терпения.
Я говорю — неожиданно, потому что в структуре этой повести он возникает вроде бы как нюанс. Отыскивая вместе с Крошем свидетелей гибели двух солдат, чьи останки найдены много лет спустя при постройке дороги, мы вместе с героем воспринимаем и переживаем широкий, монументальный план темы. На рубеже 70-х годов наша военная проза как бы почувствовала это новое дыхание, и Рыбаков, чуткий к ситуации, сумел откликнуться на новый зов памяти. Глубоко существенно, что Крош, типичный молодой герой 60-х годов, на исходе десятилетия перестал задавать отцам иронические вопросы и принялся слушать дедов. Так на фоне той скорбной картины, когда две женщины, согнувшись, медленно идут к могиле безвестного солдата, в пронзительном звучании такой повести кажется несколько неожиданной и немасштабной дотошность Кроша, разгадывающего, кто же именно там похоронен: Бокарев или Краюшкин? Быстрый, умелый старшина Бокарев или пожилой солдат Краюшкин, прикрывавший прибаутками свою усталость? Кто из них? Кто именно в 1942 году забросал фанатами немецкий штаб?
Действие повести тормозится этой дотошностью. А все докапывается Крош, все доискивается... Или это обычная для Рыбакова детективная интрига, помогающая читателю? Нет — мешает. Шерлок Холмс неуместен в реквиеме.
И вдруг сознаешь, что в попутной дилемме, неожиданно оказавшейся в центре внимания, заключен для Рыбакова важный самостоятельный смысл, Бокарев или Краюшкин? Оба тогда, в 1942 году, попали в ловушку, оба затаились на чердаке, наблюдая, как немцы входят в город. Но они были разные и действовали по-разному. Бокарев — быстрый, крепкий, умелый. И Краюшкин — притихший, затосковавший, почти бессильный, К тому же раненный в ногу. Читатели, помнящие повесть Василя Быкова «Сотников», согласятся с тем, что автор «Неизвестного солдата» решает здесь психологическую проблему, весьма важную для нашей прозы.
Так кто забросал гранатами немецкий штаб? По всем признакам это должен был сделать Бокарев. Но выясняется, что сделал это — Краюшкин, и в таком повороте таится для Рыбакова важный смысл. Как вел себя Бокарев? Ночами спускался с чердака, бегал по улицам, искал выход, рассчитывал, прикидывал, соображал. А Краюшкин лежал и ждал. Как погиб Бокарев? Нарвался на немцев и был убит в мгновенной перестрелке. А Краюшкин, выждав, сошел вниз средь бела дня, когда по улице вели колонну наших пленных; сошел и захромал следом, пристроился, обросший, помятый, сам уже неотличимый от пленного, и прежде чем конвоиры сообразили, что происходит, бросил гранату в группу штабных офицеров. Вот в чем контраст: Бокарев хотел выбраться отсюда, уйти в лес, Краюшкин, подобно быковскому Сотникову, понял, что обречен. Он выбраться не надеялся в приготовился к гибели. В безнадежной ситуации ему оставалось одно: вытерпеть.
Для Анатолия Рыбакова это кардинальный поворот духовной доминанты. Раньше он решал вопрос однозначно: встань и иди! Во всех его подростковых повестях один сюжет: герой сам, на свой страх и риск ведет расследование преступления. Встань и иди!— это импульс человека не просто активного, но безгранично верящего в смысл активности, в законосообразность, вменяемость, разумность мира. Только в таком мире ранний рыбаковский герой мог рассчитывать на успех: он входил в лабиринт, зная, что выход есть. В какой же момент в сознании Рыбакова возникла мысль о герое, которому приходится действовать в ситуации изначально безвыходной?
Мне кажется, я знаю это. Знаю точку поворота, точку равновесия. Есть у Рыбакова роман, сравнительно малая известность которого остается для меня загадкой. «Лето в Сосняках» — прекрасно выстроенная, филигранно выточенная, пронизанная тревогой, острая по проблематике вещь, напечатанная в 1964 году в «Новом мире». Почему этот роман остался в некоторой тени, почему не встал в центр литературных дискуссий? Или так прочно приросла тогда к Рыбакову слава писателя для подростков? В середине 60-х годов он был в зените популярности как автор «Кроша», не говоря уж о том, что «Кортик» оставался для него неотменяемой визитной карточкой. Что же до романов 50-х годов, то они, пожалуй, казались устаревшими. «Лето в Сосняках», повествование о строительстве химкомбината в 30-е годы, показанном сквозь жизнь 60-х, выглядело продолжением тех романов, а ждали — продолжения «Кортика», продолжения «Кроша». Этим ожиданиям «Лето в Сосняках» не отвечало. Между тем в третьем рыбаковском романе не просто сокрыта огромной важности драма — эта драма для Рыбакова поворотная.
Химкомбинат строят люди 30-х годов: беззаветные романтики, герои великой эпохи, самоотверженные до жертвенности. На острие дела — Кузнецов, фигура яркая, мощная, прямо из горнила гражданской войны. Кто ему противостоит? Некто Ангелюк, тихий канцелярист, молчаливый подлец, скрипучий формалист. Помните, я говорил, что зло в сознании А. Рыбакова постепенно принимает облик серой инфернальности? Вот здесь то самое: человек без лица, без примет. Между Кузнецовым и Ангелюком — инженер Колчин, и в нем предмет моего интереса. Именно на Колчина падает тяжесть морального решения, именно Колчина раскалывает Ангелюк, собирая материал на Кузнецова. И Колчин, средний, обыкновенный человек, никому не делавший дурного, попавший под колесо, не выдерживает.
Ломается средний человек. Много лет спустя, не выдержав мук совести, кончает с собой. Хотел ли он предавать Кузнецова? Нет. Он хотел одного: переждать. Пересидеть, пока Ангелюк уймется. Спрятаться. Пошел к Кузнецову, решился даже намекнуть тому на опасность: «Умоляю вас, переведите меня в Челябинск... Это очень важно. И не только для меня...» Понял Кузнецов намек? Понял. Но он не хотел пачкаться этим Колчиным. «Из-за одного человека, пусть даже невинного (!!—Л. А.), он не мог ставить под удар громадный коллектив... Ему ничего не стоило направить Колчина в Челябинск. Но это означало пойти на тайный сговор. И с кем?»
Вот оно: Кузнецов человек, а Колчин не человек. Кузнецов встает и идет, а Колчин хочет остаться в стороне. Кузнецов не жалеет ни себя, ни других (пусть даже и невинных — вы слышали?), а Колчин жалеет. Кого? Семью, дочь! Слабый человек...
Я думаю: не потому ли не был этот рыбаковский роман подхвачен читателями и критикой, что проступившая в нем безжалостность решения расходилась с эмоциональным состоянием читателей? Возможно, здесь лежит разгадка неуспеха отлично написанной книги, но сейчас я хочу понять другое — логику пути автора. В центре его третьего романа стоят именно такие люди: Миронов, Чернин... Но какая-то тень авторского сомнения уже проходит над ними. Есть что-то сильнее человека. «Силы времени» — как раз в эту пору формулирует Рыбаков. Силы времени сокрушают отдельного человека. Рыбаков это приемлет, он с этим согласен. Он говорит Колчину: иди и гибни! Все промежуточное, все среднепорядочное не выдержит борьбы. Так не здесь ли впервые входит в прозу Рыбакова ощущение ситуации, для отдельного человека изначально безвыходной? То самое, о чем пять лет спустя скажет погрустневший солдат Краюшкин: «Верти не верти, а придется померти»...
В 1964 году человек у Рыбакова не готов к этому. Инженер Колчин не хочет «померти». Он не хочет ни защищать героического Кузнецова, ни сражаться с тихим Ангелюком. Он хочет домой, к жене и дочери. Отношение Рыбакова к этому человеку я назвал бы брезгливой жалостью. Я не разделяю такого отношения. Во всяком случае, мне трудно принять первую его краску. Я не согласен вставлять невинною в смертный перечень и презирать его за слабость. Но я говорю это не затем, чтобы двадцать лет спустя спорить с романом Рыбакова, — я опять-таки хочу понять его путь. Путь к книге, которая потрясла меня и действительно, как я убежден, встала в самый центр литературного процесса в конце 70-х годов. «Верти не верти, а придется померти» — ведь не будет же никаких других вариантов у жителей гетто, когда господин Штальбе погонит их к общей яме. И никаких выходов из преисподней, никаких иных финалов, только гибель. И при сопротивлении гибель, и без сопротивления гибель.
И кто окажется в этой гибельной ситуации? Тихий складской работник Яков Ивановский. Его жена, домохозяйка Рахиль. Отец семейства, мать семейства. Да, не бойцы, признает Рыбаков. Все-то их мужество — ради «их любви», «их семьи». Единственное, чего хотели, — «вместе подойти к яме». Да, истина по-прежнему страшна: все среднее, все нормально-порядочное будет выжжено в борьбе. Но пишет эту истину уже не тот Рыбаков, под пером которого бесславно ушел в небытие тихий инженер Колчин. Трудно идти по песку...
Каждый раз, начиная говорить об этом романе Анатолия Рыбакова, я останавливаюсь как перед невидимой чертой. Тот, кто читал «Тяжелый песок», поймет мое отчаяние. Есть вещи, к которым страшно прикасаться. Можно догадываться, чего стоило самому Рыбакову собраться с духом и написать историю гетто, жители которого перед уничтожением, на краю могилы, вопреки всем здравым расчетам все-таки оказали карателям последнее сопротивление. Как был найден тон для этого повествования? Каким интуитивным скачком Рыбаков нашел для этой истории образ рассказчика?
Удивительное, рискованное, непредсказуемое творческое решение. Дело даже не в том, что Рыбаков, все свои подростковые вещи написавший от имени действующего героя (то есть стилистически характерно, окрашенно), впервые ввел такого героя-рассказчика в роман. Дело в том, что фигура рассказчика, найденная в «Тяжелом песке», при первом приближении не соответствует той тональности, которую, казалось бы, диктовал автору страшный материал. История семьи, растущей, укрепляющейся, ветвящейся навстречу заведомой гибели, ждет повествователя, окаменевшего душой, а Рыбаков ставит перед нами контактного, быстрого, живого говоруна, провинциального обувщика Борю Ивановского, сохраняющего почти детскую веру в людей и убежденного в бесконечной доброжелательности слушателей. Некоторые сцены он охотно комментирует (смягчая происходящее, объясняя его себе, готовя читателя к самому драматичному), иные, обозначив двумя-тремя точными штрихами, оставляет без комментариев, третьи пропускает вовсе: а, что тут говорить, вы сами все понимаете. Не всегда умея объяснить себе реальность, рассказчик спешит сквозь нее, на каждом шагу нарушая школьную пропись художества, согласно которой пересказ всегда слабей показа. И лишь постепенно, по ходу того как вы его пересказ читаете, вам становится внятен истинный художественный смысл этого сомнамбулического пробега сквозь семь кругов ада, этого странного контрапункта тона и материала.
Он ведь пробегает по эпизодам, рассказчик, словно по мосточкам над бездной. Иногда отворачивается. Иногда говорит иносказательно, причем аллегории его детски прозрачны. Он рассказывает, например, что его брат Лева попал под поезд, а потом с убежденностью домашнего мудреца объясняет, что это вполне закономерно: знаете, брат Лева был направлен на работу в систему железнодорожного транспорта, а железнодорожники, работающие, как известно, на рельсах, гибнут под колесами чаще прочих случайных прохожих. Однако при этом железный характер брата Левы начинает восприниматься через слово рассказчика чуть ли не как аллегорическое объяснение смерти под железными колесами, и вы приемлете эту нехитрую аллегорию, потому что она художественно подкреплена простодушием повествователя. Вы приемлете — в самые страшные моменты рассказа — срывающиеся с его уст словесные формулы военного времени: «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков!» — и художественное потрясение от этих словесных блоков сильнее, чем если бы Борис Ивановский попытался живописать нам, как оккупанты пытали его отца перед тем как повесить. Мостки над бездной лишь подчеркивают бездну, и жутко чувствовать, как пробегает по ним рассказчик, обжигаемый искрами. Есть колеблющийся просвет между ними и реальностью; в этом просвете заключена для него спасительная психологическая возможность не касаться открытых ран. Он как бы парит в воздухе...
Конечно, есть и чисто литературные опоры для этого взгляда издалека, для этого телескопического прицела, когда история нескольких поколений сжимается в цепочку коротких эпизодов, словно отдаляясь в художественный космос, — в этом типе рассказа откликается мощная литературная традиция, идущая чуть ли не от самой Библии. Библейские ассоциации в романе «Тяжелый песок» выведены на поверхность, вынесены в эпиграф, прямо символизированы именами героев: Якова Ивановского и Рахили Рахленко, двух евреев, соединивших судьбы в маленьком южном российском городке, чтобы положить начало огромной семье.
Впрочем, столько же здесь и от традиции семейно-родословного романа нового времени, от горьковского «Дела Артамоновых», от Томаса Манна — не «библейского», а автора «Будденброков». И все же главный художественный нерв «Тяжелого песка» не в этих внешних родословных контурах (хотя к глубинам рода Рыбаков тянулся еще с «Екатерины Ворониной»). Не к библейским и не к новоевропейским литературным предтечам точнее всего адресована стилистика рыбаковского повествователя с его манерой угадывать читательскую реакцию, и переспрашивать собеседника, и отвечать ироническим вопросом на вопрос. Этот горький юмор местечек подключает всю мелодику тона в «Тяжелом песке» к тому, что называется еврейской темой в литературе нового времени, а точнее к той ее вариации, которую на русской почве реализовал Шолом-Алейхем. Именно это точка упора в стилистике «Тяжелого песка». Или, лучше сказать, точка прицела.
Тут необходимо маленькое объяснение по поводу предпринимаемых мной параллелей. Прямых перекличек с Шолом-Алейхемом в «Тяжелом песке» нет. Как нет и прямых пересечений с Достоевским. Эти пересечения экстраполируются исходя из позиций сторон. В конце концов я могу вообразить, что не о Кнуте Гамсуне, а о Достоевском ведут свой спор две героини романа, фронтовые связистки, недавние студентки, но дело не в этом — дело в сопоставлении атмосфер. Так же и с Шолом-Алейхемом: точек пересечения нет, а атмосфера взывает к сравнению. Если оставаться на почве литературной типологии, говорить не о чем: Менахем-Мендл жалкий комбинатор, мечтающий сорвать куш и удрать, — что общего с крепкими, прочно стоящими на ногах работягами Рыбакова? Если и есть среди его героев дальний отпрыск касриловского Ротшильда (ну, скажем, дядя Иосиф, делающий, говоря словами Мендла, комбинации из «бумажек», чтобы увеличить количество «бумажек»), то, во-первых, он один и, во-вторых, написан без тени шолом-алейхемовского добродушия. Почти с ненавистью.
Ненависть эта закономерна, и объект ее выбран не случайно. Психологическое открытие Шолом-Алейхема шире и долговечнее того конкретного характера, с помощью которого он его сделал. Такие открытия начинают жить по законам легенды. Само слово, брошенное великим писателем (это вот трепещущее в невесомости «люди воздуха»), летит из эпохи в эпоху. Порождено жизнью народа, при царизме замкнутого чертой оседлости при невозможности осесть при этом на землю, но вобрало в себя множество новых обертонов и оттенков, порождаемых психологией души, висящей в невесомости. «Какие-то «птичьи» профессии, — улыбается Шолом-Алейхем. — Маклеры, агенты, сваты, менялы, журналисты... Вы слышите? Менахем-Мендл — «писатель»! Разговаривать, уговаривать, переговаривать, заговаривать...» Касриловскому гешефтмахеру даже и в Одессе не грезились те масштабы, которые обрела преображенная пером классика его душа. Может быть, это вообще судьба «летучих слов» такого уровня? Мы завороженно следим, как летит птица-тройка, забывая, что в ней едет Павел Иванович Чичиков плутовать с душами. Так и тут: перед нами уже не столько характер, не столько тип, сколько некий принцип бытия. Какая-то более широкая духовная драма возникает в нашем сознании, когда мы сегодня произносим сами эти слова, брошенные Шолом-Алейхемом: «люди воздуха»...
Так с ними и взаимодействует автор «Тяжелого песка». Не с образом Ротшильда из Касриловки. А с образом воздуха, включенного в цепь мифологем современного сознания. Вот с этой мифологемой — с психологией людей воздуха, парящих над реальностью, лишенных крепкого корня, — Рыбаков и вступает во взаимодействие. Вернее, в бой. Эту психологию Рыбаков и оспаривает, пытается преодолеть, ненавидит. Сквозь воздух он и пишет реальность, не желающую знать ничего об этой легенде. Его герои, трудяги, выросшие где-нибудь в Городне, или в Репках, или в Сновске, в естественном многолетнем контакте с украинцами, русскими и белорусами, вовсе и не знают про себя, что они люди воздуха. Это люди ремесла, люди дела, реалисты и практики: ломовые извозчики, кожевники, грузчики, сапожники, шорники. Они отрицают психологию воздуха всем своим трудом, всем бытом и бытием. Однако им приходится с нею столкнуться. Столкновение психологии воздуха с ощущением твердой земли — вот внутренний сюжет, делающий тон рыбаковского родословия.
Чтобы это почувствовать, достаточно припомнить сцепление его колен — колен Авраамовых, а затем колен Иаковлевых, то есть детей дочери Авраама Рахили, вышедшей замуж за Якова Ивановского, будущего складского работника. Я напомню... но прошу вас держать в уме и тот аллегоризм, который, как мы видели, не чужд рассказчику, — постарайтесь уловить, вокруг чего бьется здесь авторская мысль. То есть я прошу вас представить себе реальные судьбы как бы через словесный пересказ рыбаковского героя, когда на вас помимо описываемой реальности воздействует словесный лейтмотив — ключевое слово, которое играет, мерцает или чудится в тексте. Когда я говорю, что Дина Ивановская, прибитая фашистами к кресту, умерла поднятая над землей, я не ищу в этом эпизоде школьной аллегоричности. Я хочу, чтобы вы почувствовали именно лейтмотив, духовную тему, ключевое слово, которое сцепляет эпизоды в единую мелодическую линию. Это слово — «воздух».
Итак, первый сын Авраама и Рахили, Иосиф,— торгаш, делец, гешефтмахер (деньи — подмена реальных отношений — воздух...). Второй сын, Лазарь, — лентяй, болтун и мечтатель, всю жизнь витавший в облаках (в гетто повесился, умер в воздухе). Третий сын, Гриша, — рывок к земле: первый ударник на фабрике, реально мыслящий, рукастый (в гетто организатор сопротивления). Четвертый сын, Миша, — красная конница, шинель с «разговорами», вихревая скачка, рубка влет (погиб в гражданскую). Следующее поколение: Лев, человек в кожанке, — беспощадность принципов, с высоты трибуны обрушиваемых на головы людей (погиб под колесами); Ефим — каменщик, строитель, в войну директор оборонного завода, создавший этот завод в голой степи (врастание корнями в землю); Генрих — военный летчик (тема воздуха преображается, светлеет); Дина — певунья, артистка, «птица»... Но о ней я уже говорил.
Тема укоренения сталкивается в «Тяжелом песке» с темой искоренения. И если укоренение естественно, то искоренение алогично, страшно, бессмысленно и непонятно. Борис Ивановский, рассказывающий нам о гибели гетто, вполне подкован по части политграмоты, он знает, что говорил Розенберг о низших расах и как объяснялся на эти темы Гитлер (в Растенбурге, в «волчьем логове», в 1941 году — у вас опубликовано в двухтомнике В.И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма»), Борис Ивановский все это читал, знает. И все-таки это какой-то бред для него. Как это вышло, что школьный учитель Штальбе согласился приравнять людей к насекомым? И стал комендантом гетто? Нормальный человек этого понять не может... Анатолий Рыбаков, писатель четкого, ясного, рационального мышления, должен справиться со злом, которому не может найти человеческих объяснений. Зло внечеловечно, инфернально. В художественной структуре романа фашистское нашествие возникает как гром средь ясного неба.
Помните сцену серебряной свадьбы Якова и Рахили летом 1940 года, когда во дворе Ивановских собирается вся огромная семья плюс все интернациональное население соседних домов и улиц? При первом чтении эта картина отдает изрядным глянцем, тем самым, который в свое время входил в состав понятия «бесконфликтность». И только вдумываясь, понимаешь смысл той предгрозовой сцены в рамках целого. Ветвятся корни, множатся ветки, уходят в почву, уходят в небо, переплетаясь с соседними ветками и корнями, — вот симфония укоренения, доведенная до апофеоза за мгновенье до того, как вихрь ударит с ясного неба необъяснимо и страшно и будет рвать корни, сметать ветки в небытие, в смерть до конца, до самой последней страницы, до той последней черты, когда отчаявшиеся жители гетто бросятся на своих палачей. И тело Якова Ивановского, закопанное на пустыре, исчезнет в сыпучем тяжелом песке бесследно. И жена его Рахиль, вырвавшись из смертного круга, дойдя до спасительной опушки вместе с немногими уцелевшими обитателями гетто, там, на лесной поляне, исчезнет необъяснимо. Растворится в воздухе.
Борис Ивановский, их сын, бывалый солдат, весьма подкованный в диалектическом материализме, смущаясь, спросит об этом у Ивана Антоновича Сидорова, своего друга, бывшего шахтера и партизанского командира, коммуниста, чуждого всяких суеверий, и тот, тоже смущаясь, подтвердит: действительно, люди говорили, растворилась в воздухе.
Все это пишет писатель, всеми силами души отрицающий психологию людей воздуха. Писатель, которому Авраам Рахленко, дерущийся ломами с извозчиками из-за невесты, ближе и понятнее, чем сын Авраама Лазарь, беспредметно болтающий с заказчиками в лавочке, и даже чем внук Авраама Лев, с трибуны обрушивающийся на жалких обывателей. Уникальный образный строй рыбаковского романа создан ситуацией, когда абсурд искоренения пишет человек, всецело укорененный в земной реальности. Когда кроваво-иррациональное явление фашизма осмысляет писатель по природе таланта светлый, ясный, здраво и рационально мыслящий. Трагедия людей воздуха противоречит основам его мироощущения. Она рвет ему душу.
Что говорить, жуткими новостями подтверждается в наше время актуальность этой книги. Думал ли Рыбаков, когда писал конец гетто, что пять лет спустя через мировую печать кровоточащими аншлагами пройдет параллель Бабий Яр — Бейрут?
И что начнут выяснять нюансы: кто там, в Сабре, лично стрелял и резал, а кто «стоял на стреме» и «держал лампу» — вешал в воздухе ракеты, чтобы светлее было? Не так ли и после Бабьего Яра перепихивали ответственность, и какой-нибудь полицай объяснял, что это не он стрелял, это немец стрелял, а он только дежурил на Брест-Литовском шоссе, чтоб не разбежались. Убийцы есть убийцы и фашизм есть фашизм, какими бы системами фраз он ни морочил людям головы. В Бабьем Яре убивали безоружных ради «нового порядка в Европе». А в Бейруте ради чего? Ради нового порядка в Азии? Страшная реальность, в которой народ в двадцать четыре часа переходит в разряд беженцев. Не надо обманываться словами, которые при этом произносятся. И не дать себя заморочить, ибо есть ценности абсолютные, дороже всяких слов. «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда»... Финальная фраза рыбаковской книги. Не о том эта книга, что было в 1942 году в украинском местечке, а о том, что есть в людях, есть сейчас, есть везде...
Прости, читатель, отнесло меня от литературного разбора. Не хотелось, да пришлось. Как заниматься литературой под такой аккомпанемент? Это уж не литература, это из литературы прорыв в такую реальность, гнездящуюся на дне человеческой души, что и впрямь не найдешь, какими словами с ней справиться.
А Рыбаков нашел слова. И потому создал вещь совершенно уникальную. Уникальную по той предельной, рвущей душу силе духовного переживания, на которую почти не хватает слов.
Одним мастерством, одной чистотой письма такого не достигнешь — здесь нужно упереться в реальность на краю бездны, дойти до грани разрыва. Вот текст и разверст, как сама жизнь. Помните финал? Когда Борис Ивановский и Иван Антонович Сидоров читают на кладбище надгробные надписи. Привычная надпись — как спасительный мостик над бездной. «Вечная память жертвам...» Успокоение и умиротворение. Не тот ли самый цемент, на котором, по мечте Достоевского, все «сойдется и примирится»? И, сходясь, примиряясь, держится Борис Яковлевич за перила мостика, за эту цементирующую прах плиту, а потом... нет, вы помните, как мысленно кричит он Сидорову, словно срываясь: умница! ты же все понимаешь! Должен же ты понять, что прижато этим камнем! какой ценой плачено за этот кусочек тверди, за этот клочок кладбища, за эту точку опоры...
Я хочу вспомнить еще раз нашу лирическую прозу последних десятилетий — ту самую лирику, с которой прочно ассоциируется у нас тема земли, опоры и почвы. Не говорю о лучших вещах из иных произведений второго ряда, трактующих эти проблемы (и создающих литературный фон, поток, обиход), встает ощущение опоры, данной человеку как бы изначально, празднично и естественно. Вот с этим-то ощущением и полемизирует Рыбаков. Земля не дар, упавший нам с неба. Почва дорого стоит. Земля оплачивается жизнью, кровью, страданием. И относится это не только к истории гетто — это закон бытия. «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда...»
Об этом кричит рассказчик. И, конечно, не Ивану Антоновичу Сидорову адресован этот молчаливый вопль, это мне, мне, читателю, кричит автор о своем мгновенном отчаянии: это моей помощи ждет сильный человек, почти надламывающийся под тяжестью своей ноши.
Что могу я, сорок лет спустя после событий читающий о них книгу? Я, читатель? Я не могу воскресить ни сестру Дину, фашистами распятую, ни дедушку Авраама, застреленного в лесу полицаями, ни маленького Игорька, по команде коменданта Штальбе зарубленного на глазах у Рахили, крикнувшего за несколько мгновений до удара: «Бабушка, я боюсь!»
Я читатель, я могу одно — разделить боль. Запомнить. И жить дальше с этой болью.
«...и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».
Л-ра: Новый мир. – 1983. – № 1. – С. 248-258.
Произведения
Критика