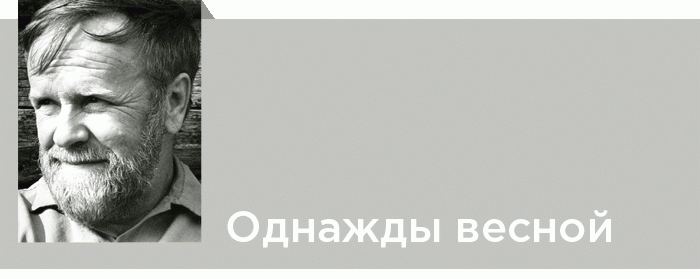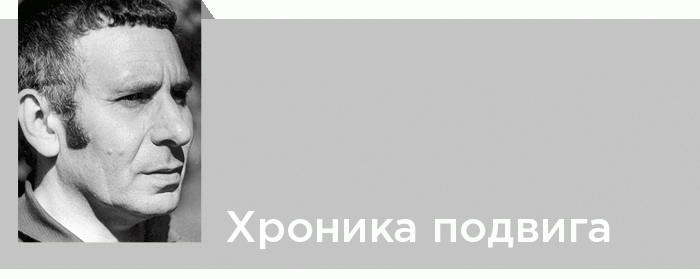Богомоловский секрет
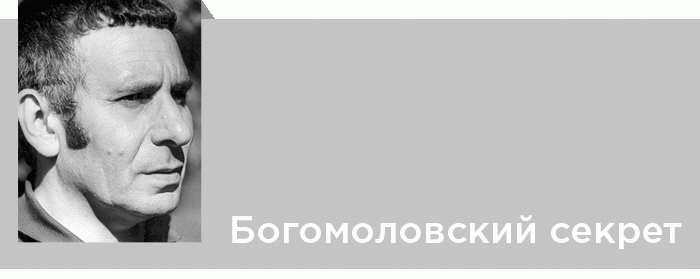
Л. Аннинский
Знаю по опыту: читатель, только что проглотивший финальные эпизоды романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», вряд ли способен трезво и здраво осмыслить прочитанное. Действуют реакции, рефлексы, «вазомоторы». Глаза слепит «подсветка», которую только что в схватке с агентами умело «задействовал» Таманцев. Голова еще кружится от «маятника», который «качал» под выстрелами этот виртуозный скорохват. Уши гудят от «стрельбы по-македонски», на губах вкус крови, в воздухе пахнет порохом. «Слепленный живым» читатель или сдается сразу, потрясенно переживая перипетии скоротечной схватки контрразведчиков с вражескими агентами, или — если он склонен к скепсису — начинает сопротивляться со слепотой отчаяния: его хотят завлечь, закружить, замотать, его хотят «провести» на детективе — не выйдет!..
Читатели и критики при появлении романа «В августе сорок четвертого...» по большей части смоделировали две эти реакции. Либо — благодарный восторг. Либо — придирчивое недоверие, упрямое желание «не поддаться», сбросить магию «детективности», обнажить за динамической вязкой эпизодов — как это и полагается в детективе — что-нибудь привычное: еще одну завлекательную «повесть о разведчиках»...
Тогда лучше остыть. Пусть рассеется дым от выстрелов. Пусть постоит тишина. Пусть ослабнут «реакции на детектив». Владимир Богомолов заслуживает этого.
Так что для начала отбросим ложные версии.
Почему перед нами — не детектив? При всей видимости детективного сюжета и детективной техники письма?
Потому что детектив — это игра логики, заложенной в основу повествования. Это триумф чистого разума, прокладывающего себе сквозь «хаос фактов» последовательную и неотступную линию. Это взвешивание равнодостойных версий и демонстрация диалектики. Я могу представить себе в рамках богомоловского романа сугубо детективное жанровое решение. Но тогда пусть в центр романа безраздельно встанет подполковник Поляков! Пусть его логика, его выкладки, его диалектика составят всю плоть действия! Однако в основе богомоловского романа — нечто другое. «Версии» не лежат перед вами как материал для размышлений — они набегают непрерывной рябью. Аналитический «экран» действия все время занят помехами, ложной информацией, сопутствующими деталями, которые попросту не успеваешь взвешивать как версии. Эти сопутствующие детали, донесения, факты и предположения врываются в действие даже тогда, когда сюжетная цель достигнута: Таманцев, выскочив из засады, уже выстрелом сбивает со шпиона пилотку, а мы продолжаем читать детальные спецсообщения о поимке какой-то другой разведгруппы «в поезде Вильнюс — Белосток», и хотя к группе «Неман» этот эпизод «детективного» отношения уже явно не имеет, — мы чувствуем, что он имеет отношение к более глубокой основе действия. Рябь подробностей, мешающих действию, начисто испортила бы дело, если бы перед нами и вправду был детектив: охота за целью. Но здесь — вовсе не охота за целью, а выявление структуры, в которой происходит эта охота. Ложные ходы возникают вовсе не затем, чтобы толкнуть читателя на неправильный след, а как бы затем, чтобы испытать читательское терпение. Утопая в море донесений — слов — фактов — предположений, — вы вовсе не чувствуете себя вправе решать, какие из них верны, а какие ложны, но вы остро чувствуете, как в вас провоцируется определенное сомнение во всем этом занятии как таковом. Лобастый подполковник Поляков где-то в тиши своего кабинета решает пинкертоновскую задачу, но вы этого почти не видите — вы видите другое: в освещенном солнышком лесу, в ста километрах от линии фронта, ползает по траве здоровенный мужик Таманцев — ищет обгорелую спичку. И, поддаваясь художественной провокации, вы невольно думаете об этом то самое, что властно внушает вам Богомолов: ну и дела! Да стоит ли столько сил тратить при такой маловероятной отдаче?
Остановимся: у нас еще будет случай довести это рассуждение до конца; для того и ждет нас в конце романа капитан Аникушин... Мы пока что занимаемся «поисками жанра»: мы отсекаем те образцы, на которые подозрительно «похож» роман В. Богомолова.
Иногда он похож на детектив, а иногда — на приключенческую повесть: стрельба вподхват, стремительная гонка эпизодов... Но если так, если перед нами действительно лихо закрученное приключенчество, — то зачем постоянные томительные паузы, эти отступления в биографию героев, эти «попутные описания», когда основное действие стоит на месте, и мы стоим тоже и смотрим, как пляшут у эшелонов солдаты, и слышим, как стучат костыли председателя сельсовета в прифронтовой полосе... и чувствуем, как плачет на пороге дома женщина, проводившая в рассветную мглу мужа, который — она знает — обречен? Подобные описания, там и сям разрывающие у Богомолова событийную цепочку, далеки от задач сюжета, они — явно для атмосферы: сорок четвертый год, прифронтовая полоса, война, ставшая бытом... Созданный этими попутными деталями портрет времени играет в романе В. Богомолова настолько важную роль, что невольно задумываешься: а нужен ли тогда столь блестяще разработанный сюжет, похожий на «приключенчество»?
Впрочем, Богомолов здесь прочно подключен к той традиции нашей прозы, для которой вообще характерен прием очерчивания обстановки разрозненными попутными штрихами. Доведенный до виртуозности в военных романах К. Симонова, этот прием давно уже взят на вооружение и авторами приключенческих книг о войне и разведчиках. Можно сказать, что локальный сюжет в сколь, ко-нибудь серьезной военной прозе просто невозможен: тот же Богомолов, наметив в повести «Зося» чисто лирический план: любовь с первого взгляда, тотчас взрезал все это кровавыми эпизодами боев, похожими то ли на воспоминания, то ли на отрывки из оперативных сводок... Но если в «Зосе», единственной, на мой взгляд, ординарной из крупных вещей Богомолова, эти отступления и впрямь выглядят слишком уж растянутой компенсацией лиричности сюжета, то в романе «В августе сорок четвертого...» они соединяются в цепь, как бы параллельную внешнему действию и играющую огромную роль... только не в «приключенческом», а в совсем другом сюжете.
..:У этого одноногого председателя — сынишка двух с половиной лет; у мальчика нет руки; из короткого рукава рубашонки выглядывает необычно маленькая багровая культя. Ребенок улыбается, потирая кулачком ясные голубоватые глазенки, а вы застыли вместе с капитаном Алехиным; поиск — задание — операция — сюжет — все окаменело: улыбается ребенок; перед вашими глазами — маленький обрубок руки...
И точно так же останавливается жизнь Алехина, когда он узнает из письма, что там, за тысячи километров, в глубочайшем тылу, жена его не поладила с начальством и осталась на зиму без дров, из-за чего четырехлетняя дочка Алехина заболела ревматизмом и мучается ножками. В жутком напряжении погонь и перестрелок вдруг всплывает в памяти Алехина мгновенным парализующим стоп-кадром этот беспомощный ребенок.
И Таманцев, крадясь с пистолетом за Павловским, которого он должен «продырявить», но взять живым, думает о двухлетней полуголодной дочери Павловского.
Вы чувствуете, что в этих моментальных зарисовках накапливается у Богомолова смысл, неизмеримо превышающий задачу конкретного «описывания фона», — не говоря уже о том, что к «приключенческому жанру» такие стоп-кадры уж и вовсе имели бы странное отношение.
Закончим, однако, с «детективом» и «приключенчеством» — все-таки искус велик, и слишком многие критики, еще больше читатели, попали в эту жанровую ловушку. Но если перед нами «детектив» или «приключенчество», то скажите: кому в этом случае нужно в тексте такое количество оперативных документов?
Я понимаю, что документальность — мода, что «под архив» работают теперь многие, что вовремя вставленные в повествование несколько строк или даже абзацев реального, либо вымышленного «дела» придают тексту привкус подлинности. Для этой читательской иллюзии достаточно, повторяю, двух-трех абзацев.
Но семьдесят страниц оперативных сводок, шифротелеграмм, ориентировок, приказаний и донесений, — это же восьмая часть романа! С цифрами, аббревиатурами, повторами, с неповоротливыми штампами, с вязью фамилий, должностей... с писарскими ошибками и чуть ли не номерами делопроизводства — какой «детектив» это выдержит?! — а вы, читатель, глотая без отрыва эти документы страницу за страницей, всем существом своим чувствуете, что именно из этих-то описей ни одной строчки нельзя выпустить, потому что к сути романа они имеют самое прямое отношение.
Давайте же доверимся нашему читательскому чутью и скажем себе четко и ясно: при всем том, что у Богомолова ловят шпионов, при всем том, что роман его захватывает не хуже, чем самые проверенные бестселлеры, — никакой внутренней связи с этой динамичной беллетристикой все это не имеет, и место этому писателю надо искать в совсем другом ряду.
Он, собственно, и был — до появления романа: — безошибочно и прочно приписан нашим читательским сознанием к тому направлению нашей советской литературы, которое называется «военная проза», «фронтовая проза», «окопная проза», а иногда — реже — «проза лейтенантов».
Жесткая, лаконичная; черно-белая, почти аскетическая по краскам, подчеркнуто точная, технологичная по фактуре, тяжко-пристальная по психологическому наполнению — эта проза составила одну из самых ярких страниц нашей литературы 50—60-х годов. Бондарев, Быков, Бакланов... К этим трем именам мы привычно добавляли четвертое.
В этом конспекте надо искать место Богомолову. И место его роману. Здесь этот писатель оказывается в ряду близких ему прозаиков, на которых он похож.
И не похож.
Ибо именно в этом ряду обнаруживается то, ради чего единственно и стоит вдумываться в книги Богомолова (да и в книги вообще) — совершенно уникальное, как я сказал, его положение и совершенно неповторимое место в нашей литературе. Его опыт в нашем совокупном духовном опыте.
* * *
Не вполне обычен был уже его приход в литературу.
Осенью 1957 года никому не известный тридцатилетний ветеран войны, не имеющий никакого отношения ни к редакциям, ни к профессиональному литераторству, садится за стол и пишет повесть. Он посылает ее в журнал. Вернее, сразу в два журнала: по неопытности. Оба журнала, выловив рукопись, можно сказать, из самотека, решают ее печатать немедленно.
Появление «Ивана» вызвало поистине шквальный резонанс. Критика мгновенно и безоговорочно признала событие первостепенной важности. Со страниц журнала «Знамя» повесть шагнула в десятки сборников, антологий и хрестоматий, включая и «Библиотеку всемирной литературы». Между полной безвестностью и всесветной славой пролегли у Богомолова считанные месяцы. Ни первоначальной литературной «школы», ни «первых опытов», по которым критика пестует начинающего, ни характерного для многих писателей фронтового опыта мучительного возрастания над материалом... Вчерашний дебютант без переходов сделался знаменитостью.
И замолк.
Пять лет почти полного молчания — между чудом «Ивана» и циклом миниатюр 1963 года, сопровождающих вторую повесть Богомолова — «Зося».
Ни «Зося», ни эти рассказы не явились, на мой взгляд, новым словом в нашей прозе, и нише я объясню — почему. Но с точки зрения писательского пути Богомолова его рассказы 60-х годов могли показаться достаточным успехом. Правда, в откликах критики на них уже не било удивления, критика с удовольствием уложила новые произведения автора «Ивана» в тогдашнюю литературную ситуацию, они в нее хорошо вписались. Словом, Богомолов был еще раз признан — уже не как «чудо-дебютант», а как профессионал, прочно работающий в перспективном направлении.
Тогда Богомолов замолчал на десять лет.
Роман, появившийся после этого долгого молчания, не просто вернул имя Богомолова в центр литературных обсуждений — он вернул этому имени оттенок будоражащей необычности. Что-то «не просто» в этом романе, что-то «не как у всех». По фактуре — одно, но внутреннему ощущению — другое. И словно провоцируется в читателе какой-то заведомо ложный ход, без которого, однако, и проблема не решится... Иначе говоря, не случайно здесь ощущение «детектива» и «приключенчества», на опровержение которого я «потратил» начало этого очерка. Это вовсе не тот случай, когда писатель заключает «серьезное содержание» в «детективную форму», и надо, стало быть, только раскрыть эту «форму», как коробочку, или снять, как обертку. У Богомолова ничего не счистишь; противоречие здесь заключено в самой концепции человека, который намертво вбит в свое дело и вместе с тем — внутренне свободен.
Попробую прояснить это.
Пойду от странных внешних элементов богомоловской художественной системы.
Например, такой странный элемент — сквозь все книги Богомолова проходящий мотив... военного делопроизводства.
Вы вспоминаете первую фразу «Ивана»: «В ту ночь... я приказал разбудить себя в четыре ноль-ноль». Нормальная пунктуальность командирской речи? Да, так и казалось вначале. Но — эти перечни, похожие на параграфы наставлений: «Гранаты Ф-1... РПГ-40... проверка по «форме двадцать...» Эти сноски, сухо поясняющие терминологию... Весь этот холодновато прочерченный субординационный план: Иван действует по инструкции, Холин действует по инструкции; ему положено... мне не положено... И за тем — в «Зосе» — двести три совершенно одинаковых похоронных бланка, в каждый из которых рассказчик вписывает адрес, фамилию, инициалы, год и место рождения погибшего, а также дату гибели и место захоронения, — а за бумажками встают в его памяти лица убитых, и думает он, наверное, подобно герою «Ивана», что воевать проще, чем отчитываться, а уйти от этой отчетности не может... Бумажка, параграф, скоросшиватель — эти писарские атрибуты окрашены в нашей военной прозе неуловимо отрицательным отношением; есть, конечно, и другие варианты писания, овеянные славой: солдатский «треугольничек», донесение на обгоревшем клочке бумаги, блокнот военкора... Но это сплетение инструкций и отчетов, это методичное делопроизводство, эта бухгалтерия войны — нет, воистину Богомолов уникален: ни у кого вы не найдете такой сплошной, наброшенной на огонь сетки нумерованных деловых бумаг.
Я сказал: длинные выдержки из оперативных документов в романе Богомолова читаются с не меньшим напряжением, чем сцены погонь и перестрелок.
В чем секрет?
Ведь они же тормозят динамическое действие — эти телеграммы, шифровки, приказы, перечни, ориентировки, эти параграфы, пункты и формуляры!
Ведь замена «5 граммов» на «3 грамма изюма» в интендантской записке, цитируемой в самый разгар схватки, когда Таманцев «качает маятник», а Аникушин валится в траву, простреленный, — могут показаться авторской насмешкой, каким-то дьявольским стремлением «завести» читателя!..
А нет же!
Всем существом читательским, всею интуицией безошибочно чувствую, что в этих протоколах и скоросшивателях заключена для Богомолова какая-то точная правда бытия, не менее важная, чем исход «огневого контакта».
Л-ра: Дон. – 1977. – № 8. – С. 156-159.
Произведения
Критика