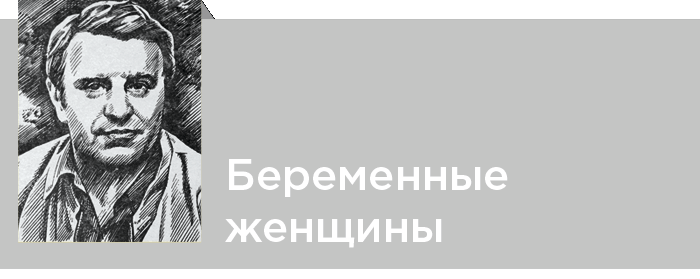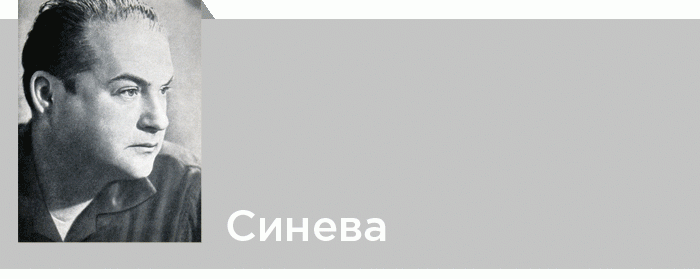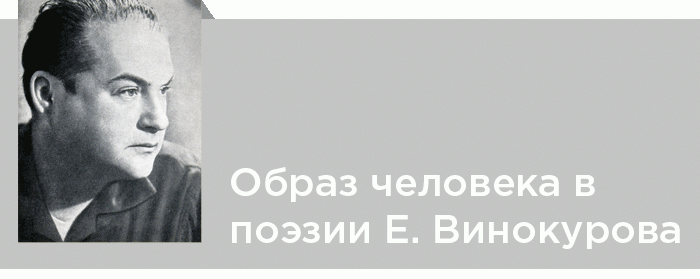«Нелёгкое стремленье к вышине...»

А. Михайлов
Евгений Винокуров возводит монумент человеку. На гранитном постаменте начертаны слова: «Я человек. Прошу, меня любите!»
Что же это — Человек с большой буквы или просто человек? В стихотворении, первую строку которого я процитировал, заявлено вполне определенно: «Я человек. И только лишь за это любить прошу». Подчеркнуто, обыкновенный, с веснушками на лице, с торчащей меж зубов сигаретой, он безоговорочно требует любить его, любить только лишь за то, что он человек, разумное существо, хранящее «внутри, на дне, во тьме, источник света».
Плоть и дух утверждаются Винокуровым в этом стихотворении, как данность. Концепция человека, казалось бы, внесоциальна, внеобщественна...
Но возвратимся к прежнему Винокурову, сначала самому раннему.
Припомним еще, что первая книга Евгения Винокурова называлась «Стихи о долге».
Винокуров пришел в поэзию прямо с марша. Позади остались солдатская казарма, окопы второй мировой войны, однополчане — люди долга и подвига. С ними были связаны самые сильные и значительные впечатления, с ними была связана биография. Винокуров был молод годами, но полон ощущением только что закончившейся войны, и он писал об этом по горячим следам событий, возможно, не очень задумываясь, чтобы соотнести свой опыт с опытом поколения. Это получалось само собой. В полном соответствии с правдой личного опыта было сказано им: «Я обмотки разматывал, словно перелистывал страницы солдатского дневника».
Поэт знавал когда-то солдата Колю, вспоминал о том, как вместе с ним пошли в бой, «и всех потряс его великим ставший подвиг». Читатели помнят «сознательного бойца» ефрейтора Дядина, бесконечно дорогого сердцу поэта, того, что играл Гамлета. Сержант Денисов тоже был «хороший парень»» он учил молодых солдат не только строю, но и жизни. И когда Винокуров видит воина, павшего в бою, застывшим в бронзе, то знает — перед этим памятником каждый из нас, не задумываясь, обнажит голову.
Под стать этим героям и лирический характер в стихах поэта: «Смерть неизбежно явится за всяким. О жизнь моя, как ты мне дорога! Но я умру когда-нибудь в атаке, остывшей грудью придавив врага»...
Герой первых книг Винокурова уверенно и просто вошел в жизнь своего поколения, он был близок ему, понятен, так же как близок и понятен был более старший, сильнее опаленный войною, жестче испытанный герой поэзии С. Орлова и М. Дудина, А. Межирова и С. Гудзенко, А. Недогонова и С. Наровчатова. Очень похожим на винокуровского был в то время лирический герой К. Ваншенкина, что объясняется и одинаковым возрастом поэтов и почти одинаковым личным опытом. Потом-то они разошлись, Винокуров и Ваншенкин, индивидуальность каждого обозначилась отчетливо, а на первом этапе шли почти рядом.
Лирический герой «Стихов о долге» был принят читателями и критикой, каков есть. И когда Винокуров уже в книге «Синева», оглядываясь на прошлое, пишет: «...в казарме, густо побелённой, я честно красоту искал», — а потом заключает не без грусти: «Скупой и тонкий дух березы в те годы я не понимал», — то из этого следует лишь один вывод: поэт стремится к полноте выражения лирического характера. Недаром же через десять лет после окончания войны, очутившись в безвестном полесском селе, он был поражен ясно-синими глазами жителей. В стихах Винокурова появляется омытый росою и осиянный солнцем пейзаж, появляется вкус к теме труда, к страсти рабочего человека. Любопытно, что человек на войне в его стихах уже предстаёт несколько иным, не чуждым красоте окружающего мира. Оказывается, «яростнее, чем потребность в пище, была у нас потребность в красоте».
Романтика солдатского строя, походов и привалов, живя в сердце поэта, дает место и любви, и жалости, и доброте. «Нас воспитала строгая эпоха» — в этих словах нет сожаления, есть достоинство и гордость. Но как выйти за пределы эмоционального опыта «строгой эпохи»? Это трудно: «А боль моя все прозвенеть не может сквозь трубный ритм железного стиха».
Постижение характера современника не только в его сути, но и в богатстве и многообразий проявлений дается Винокурову не просто, не без труда. Создается даже ощущение, что поэт нарочно испытывает себя разнообразными чувствами, словно примеряя одежду: подходит — не подходит? То он предается покою и лени, теплу домашнего уюта, то размышляет о доброте человеческой или пытается расшифровать язык птиц... То вдруг загорится желанием: «что бы такое веселое, звонкое миру сказать?» В «Признаньях», своей следующей, за «Стихами о долге» и «Синевой» книге, он обращается к народным истокам образа современника, к его национальной основе. Поэт ищет истоков в характере «отдаленного» прадеда, в характере дяди, который «был крутым солдатом, прямым большевиком», в характере революционеров, когда-то в десять дней потрясших мир... В поэзии Винокурова появляются и лирико-философские медитации общечеловеческого содержания. Тема их — совесть, любовь, честь. Они изящны, теплы, хотя поэт не избегает назидательности: «...Берегите лицо человеческое!»
Книга стихов «Лицо человеческое» стала для поэта важным этапом постижения человеческой природы. Винокуров как бы смешался с толпой людей и, пораженный её многоликостью; стал различать в каждом человеке лицо, одежду, цвет волос и кожи, привычки... Только ли эти внешние приметы? Нет, «лицо человеческое» — это и характеры, и думы о жизни, и, наконец, идеалы. Идеалы возвышенные. Он напоминает человеку: «А где ж твой дух могучий? А где же смертный труженика пот на лбу твоем, на лбу, где, как короста, раздумья борозды?» — и призывает его: «Тони, как злую муху, жужжащий быт». Жажда идеала является нервом следующей книга стихов — «Слово», отзвуки ее слышны в лирико-философских раздумьях книги 1964 года — «Музыка».
Если вы будете искать у Винокурова логическую стройность и последовательность в поисках нравственного идеала, то вы её не найдете. В одном стихотворении он убежденно говорит: тот никогда не поймет идеалов нашей страны, нашего народа, «кого ни разу не смогли пронять до слез слова «Интернационала». В другом его увлекает улавливание смутных ощущений. В третьей он убеждает нас, что, когда эти ощущений отстоятся, все станет очень просто.
Но вот вам стихотворение, ставшее известным: «Я частность презирал, подробность ненавидел. Огромный свет глаза мои слепил. Я ничего вокруг себя не видел». В этой гиперболизированной самооценке, конечно же, надо видеть новую программу на будущее, поэтический принцип, как будто бы опровергающий многие обобщенные стихи той же книги «Слово».
И в «Слове» и в «Музыке» поэт все время в напряжении, он перебирает разные ключи к вечной загадке бытия, к человеческому характеру, он мыслит в стихах: то парит в высотах общечеловеческого, то останавливает взгляд на складках солдатской гимнастерки, запечатленных фотообъективом, уверяя, что именно эта подробность будет иметь решающее значение через тысячелетие, чтобы установить: «Год сорок пятый. Май. Двадцатый век».
Почуявший однажды ледяное дыхание смерти, потрясенный подвигом людей, которые шли на смерть во имя победы, Винокуров на долгие годы увлекся загадкой человеческой души, остановился на этом «перекрестке», где, по выражению Б. Слуцкого, соединилось «простое и непростое»...
Обратите внимание, как, например, Винокуров обытовляет традиционный образ памяти — Мнемозины, которой издревле поклонялись поэты:
...На мой же взгляд,
Она всего подобье магазина, Универсального или, вернее, склад,
Где весело навалены на полки События за многие года.
Ошибочнее всего было бы видеть в этом приземлении, овеществлении высоких категорий прием или, тем более, желание эпатировать читательский вкус. Винокурову всегда была чужда сенсационность. В данном случае его увлекают поиски, конкретности. Память как абстракция может стать предметом обожествления. Когда же на нить памяти нанизываются подробности нарочито сниженного бытового плана — «облупленный... домик на Плющихе», — то из отношения к ним проясняются какие-то важные черты лирического характера.
Может показаться, что вот наконец Винокуров нашел свой путь к человеческой душе, что тут-то ему и откроется возможность прозреть общечеловеческое в индивидуальном. Отчасти это, наверное, так и есть. Но поэта не может удовлетворить частичность, его не покидают сомнения в плодотворности поисков, и он спорит с собой, опровергает себя или возвращается к себе прежнему.
"Для внешне спокойного и даже как будто рационального Винокурова эта непрекращающаяся внутренняя полемика не проходит бесследно. Он то и дело теряет обретенную было уверенность, ощущение твердой основы в быте и уже призывает (более всего, наверное, себя!) сберегать «внутреннюю музыку души», не заглушать ее «буднями и бытом!». Его волнует в музыке «призыв к свободе от земных оков».
Безумство доброго и злого начал в музыке захватывает поэта своим стихийным напором. Возможны ли соответствия этому в поэзии? Не отсюда ли начинается активная проба сил в верлибре? Да, он и раньше эпизодически приобщался к свободному стиху. В «Музыке» отдал ему щедрую дань, И вот что любопытно: Винокуров рвется в область стихийных человеческих страстей, но культура мышления, рациональное начало в конце концов побеждают. Стихия чувств остается желанной, но неподвластной винокуровской музе. «Как благодатно удивление! Как оно безумно!» — вот где раздолье для эмоций: ведь удивление (так названо стихотворение Винокурова) несет в себе стихийное начало! Именно из своих «удивлений» поэт собирается добыть «немного поэзии». Но обратите внимание, как быстро стихия чувства направляется в рациональное русло, как «безумное» удивление подвергается аналитическому расщеплению: «Сколько пользы можно добыть из его великой бесцельности!» Винокуров по природе своего дарования аналитик, он не может бездумно погрузиться в стихию, его, может быть, даже безотчетно порою влечет желание не столько испытать, сколько познать всю «бесконечную мудрость» удивления.
Если допустить вольное сравнение винокуровских ямбов с программной Музыкой, то, возможно, верлибры были попыткой отдаться музыке человеческого чувства. Но прочтите любое из выделенных курсивом стихотворений в сборнике «Музыка» (курсивом здесь набрано то, что написано свободным стихом), и вы непременно узнаете Винокурова, поэта, который с достаточным основанием сказал о себе: «Я чувствую разумность бытия». Высокая культура поэтического мышления характернейшая черта его творческой индивидуальности — прорывает оболочку стихийных страстей даже там, где поэт как будто бы вовсе не хочет этого.
Тем не менее винокуровские верлибры в «Музыке» чем-то существенным обогатили его опыт.
Несет характер по кривой Оторопелого иного.
Об столб удалит головой —
И тут же все начнется снова,—
В полет! Уже и сам не рад!
Опять свистящими кругами.
«Такой характер! — говорят.—'
Что делать?!» — разведут руками.
Стихия чувств сопряжена с психологией. Критик Эд. Бабаев сделал верное наблюдение, что Винокуров — после стихов бытовых и философских — обращается к психологии. Мне бы хотелось добавить к этому, что психологическая основа характера и раньше в какой-то мере не была чужда поэту и многие стихотворения, вошедшие в книгу «Музыка», только были своеобразной пробой сил в постижении наиболее сложных сторон внутренней жизни человека.
Винокуров не раз в бессилии опускал руки перед загадкой человеческой души: «Характер, изогнутый, как лекало, был абсолютно непостижим». С какой стороны подойти к человеку, как проникнуть в тайное тайных? Увы: «Люди стесняются, что они не ангелы». И даже «Я» поэта не менее трудно постижимо, ибо «рентгеновский снимок», «анализы», «дневник» — это всего лишь постижение «себя второго».
«Но как я постигну себя первого?»
Загадки, загадки, загадки...
И вот сидит он, «тяжелодум», уперев в стол «металлом налитые локти», углубившись в поиски сущности, в поиски правды человеческого характера, и снова отчаивается, и в искреннем порыве восклицает: «О, если б стать умел я легким, как плавно я б тогда летел!»
А потом снова:
Жизнь — дьявольская штука.
Мне легкость не с руки: Ворочаются туго Тяжелые белки.
Такова ли природа его таланта? Мне кажется, да. Но Винокуров держит, что-то про себя, снова и снова оценивает другие возможности.
Надбровия нависли,
А я ведь не глупей!
Ах, мне пускать бы мысли — Бумажных голубей!
Тут уже напрашивается параллель: «И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас...» При всем различии индивидуальностей и конкретных целей главный принцип творчества утверждается общий.
Я занят только сутью...
Болотный пласт упруг.
Я налегаю грудью
На неуклюжий плуг.
Это программа, это вера поэта, это его стиль. Если Винокуров порою сходит со своей стези и скользит по накатанной дороге легкости, то да простится ему эта человеческая слабость! Альпинисты, штурмующие самые высокие горные пики, вынуждены иногда спускаться вниз, чтобы достичь новой высоты. У нас предостаточно поэтов, маршрут которых пролегает у подножия гор...
(В этом или другом месте, все равно, я должен сознаться, что сел за письменный стол, чтобы написать рецензию на новую книгу стихов Евгения Винокурова «Характеры». И еще раз убедился: сцепление в поэзии Винокурова таково, что не только одно или несколько его стихотворений подчас трудно рассматривать вне контекста целой книга, но и книгу трудно рассматривать вне контекста всего его творчества. Вот почему мне необходимо было, помимо общего интереса, вернуться к ранним книгам поэта.)
Итак, «Характеры» — новая книга стихов. Ее суховатое название концептуально. Убедив себя в том, что человек заслуживает любви и внимания, как разумное существо, от природы наделенное добрыми задатками, поэт как раз и провозглашает свою формулу: «Я человек. Прошу, меня любите».
Евгений Винокуров, сделавший для себя открытие, что жизнь по-настоящему осязаема и воспроизводима лишь в частностях и подробностях — в плоти своей.
Винокуровский лирический герой оказывается в бурлящем котле повседневности, он наделен многими человеческими страстями — дурными и хорошими, — он показан обыкновенным, затерянным в потоке людском, показан человеком, который «вставал во всей красе, подняв гранату перед дотом», и который способен «хихикать, как и все», над анекдотом, показан в великом и ничтожном, в спорах и согласии («Ну что ж, я в чем-то был неправ, — но в чем-то были вы неправы!»).
И все-таки герой Винокурова полностью не растворяется в людской массе.
Я, люди, с вами ел и пил...
Я, единица, не был дробью!
И все же род людской лепил Меня по своему подобью.
Но все ли устраивает Винокурова в этом состоянии? Нет. Это — обманчивое благополучие, внешнее благополучие. Оттенок горечи и осуждения возникает в тех строках стихотворения, где пробным камнем человеческих отношений становятся моральные критерии.
кивать, коль не согласен, даваться гладить по головке...
Я был затерян среди вас.
Вы люди. Но и я ведь — тоже!
Винокуров не сказал здесь: я — человек, я — личность. Но смысл последнего двустишия таков.
От исходного призыва любить человека только лишь за то, что он человек, поэт идет к утверждению активных нравственных критериев.
Утверждение высоких нравственных критериев личности стало одним из наиболее заметных мотивов современной лирической поэзии. Человек подымается ею на вершину духовной жизни общества, не растворяясь в нем.
Обобщение может показаться неоправданным, если не принять во внимание того, что «мы» затем переходит в притяжательное местоимение «мне», а там и в личное местоимение «я». Подтверждая свою общность с людьми («К чему отличия печать»), Винокуров исподволь выделяет из массы личность. Вот они, слова, как будто бы затерянные в длинном порядке строк:
Я, люди, с вами ел и пил...
Спал под шинелькою одною И одиночество купил Неимоверною ценою!
Одиночество, купленное «неимоверною ценою», читается у Винокурова как синоним самостоятельности, синоним личности.
Но этим, конечно, не исчерпываются пути нравственного испытания личности. Достаточно вспомнить хотя бы, с какой теплотой и вниманием присматривается к своим как будто бы незаметным персонажам (видите, о них даже трудно сказать: героям!) Б. Окуджава. Маляры, дворники, кондукторы, они несут в себе зерно той человечности, которая — лиши их своего дела — остается как «недокрашенное что-то, как неспетое — в груди...»
Поэзия требует от человека не только возвышения, заражает его не только безжалостной самооценкой героя и его нравственным максимализмом, она также стремится разглядеть сегодняшние критерии морали в самом человеке, вывести их изнутри, из обстоятельств самой повседневной жизни.
Евгений Винокуров ведет эту линию самостоятельно. Он видит человека в естестве, даже нарочито подчеркивает его обычность, его физическую непримечательность, а иногда и неприглядность, не боясь при этом показаться грубым, вульгарным. Он показывает его в обстоятельствах самой что ни на есть житейской будничности, и отсюда, с этих исходных позиций, без иллюзий, без торопливости, без забегания вперед — основательно, в тяжелых раздумьях, в преодолении некоторых привычных и уже устоявшихся в сознании представлений — начинает наращивать тот нравственный и духовный потенциал, который должен возвысить человека наших дней. Винокуров идет не от сложившихся формул морали, а от характеров, которые он подсмотрел в народе, в массе его. Это и есть его стезя в общей тенденции нашей поэзии и всей литературы.
Винокуровского героя движет жажда жизни, радость бытия – главная и всеобщая черта человеческого характера, дарованная природой: «Дай ему, бродяге и чудиле, на земле покуролесить всласть!..»
В другом стихотворений («Жизнь») поэт, развивая эту идею, делает такой всеобщий вывод:
Как дикари, что рушат тяжесть палиц На всех, кто только тронет их жилье,
Жизнь уничтожит всякого, кто палец Поднять, сердясь, посмеет на нее.
Принимая конечную формулу о победе жизни над смертью и разрушением, я не могу вместе с тем призвать удачным соотнесение диалектической закономерности с инстинктом дикаря к самозащите. Стихотворение «Шепелявы иль языкаты...» содержит невысказанный прямо призыв судить о жизни не по прописям, а проникать в самую гущу, туда, «где кастрюлек чад, там, где бабки тискают внучек, прижимают парни девчат». В целом у Винокурова ощущается известный пережим в сторону быта, где он упрямо ищет начала духовности. Но я вижу, как поэт совершает новый круг познания характеров и, стало быть, познания общества, как он начинает с дальних подступов и идет вглубь, и тогда значительнее и достовернее кажутся вынесенные из этой длительной разведки наблюдениями позитивные выводы.
В стихах Винокурова появляются очертания нравственного идеала. «Характеры шумят, как лес...», и каждый из множества — загадка, а иной — «как в суку волокна — странными витками».
Но средь всей этой кривизны Есть тот, что, гибель принимая,
Стоит, прищурясь, у стены Прямой. На свете есть прямая.
Он пытается понять психологию ученого, мыслителя («Мыслители»). И тут уже бытовая заурядность и неуклюжесть, физическая непривлекательность по контрасту уступают главному в человеке — дерзкой отваге, страстности, темпераменту.
Он мыслит! Он подъемлет щит.
Взял меч. Он плащ закинул пылко.
Он мыслит! Голова трещит От лобных пазух до затылка.
Рыцарские доспехи, которыми Винокуров вооружает мыслителя, прямо и точно говорят об идеале рыцарского служения науке.
Но опыт, и наблюдения позволяют ему от единичных характеров, отразивших свет идеала, перейти к обобщениям, увидеть в гуще людей романтиков, мечтателей, имеющих свою «сверхзадачу». Это ему, Винокурову, и дорого в людях, хотя он не декларирует своего пристрастия.
Винокуров писал раньше и сейчас не отказывается писать стихи, грубо говоря, назидательные, он обращается к читателю в повелительном наклонении («Любите плотность мира, теплоту земли. Пейзажам радуйтесь!»), но в тех случаях, когда в стихах сталкиваются характеры или вырисовывается нравственный идеал, поэт воздерживается от прямых авторских заключений. Иногда же он призывает читателя поразмыслить о психологии человека, сопоставляя два противоположных характера во внешне сходной ситуации.
Вот два человеческих типа, два характера — герой и ничтожество («Зеркала»).
В каждом живет «потребность отраженья», желание взглянуть на себя со стороны. Такова уж особенность человеческой психологии. Но как эта особенность преломляется в разных типах поведения? Герой смотрится в зеркало, «чтоб можно было лихо перед боем накручивать кудрявящийся ус». Слабость ли это человеческая? Возможно. Щегольство молодцу не в укор, а вот ничтожество, распластанное во прахе, хочет ли оно, уединившись, узреть в осколке зеркальца «лик нерукотворный человека»?
Думай, читатель, думай, хотя это не самая сложная психологическая загадка из представленных Винокуровым в «Характерах». Есть такие загадки, которые, пожалуй, и не разгадаешь. Для меня, например, так и остались загадкой начало и конец стихотворения «Ритм». В нем остроумно зафиксированы наблюдения и связанная с ними мысль, что «ритм правит миром». Но первая самостоятельная фраза: «Шоферы боятся самоубийц» — и концовка: «Но кто знает, что может прийти человеку в голову?» — не на шутку озадачивают.
Но продолжим о главном.
Повседневный быт. Подробность и частность. Человек из массы, из гущи народа, человек в обыденных обстоятельствах, прочно привязанный к ним. Поиски нравственного идеала. А теперь: «гармония и дисциплина друг другу в глубине сродни». К такому сопряжению обобщенного характера Винокуров приходит, вспоминая армейскую музкоманду. Может быть, в этом афоризме заключено зерно искомою идеала, может быть, именно диалектическое единство этих двух начал вполне удовлетворяет требовательного Винокурова?
Снова приходится ответить: нет.
Винокуров, столь внимательный к окружающему человека быту, к его подробностям, от сапог у двери в нашлепках темно-рыжей глины до лифчика на спинкё стула, словно спохватываясь, прозревает «мир вечности, полет времен», его снова мучает неудовлетворенность собою, масштабы обычной жизни кажутся ничтожными, и душа рвется в беспредельность мироздания.
О, если б воспарить над бытом, Подняться бы, восстать над ним!
И выйти на вселенский стрежень,
И в беспредельности кружить,
Где в воздухе, что так разрежен,
Нельзя дышать, но можно жить.
В «Характерах» это стремление порвать ограничительные условности сказалось в трогательной истории школьных лет («Побег с урока»). Озорно и весело переданное ощущение мальчишки, удравшего с урока и ослепленного сиянием свободы, вызывает неожиданную своей смелостью аналогию: «Вот так ходили в перепалки! Так погибали на кострах!» А дальше — о самом себе:
Примкнувший к трепетному стягу,
Я больно чувствую в себе Преступную, по сути, тягу
К неразрешенной синеве.
Да, не прост Винокуров. В его пристрастии к обыденности нет постоянства. Подумайте, прочитав «Побег с урока», так ли уж преступна «тяга к неразрешенной синеве»? Поэт хитрит, заманивая нас в лабиринты человеческой психологии, бросая нам готовую формулу осуждения, а на самом деле сочувствуя этой кружащей голову страсти.
Вот еще одно стихотворение, уже не связанное с воспоминаниями о детстве, а непосредственно запечатлевшее раздумья поэта.
Не знаю, для чего дано и мне
Нелегкое стремленье, к вышине...
И как меня бы до земли ни гнуло,
И как бы ни давил вселенский крен,
И как бы ни склонялся я сутуло,
Лицо свое упрятав меж колен, —
Я встану, разогнусь и протяну —
Зачем? — не знаю, — руки в вышину.
Тут и прежний Винокуров с его философическими экскурсами в сферу общечеловеческого, и сегодняшний, не раз декларировавший «Я славлю обычное», подтверждающий это многими превосходными стихотворениями, пугающийся беспредельности, но все-таки рвущийся к высотам человеческого духа, и, я думаю, будущий Винокуров, не исчерпавший этого своего стремления и создающий для него прочную земную основу.
Он, конечно, лукавит, когда говорит. «Не знаю, для чего дано и мне нелегкое стремленье к вышине...» Знать-то он знает, потому что без - этого «стремленья к вышине» и на земле-то жить незачем. И все, что он видит на земле, чем живет, во имя чего работает, — все это ради возвышения человека, ради высоты его духа.
Мир обозревается с разных точек. И даже сидя в разваленной ремонтом квартире, обозревая ее неуют, поэт мысленно переносится в просторы вселенной, задает себе вопрос: «Не так ли распадаются миры, чтоб снова стать когда-нибудь мирами?» Он уверен, соотнося свое пристрастие к житейским будням со стремлением к «вышине», что в «мире сможешь многое понять из этой самой глуби неуюта».
Да, надо пережить разные ощущения, и если задумываться над ними, то они обогащают представления о целом мире, а не только о себе в мире.
Евгений Винокуров подчеркнуто личен. Он везде говорит от своего «я», повторяя это местоимение даже как будто слишком часто. Мне приходилось слышать, как его обвиняли в «яканье», подсчитав количество «я» в книге стихов «Музыка». Не хочется здесь приводить всем известный ответ Маяковского на подобные упреки, но в новой книге «Характеры» Винокуров сам ответил на них стихотворением, которое так и называется — «Я».
Утверждая личность человека, его право иметь свое «я», поэт не мыслит его существования вне общества или в противопоставлении обществу.
Но обречен я был бы на молчанье,
Когда вокруг бы не были друзья,
Отец и мать, жена, однополчане,
Попутчики.
«Мы» состоит из «я».
«Я» — это личность, естественное состояние, дарованное человеку природой: «Оно во мне. Оно одним ударом в меня по шляпку вбито, словно гвоздь». Это и так и не так. Природой оно даровано, как возможность, но личность утверждается волей и характером человека.
Теперь можно еще раз возвратиться к винокуровскому монументу и прочесть надпись на его основании: «Я человек. Прошу, меня любите!». И мы увидим в его герое многие привлекательные черты характера нашего современника, подмеченные в будничной сфере общественного бытия, имеющие социальную окраску.
Винокуров почти, как правило, не дает им прямой социальной оценки, не соотносит прямо с общественными идеалами, начертанными на нашем знамени. Он заглядывает туда, где в немалых трудностях, в диалектическом переплетении дурного и хорошего, в борьбе вызревает зерно новой духовности и новые идеалы поселяются в душах людей. Таков, в представлении Винокурова, пафос нашего развития, нашего общественного прогресса.
В представлении Винокурова поэт не должен пренебрегать любой возможностью постижения души человеческой. Хотя он с грубоватой откровенностью представляет иногда свое «я» в непривлекательном свете, но цель его — завоевать доверие читателя к позитивной стороне характера лирического героя. В стихотворении «Откровенность», оглядываясь на прошлое, вспоминая детство (один из любимых приемов Винокурова — это сравнительное исследование движения характера), он почти с восторгом говорит о том, как во мраке сеновала друзьям «душу открывал». Потом произошла резкая метаморфоза: «Как дом аршинными гвоздями, себя я наглухо забил». Вот так, без всяких объяснений. Когда и почему — это на размышление нам...
И все ж, хоть в жизни съел собаку, Сказать хочу я: не крути
И не хитри, — рвани рубаху С веселым треском на груди!
И человечеству на милость Вдруг сдайся: вот моя вина!
И чтобы исповедь дымилась, Кровава и обнажена.
Какие сильные строки! Какая обжигающая метафора, и какой высокой концентрации чувство выразилось в ней! Надо сказать, что подобные эмоциональные взрывы у Винокурова, неторопливого и основательного аналитика, очень заразительны. Во-первых, потому, что они не часты, а во-вторых, — и пример тому «Откровенность», — что они органично подготавливаются развитием лирического сюжета.
Пафос познания человека ведет Винокурова в самые глубины его психологий, чтобы обнажить даже то, что есть в нем первобытного, отталкивающего, но что также существенно в диалектике души. От глубоко затаенного, низменного, уродующего психику и отравляющего нашу жизнь до горных высот человеческого духа — такова амплитуда винокуровских «характеров».
«Давно люблю обычные слова, которыми на улицах толкуют...» — признается Винокуров. Именно «в обычной речи» поэт ищет и находит «глубину», отражение существенных сторон бытия. В какие бы высоты интеллекта ни проникал поэт, его речь сохраняет в себе демократическую основу.
Эстетика обычных слов подкрепляется в поэзии Винокурова своеобразным, также подслушанным в обычной речи синтаксисом. Но это основа. Поэтический вариант разговорной речи является результатом тщательной и, видимо, мучительной работы над словом («Косноязычье мучило меня»). Винокуров стремится предельно уплотнить поэтическую строчку, он любит короткие фразы, ограничивает употребление глаголов. В одном ряду у него обычно встречаются разные синтаксические конструкции. С одной стороны, это затрудняет чтение, строка не звучит плавно, дыхание прерывисто. С другой — достигается редкий сплав живописи и лирического чувства.
Стихотворение очень характерно короткими фразами и разнообразием синтаксических конструкций, оно хорошо читается в контексте книги «Характеры», где не раз совершаются прорывы от заурядного быта в беспредельность. Здесь они сопоставлены в рамках одного стихотворения. Если, как это сейчас нередко делают критики по отношению к Винокурову, искать здесь философию, то ее, вероятно, не найдешь. По крайней мере в прямом выражении. Поэт пишет о жизни, осмысливает ее в разных проявлениях, представляет в картинах, любит живописать, и взгляды поэта, его философия находят выражение не только в стихотворных формулах или запоминающихся афоризмах (они есть в стихах Винокурова), но во всей системе идей, картин и образов, которыми богато его творчество.
Поэзия Евгения Винокурова в движении. Он не повторяет себя из книги в книгу, а идет к постижению новых и новых сторон жизни, особенностей психологии, многообразия человеческих характеров. Не все, напечатанное им в последние годы, выдерживает высокий критерий истинного, наверное, поэту можно было бы взыскательнее отнестись к себе при составлении «Музыки» и даже «Характеров».
Мне же хотелось проследить движение поэта к «Характерам», и это опять-таки не прямая линия от точки А до точки Б. Но развитие поэзии Винокурова к его новой книге при всей сложности и подчас полемике с самим собой имеет внутреннюю последовательность постоянного поиска. В Винокурове долго вызревало и вызрело убеждение: «Есть смысл в поэте только лишь босом...» Но его ни на час не покидает «нелегкое стремленье к вышине...».
Л-ра: Знамя. – 1966. – № 5. – С. 221-229.
Произведения
Критика