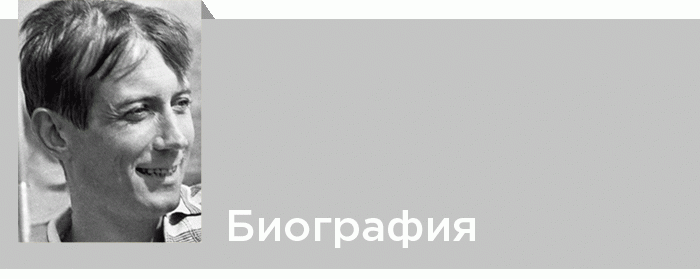В поисках истины. Заметки о романе Е. Евтушенко «Ягодные места» и не только о нем
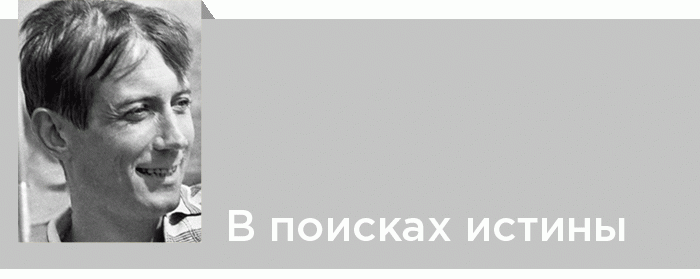
Ю.
Суровцев
«Я так люблю, чтоб все перемежалось!»
Этой строчкой из давнего (подумать только, двадцать семь лет назад это было!) шумливо-декларационного стихотворения Евгения Евтушенко «Пролог» (сколько эдаких «символов веры», заявлений и заверений выходило тогда из-под его пера!) я и хочу начать разговор о «Ягодных местах». Люди из тех, 50-х, помнят, конечно:
Я разный —
я натруженный и праздный.
Я целе-
и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю, чтоб все
перемежалось!..
И столько разного во мне
перемешалось...
Ну, и так далее — с молодым, как говорится, задором. И с едва ли не нарочитым прицелом на то, чтобы вызвать вокруг себя водоворот разноречивых contra и pro (contra некогда было больше, потому и ставлю это слово первым).
Прошло с той поры много, уже очень много лет. Доныне Евтушенко-поэт не хочет да и не может, по природе своего дарования, отказаться от учительских интонаций, когда пишет о себе, опирается на свой опыт. Однако дидактические самовыражения-декларации теперь у него иные, чем прежде, а «перемешанное», противоречивое в собственном душевном опыте пусть, может быть, не полностью, но в существенной своей части «отстоялось». Тут дело не в биологических возрастных ритмах, а в живой душевной отзывчивости поэта — самой сильной и могущественной его страсти, — отзывчивости к меняющемуся миру, что влечет за собой незакоснелость и его сознания, а потому его нежелание повторять свои прежние «формулы».
Не отринуть их теперь напрочь, нет, не повторять!.. Например, полнота жизневосприятия, стремление охватить глазами своими и принять в сердце свое неисчислимое человеческое многообразие мира, принципиальная разомкнутость, безудержное актерство перевоплощения (семнадцать лет спустя после «Пролога» поэт воскликнет: «...Быть собою мне мало — быть всеми мне дайте!») — это оттуда идет, из молодости, как завет на всю жизнь, и завет, постоянно исполняемый. Но вряд ли нецельность человеческую, намешанность себя «всяким» он найдет теперь, как раньше, «огромной ценностью». Пришло время, и не одно только личное время, стать разборчивей и, прямо сказать, серьезней.
Ну, а прежняя евтушенковская озорная мысль-эмоция, мысль-вскрик: «Я так люблю, чтоб все перемежалось!» — вспомнилась мне здесь потому, что это ведь будто заранее (и точно!) сказано о «Ягодных местах», о списке действующих (и поминаемых и косвенно затрагиваемых) лиц... И даже о композиции данного произведения.
В нем и впрямь «перемежаются» различные времена, от дореволюционных до неких будущих, а в неизбежных для нынешних романов ретроспекциях, воспоминаниях, параллелях и т. п. количество временных «слоев», еще более дробясь, увеличивается, так что и евтушенковские «Ягодные места» строятся, подобно романам Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, А. Ананьева, О. Гончара, Л. Первомайского, Н. Думбадзе, В. Лам и т. д. и т. д., по хронологической вертикали, как некая многоэтажная конструкция, некая, если угодно, этажерка временных плоскостей, на каждой из которых разыгрывается свое действие, — в целом же осуществляется некое общее по замыслу движение.
В «Ягодных местах» живут и переживают студенты советские и студенты американские; лихие сибирские шоферы; вдумчиво философствующие при свете костров геологи; милые доверчивые чалдонки, девушки и «бабы» (много у Евг. Евтушенко в прозе, как и в стихах, женщин хороших и разных, точней, по-разному хороших). На какие-то мгновения (однако важные для авторского смыслового монтажа) мелькнут в повествовании «широко известный в узких кругах салонный поэт»; директор завода, не потерявший пролетарской моральной закваски в отличие от своего снобистски и карьеристски настроенного сынка, который такой закваской не обладает; на двух-трех страничках возникнут публицистически остро поданный анонимный американец-«менеджер», хозяин рок-группы «Хвостатые» и прямо названный президент Чили Сальвадор Альенде в предельно напряженные августовские дни 1973 года, за три недели перед тем, как «Пиночет отдаст приказ о бомбардировке президентского дворца...»
В романе Евг. Евтушенко много судеб, много, таким образом, романов, показанных или рассказанных более подробно. Среди основных, «сквозных» персонажей — начальник геологической партии Коломейцев (добро должно быть с кулаками, вот оно здесь и выступает, однако человек такого плана, с «глазами, наполненными волей», многого не видит вокруг себя, чем себя духовно обкрадывает по части гуманности и другим может принести и приносит вред...); есть тут и некогда «сибирский пролетарий Тиша Тугих», постепенно скатившийся до должности «ягодного уполномоченного», выгодной для прожигания жизни втихаря, для примитивно-потребительского жуирования, а по физическому и нравственному облику — до «сборного» («перемешанного»?), то есть двуличного, человека; запомнятся нам — среди главных героев — и безымянный дядя со станции Зима, дядя космонавта, по-отцовски взрастивший парнишку-безотцовщину, т. е. самого космонавта (этими двумя фигурами открывается роман, верней, его «эпилог», почему-то, для шику, что ли, переброшенный в начало, вместо пролога); и тихий «старичок-грибничок» Никанор Сергеевич Бархоткин, трудной биографии старичок, художник по натуре своей, радетель интеллигентности в людях («душа добра само главно, но без образования она слаба. А душа злая чем образованней, тем страшней, — сказал грибничок...»). А в прологе, опрокинутом в конец повествования, появляется реальное знаменитое лицо: Циолковский Константин Эдуардович, великий калужский мечтатель Птица, как называли его мещане и люмпены дореволюционной Калуги, и не просто появится, а будет разрешать, по-современному говоря, весьма острые нравственные «пограничные ситуации», и разрешать сходно со «старичком-грибничком». («Нет, господин Семирадов, — продолжает Циолковский спор о человеке, о его подлинной интеллигентности, — человек не остановится в своем развитии. Тем более, что ум давно подсказывает ему его нравственное несовершенство. Пока животные наклонности сильнее, и человек не может их одолеть. Один разум без воли — это ничто, и одна воля без разума тоже ничто...»)
Не удовлетворившись, однако, этими дерзостными сочетаниями столь различных персонажей, Евг. Евтушенко (еще бы, фантаст, автор невероятной «Ардабиолы»!) в том же перевернутом прологе-эпилоге вводит еще «два незримых существа», «два лучистых атома», они же «крошечные сограждане» Ы-Ы и Й-Й из «Галактики Бессмертия», посланные в разведку на Землю Советом Совести, «в который входили сами галактиане, а также представители животного мира, деревьев, гор и облаков». Вот уж это, мне кажется, такой всплеск неугомонного авторского воображения, который совсем выплескивается из повествования с его разнохарактерной, но не разбегающейся кто куда толпой персонажей, с его неоднолинейной, однако, вовсе не хаотичной стилевой организацией.
О ДВУХ ЛИРИЧЕСКИХ стихиях (У ЕВТУШЕНКО И НЕ ТОЛЬКО У ЕВТУШЕНКО)
Произведение такого типа, который явлен нам «Ягодными местами», не могло не быть написано. И именно Евгением Евтушенко.
Дело опять-таки не в том, что лета склонили его к «суровой прозе»: Евтушенко со всей неистовой интенсивностью продолжает творческую связь с «шалуньей-рифмой». Дело тут в самом характере его поэзии, его лирики, изначально, с первых же шагов направленной вовне, вбирающей в свое внутреннее максимум впечатлений из внешнего мира.
Литературоведы, умудренно качая головами, говорят в таких случаях об эпичности, об эпизации лирики (бедные слова «эпос», «эпичность», «эпическое начало» — к чему только их не применяли и не применяют!). Между тем по крайней мере такой же, если не большей правдой было бы сказать — в случаях, подобных «казусу Евтушенко», — о лирическом преломлении объективной действительности, о лиризации начала эпического, то есть, по древнегегелевским классификациям, начала отстраненного, дистанцированного от души лирического поэта.
«Людей неинтересных в мире нет» — и это была не констатация «спокойного эпоса», не его начальный рубеж работы, афоризм вызван был лирической, эмоционально-взвихренной жадностью поэта — «подслушать сразу всех, всех сразу подсмотреть», а потому звучал у молодого Евтушенко важным, пусть и предварительным, итогом — нравственным и творчески-эстетическим. Потому что и через этих «всех», самых разных людей, хлынувших сразу же в стихи Евтушенко, он тоже выражал себя, и часто лучше и проясненней говорил о себе, о своем (употреблю литературоведческий, тоже подчас вкривь и вкось употребляемый термин) «лирическом герое». Отнюдь не всегда он один у поэта-лирика, его «лирический герой», но не о том я сейчас веду речь, а о том, что в лирике Евтушенко всегда и с самого начала присутствовали, в сплетениях друг с другом, «субъективная» (даже до нарочитости!) медитация про самого себя, замкнутая на себе (припомним, насколько часто евтушенковскую монологическую лирику самоуглубления и откровенности упрекали в эгоцентризме), и стихи-портреты «других» людей, через отношение к которым раскрывался и сам поэт.
Конечно, проблема соединения, сочетания этих двух связанных друг с другом, нередко конфликтующих и всегда друг другу необходимых стихий «субъективного», «внутреннего» и «объективного», «внешнего», не есть творческая проблема именно и только Евтушенко.
Эпически-величавый Гете имел в виду и лирику, когда поделился с Эккерманом общим законом поэтического творчества: истинным поэтом вправе называть себя не тот, кто разрабатывает «свои скудные субъективные ощущения», по сравнению с объективным миром любые наши ощущения себя самого будут скудны, потому задачи истинного поэта будут решены, когда он «подчинит себе весь мир и сумеет его выразить. Тогда он неисчерпаем, он вечно обновляется...» Один из самых больших и самых мятущихся «субъективных» талантов русской поэзии, Марина Цветаева, признавалась: «Я недавно читала в каком-то письме Достоевского о его скуке и перенапряженности без внешних впечатлений. Если он томился по внешнему: людям, видам, зданиям, — все равно! — как же не томиться мне!.. Голова устает думать, душа чувствовать, ведь при отсутствии внешних впечатлений, и та и другая живут исключительно собой, собой без повода, в упор, целиком собой».
Лирик может жить, творчески существовать «собой без повода, в упор, целиком собой», — но эго в ущерб его лирике. Не случайно Цветаева советовала другому огромному «субъективному» (близкому себе в этом) лирическому таланту — Борису Пастернаку писать «большую вещь». Иначе: «Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь». «Лирические стихи (то, что называют) — отдельные мгновения одного движения: движения в прерывности. Помните в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем — рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь — двигается. Лирика — это линия пунктиром, издалека — целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между точками — безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете.
В книге (роман ли, поэма, даже статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди — судьбы — души, о которых пишешь, хотят жить, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят!»
У Евтушенко в лирике почти не ощутима та «линия пунктиром» — пунктиром, состоящим из лирических излияний-«умираний», — о которой писала Цветаева. Поучительно, интересно перечитывать у Евтушенко сборники избранного, например, его двухтомник, изданный в 1975 году «Художественной литературой»: это «линия» почти непрерывная, смонтированная из отдельных элементов, состыкованная отчасти самоповторениями. Это лирический роман души, тоже мятущейся, хотя, конечно, иначе по историческому смыслу, глубине и стилевым интонациям, чем цветаевская. А рядом с этой субъективной («лирического героя») «линией» своеобразного романа о себе разворачиваются многочисленные и тоже лирические, ну, пусть уж лиризованные, портретные сюиты Евтушенко: изображение характеров людей, встреченных на жизненном пути быстроногим «лирическим героем», запавших в его память, царапнувших его за сердце, и часто настолько сильно, что он прекращает свой бег, останавливается, взглядывается и вдумывается, сопереживает и затем воплощает это обдуманное и, глазное, сердечно-сопережитое в стихотворения-портреты с автопортретной «подсветкой».
И вот эта-то «линия», эта форма воплощения своего художественно неукротимого интереса к людям, к миру, эта лирическая же, но не на сугубо автопортретный манер, страсть вела Евтушенко, неуклонно и естественно, к книге (в цветаевском понимании слова) — к «роману ли, поэме ли, даже статье!».
Припомним, как «сбивался» в поэме «Братская ГЭС» Евг. Евтушенко с пути лирико-публицистических монологов, произносимых противостоящими друг другу символами (древнеегипетская пирамида — наша советская электростанция) на «портреты» — судьбы: сироты Соньки, инженера-гидростроителя Карцева, «диспетчера света» Изи Крамера, бетонщицы Нюшки Буртовой, безымянной бабушки с жарками в руках и фамилией не обозначенного Ивана Степановича, солдата на войне и после войны; как Евтушенко вводил в эту свою поэму исторические «вертикали», стремясь оживить перед читателем образы Стеньки Разина, декабристов, Чернышевского, молодого Ленина, Маяковского (из исторических «портретов»-звеньев составит затем Евтушенко поэму «Казанский университет»); вдумаемся еще и в композицию повести в стихах «Голубь в Сантьяго» — два параллельных, смонтированных не всегда накрепко, но внутренне перекликающихся романа-судьбы, — припомним все это, и не найдем ли мы тогда, что принцип «портретной» сюитности, многолюдья и композиционно-временных перекличек-параллелей в поэмах и лирических (пусть без названия) «циклах» Евтушенко, например, в стихах-воспоминаниях «зимпнских», из детских лет со станции Зима, оживленных памятью сердца в «дневниках» путешествий, стихах «печорских», «ленских», американских, вьетнамских, итальянских, испанских и пр. и пр., стихах, лучшие из которых всегда, наряду с внешним планом содержат план внутренний, иногда автопортретный, иногда портретно-символический, — не найдем ли мы тогда, что «Ягодные места», написанные прозой, предвосхищены, прямо-таки запрограммированы были евтушенковской поэзией?
Ну, а что касается перекличек в деталях, ситуациях, особенностях типажа, то их, как говорится, черпай обеими горстями. Перечитайте двухтомник 1975 года издания под этим углом зрения, то есть сопоставляя с текстом романа, перечитайте, начав с первых шагов, с младых ногтей поэта-портретиста, и вы убедитесь, увидите, как оживают, развиваясь, обогащаясь самостоятельностью эпического, вне автора протекающего существования своего в романе, так сказать, на новом жанровом витке этого существования, характеры и стилистический «воздух» стихотворений-«портретов» и стихотворений-«случаев», таких, например, как «Фронтовик», «Кассирша», «Настя Карпова», «Изба», «Баллада о выпивке», «Деревенский», как «Застенчивые» парни» (эта злая плакатно-«портретная» сатира на молодых карьеристов, которые «стесняются мерзавцами не быть» развернулась в романе в «растиньяковском» характере беспощадно проанализированного автором Игоря Селезнева).
В «Ягодных местах» получают развитие прозаически более точные, представляемые зримо пейзажи: сибирски-таежные, городские, «заграничные» — они порой тоже, как и в стихах, сделаны броской, быстрой кистью, или, если угодно, фотокамерой, движущейся с автомобильной скоростью (подобно картинам из «Пролога» в «Братской ГЭС»):
И снова я вбирал, припав
к баранке, в глаза неутомимые мои
Дворцы культуры.
Чайные.
Бараки.
Райкомы.
Церкви.
И посты ГАИ.
Но чаще все же, в соответствии с законами прозы, взгляд автора романа не столько резко-бросок, сколько внимательно-зорок. Эта атмосфера внимательности к людям и природе особенно плотно обволакивает антагониста Игоря Селезнева, Сережу Лачугина — светлого, доброго, ясного парня, который «не хотел быть сыном академика Лачугина»; вместе с друзьями постарше открывает он, молодой геолог, мир в больших и малых его конфликтах, не теряя из виду больших да и малых очарований этого мира.
Не удержусь, процитирую: «Разные люди могут сидеть у костра, и для каждого из них костер тоже разный. У костра лицо наших мыслей... Когда у костра молчишь, то все равно разговариваешь с ним глазами, а он разговаривает с тобой потрескиванием сучьев, искрами, горьким дымком, и получается то, что не получается у людей, — вы оба одновременно говорите и слушаете друг друга.
Сережа Лачугин, увидев этот костер издалека, на повороте реки, вдоль которой он шел, улыбнулся: все в порядке, если есть огонь, и ускорил шаги, хотя под ногами было темно, и только ныряющая в облаке луна неуверенно освещала тропинку. Потом костер исчез из виду, затем появился снова, уже выросший и пахнущий сквозь деревья. С каждым Сережиным шагом очертания людей, сидевших вокруг костра, становились все четче, и, наконец, огонь стал вылеплять лицо за лицом из густой темноты».
Это добротная художественная проза. Точная. Стилистически емкая: в описании соединены незаметно «точки зрения» персонажа, вполне в духе данного характера, и автора, склонного порассуждать лирически. Последняя фраза из цитированных двух абзацев несет вне видимого авторского намерения смысл почти символичный: огонь жизни с каждым самостоятельным шагом юноши делает других людей более освещенными, ясными для него, — вот так незаметно, как бы невольно и создается в подлинном искусстве глубина, неоднолинейность смысла.
Такой прозой и написаны лучшие страницы «Ягодных мест», и ее подготовили, повторю еще раз, лучшие страницы поэзии Евтушенко.
Для того, чтобы взяться за широкое — многофигурное и многоплановое, «объективное», эпически-развернутое, дистанцированное от авторской субъективности — прозаическое произведение, Евг. Евтушенко должен был развить в себе не только дар перевоплощения, необходимый для эпического писателя, но, конечно, и дар масштабного и одновременно столь всегда ему присущего конкретного видения жизни. Это развитие исподволь происходило в нем, проявляясь наиболее, пожалуй, зримо в стихах «зарубежной» и собственно исторической тематики, а в лирике самораскрытий, авторефлексий усиливая мотивы постижения диалектичности и сложности человеческого бытия. Не наивная, перемешивающая все и вся нецельность души (болезнь ее роста!), а жажда умудренного понимания разнообразия людей и явлений и вместе с тем активно осуществляемая опора на проверенные и обновленные нашим, советским опытом жизни общечеловеческие этические ценности, традиции, идейные оценки — вот что определяет искания сегодняшней евтушенковской поэзии и атмосферу романа «Ягодные места»
Многочисленные персонажи «Ягодных мест», действующие в разных социальных макро- и микрогруппах, а также в различные исторические времена, не схватываются друг с другом непосредственно: такое сюжетно-событийное напряжение зреет и разрешается здесь только в пределах разношерстной геологической партии, возглавляемой Коломейцевым, и этот процесс созревания и разрешения противоречий между самыми несхожими людьми показан автором психологически убедительно и с реалистическим драматизмом. Но весь роман, все его густо населенное здание крепко скреплено этическими противостояниями: честность — нечестность, доброта — злобность, интернационалистичность — националистичность, радость за успехи товарищей — зависть к ним, бескорыстие, энтузиазм и самоотверженность людей, живущих во имя высоких целей, — своекорыстие жизни для удовлетворения «животного» в себе, в том числе мелко-чувственного, карьеристского, лицемерного, трусливого, и т. д. и т. п. Короче говоря: Добро — Зло, Человечность — Мещанство. Этическими полярностями такого рода люди разводятся в разные стороны, образуя противостоящие «лагери» и в социально-географических масштабах современного мира и в повседневном течении жизни внутри нашей страны.
Можно назвать эту атмосферу романа атмосферой этического максимализма — выражение, достаточно часто встречающееся сейчас в критике и оправданно частое, потому что в нашей нынешней литературе все активнее и бескомпромисснее выражается растущее внимание нашего общества к вопросам морали. Человеческие отношения на производстве и в быту, сложный внутренний мир личности, ее место на нашей беспокойной планете — все это неисчерпаемая область художественных поисков.
Чрезвычайно характерно для сегодняшних требований к человеку вот это соединение конкретно-близкого («в производстве и в быту») и, казалось бы весьма далекого («место на беспокойной нашей планете»), своего «цеха» и «семьи», но еще для каждого мыслящего человека своего же «государства», «общества», своей же глобальности «мира» в его нынешнем напряженно-противоречивом целом. На основе этого именно соединения разномасштабного, но внутренне взаимосвязанного своего происходит заметная сегодня активизация того направления художественных поисков, которое можно и должно назвать, и названо уже было, поисками истины — синтеза.
Повседневная жизнь личности внутри тех или иных социальных, профессиональных, демографических, возрастных и пр. микрогрупп — вот почва, скажем, для «производственной» или «бытовой» («антимещанской») повести или «романа воспитания» (молодого человека), даже и для повести, если можно так сказать, о «деревенских детствах» — следует, пожалуй, сделать оговорку о том, что на любом таком малом плацдарме могут быть созданы психологически и даже символически обобщенные образы-типы широкого, вплоть до общенационального, значения. А как бы на другом полюсе прозы — тоже разнообразный «политический роман» (повесть, драма, поэма...), где и почвой, на которой произрастают характеры персонажей, и предметом прямого авторского интереса становится чаще всего внешнеполитическая деятельность, межгосударственные отношения.
Эти «полюсы» — как раз не полярности! Сегодняшняя литература в целом, в особенности проза крупных форм, ищет соединения, синтезирования как многих разных сфер и участков жизни, так и многих «углов зрения» и «срезов» в изображении современной жизни, многомерно, многоаспектно воплощаемой жизнью духа, внутренним миром личности. Синтеза ищут на самых разных, магистральных и экспериментальных, путях. Назову хотя бы три направления, явственно заявляющие о себе... По пути последовательно сюжетного развертывания, широкоохватного художественного претворения многоликого «эпоса» реальной действительности (...романы Ф. Абрамова, А. Ананьева, В. Бубниса, О. Гончара, Г. Маркова, Ю. Мушкетика, П. Проскурина, И. Шемякина...); по путям и перепутьям реалистически-символизирующей «театральности», вплоть до фантасмагоричности (...Н. Думбадзе, М. Заринь, Вл. Орлов, В. Дрозд...); разрабатывая, наконец, разные монтажные композиции (тех или иных жизненных «сред», характеров, исторических времен). Они скрепляются не только, а бывает и не столько, романным развитием главных героев, но еще и активно заявленным, стилистически явственно демонстрирующим себя авторским этическим пафосом, что определяет весь «воздух», которым дышат и в котором только и существуют эти герои. Таковы — для меня по крайней мере — «Буранный полустанок» Айтматова, «Берег» и «Выбор» Бондарева.
Большая «портретная сюита» из множества этических мотивов и как бы конспективно (более или менее конспективно) данных судеб персонажей («романов»), картин-«очерков», драматических сцен, комичных «новелл», философизированных диалогов и т. д.— вот что такое для меня «Ягодные места». А держится эта книга на незримом, но нескрываемом авторском участии. Он сам нагнетает в свою книгу воздух времени и поддерживает, регулирует внутреннее его давление.
Лиризованный эпос?.. А почему бы и нет?
Ведь именно эту сторону дела тонко почувствовал Валентин Распутин, когда в предисловии своем к журнальной публикации «Ягодных мест» назвал их «агитационным романом в лучшем смысле этого слова». И продолжал: «Это соединившая в себе литературу и гражданственность (неловко «соединены» эти слова! — Ю. С.) агитация за все лучшее в нашем обществе, за все лучшее в человеке и лучшее в мире, когда мир за два-три последних десятилетия в несколько раз стал меньше, а в человеке открылись новые и, конечно, не только прекрасные высоты и глубины».
В СПОРЕ С ПРЕДИСЛОВИЕМ
...Но не только стилистически хочется «поправить» распутинское предисловие к роману. Цитированное — повторяю — верно по существу, хотя редактура здесь не помешала бы. С другими суждениями нашего известного прозаика, решившего дать — излишнее или нелишнее, не знаю, но во всяком случае доброе — напутствие нашему известному поэту (как менее опытному прозаику), полезно поспорить.
Для этого поцитируем еще...
«К сожалению, мы (как писатели, так и читатели) привыкли уже в литературе не только к устойчивым определениям жанров, но также и к неподвижным и малоподвижным формам жанров, когда роман, по нашим представлениям, может существовать лишь написанным по таким-то законам и единствам, повесть — по таким-то и рассказ — по таким-то». Суждение это довольно странное, ибо как раз нет у нас устойчивых определений, а практика художественная, сегодняшняя особливо, делает жанры именно подвижными, что тут же, в следующем абзаце, сам В. Распутин и утверждает, — утверждая, что даже в некоей «традиционной нашей прозе» нет «окостенения внутри себя».
Что же до законов жанровых, то они ведь есть, но не как навязанное нечто, а «изнутри», художественной практикой развитое и постоянно развиваемое. О природе повести споры идут жаркие (вот уж неустойчивый жанр!), а, скажем, для романа его жанрово-эстетическим законом признано, по-гегелевски выражаясь, самодвижение характеров, саморазвитие внутреннего мира личности. Можно представить себе роман без этого? Трудно, да и на нужно. Как не нужно, с другой стороны, отказывать в романном этом принципе иным повестям, иным драмам, иным киносценариям и т. д.
«Ягодные места» делают романом именно романные, изменчивые душевные эволюции таких главных персонажей, как Коломейцев, Сережа Лачугин и даже Тихон Тихонович Тугих, и романные сдвиги в душевном строе таких несквозных персонажей, как шофер Гриша, моторист Кеша, Каля, Юлия Сергеевна, Ксюта, Иван Кузьмич Беломестных, Иван Иванович Заграничный, а вместе с ними — и Константин Эдуардович Циолковский, и Сальвадор Альенде, тоже у Евг. Евтушенко отнюдь не статически-описательно данные. Романное начало не образует русла, полностью охватывающего содержание «Ягодных мест»; порою на первый план выходит именно портретно-лиризованная статика (Игорь Селезнев и его отец, например, или рок-группа «Хвостатые»), что и воспринимаешь как некое нарушение эстетической цельности книги, пусть не ломающее этой цельности полностью.
К этому вопросу мы еще вернемся. Пока посмотрим, что еще пишет о «Ягодных местах» Валентин Распутин. «Этот роман невозможно втиснуть в прокрустово ложе привычного и замкнутого представления о романе. Он шире, во-первых, по внешним признакам, его границы — государственные, географические, временные и земные — раздвинуты, и общая мысль поэтому объемнее; в этом отношении роман удивительно свободен и раскрыт, как может быть свободна, неожиданна и раскрыта сама жизнь». И еще раз, уже во-вторых, автор предисловия заметит: нет, мол, в «Ягодных местах» каких-то главных героев, «к которым мы тоже немало привыкли и вокруг которых и осуществляется движение действия и мысли (такие герои, к счастью для романа, в «Ягодных местах» все-таки есть. — Ю. С.). Героем здесь, насколько это позволительно, я бы назвал также жизнь с ее прошлым, настоящим и будущим — концентрацию главного в жизни, где ничуть не утеряны ее величие, тайна, сложности, маленькие и большие проблемы и где не забыт и так называемый простой человек, живущий на окраине Земли в глухой еще сибирской тайге».
Читатель сам без труда увидит сходное в восприятии «Ягодных мест» Валентином Распутиным и мной, а на расхождениях между нами по этому поводу есть смысл задержаться специально.
Суть их не в том даже, что наш известный и высоко ценимый мной прозаик не вполне логично выводит объемность «общей мысли» романа из раздвинутости границ изображаемого, которые он сам же относит к «внешним признакам». Суть как раз в том, что, на мой взгляд, это совсем не внешнее качество книги, а весьма внутреннее: это «перемежание» различных сфер и времен, как я о том уже говорил, есть проявление тяги Евг. Евтушенко к синтетическому видению мира, свойственному совсем не ему одному, а сейчас и по форме — стиль монтажа — все более набирающее силу в современных художественных поисках. И далее, суть расхождения моего с В. Распутиным: насколько «рекламно» предваряя евтушенковский роман, он хвалит собственно его замысел, но не исполнение. В моем восприятии как раз «общая мысль» романа оказалась недостаточно «объемной», недостаточно интенсивной при такой экстенсивной широте. Стремление к синтезу есть. Есть многосторонность, многогранность, комплексность, наконец, есть игра больших и малых масштабов, макро- и микроизмерений, крупных и общих планов (кстати, воздействие сценаристской монтажности, может быть, сказывается тут и по авторскому сознательному намерению).
И все же нет синтеза...
Ну, такого, скажем, как у Чингиза Айтматова.
Искусство всегда неповторимо, и было бы странным ждать от Евтушенко того же, что дал нам Айтматов. Но общепоучительный урок «Буранного полустанка» — в том, что в нем ощущается «романное» движение истории. Там не сопоставление времен, а контрапункт, в целом звучащий гармонически (при всех трагических диссонансах внутри каждой «партии», каждого «голоса», каждого временного «слоя». А вот в «Ягодных местах» историческая вертикаль (время дореволюционной Калуги Циолковского — наше время) больше напоминает лирико-публицистические сопоставления, вроде египетской пирамиды и Братской ГЭС. Если припомнить образ «этажерки», то у Евг. Евтушенко она скорее поставлена на бок, ее секции образовали горизонталь, и, вглядываясь в каждую, сопоставляя их, скорее испытываешь удивление: «Как разнообразен мир, и как много сходных нравственных вопросов решают в нем разные люди», — удивление, но не ответ на вопрос: «А куда же идет современный мир?»
А ведь этот вопрос витает в жизни и в желающей дать ее духовную концентрацию литературе синтеза. Евг. Евтушенко, всей атмосферой романа дав нам ощутить его, этот вопрос, не нашел, как мне кажется, большого философски-насыщенного, если хотите, философски-эпического сюжетного его разрешения. «Портретная» галерея-сюита создана добротная, во многих отношениях колоритная (характеры сибиряков прежде всего), и все же она только сюита. Причем с каким-то существенным, как бы пропущенным звеном.
Что же это за пропуск?
Мне представляется, что роман сильно выиграл бы, коли в его монтажном ряду заиграла бы яркими, звонкими красками, в каких умеет работать Евтушенко-поэт, тема созидания, тема свободного труда как самоосуществления социалистической (качественно новой в масштабах человеческой истории) личности.
Созидательность делает образ Циолковского в романе значительным, несмотря на довольно анекдотический антураж, его в романе окружающий.
Подлинно драматична история поисков касситерита Коломейцевым и его соратниками, их битва за этот ценный минерал — и все же этот сюжет больше помогает автору разоблачить шкурников и рвачей нахабкиных да ситечкиных, показать противоречивость нравственных представлений и поступков самого Коломейцева, который в общем-то с честью выходит из этой противоречивости, но творчески-созидательный потенциал, может быть, и таившийся в этом сюжете, не раскрылся в романе. Точно так же и сюжет Сергея Лачугина, его самопроверка, его развитие больше связываются с преодолением речных порогов, его моральным противостоянием Игорю Селезневу, Нахабкину, Ситечкину, но не его творчески-трудовым самоосуществлением.
Я вовсе не склонен советовать автору «Ягодных мест» — дал бы, мол, сцены трудового героизма или в многочисленных диалогах-спорах заставил бы героев поболе размышлять и говорить о работе, о том, как люди работают... Признаюсь, все это было бы вовсе не чужеродно в романе, и «Ягодные места» — это вовсе не обозначение глухомани какой-то, а метафора очень широкого, многослойного и опять же глобального смысла, и если я не даю автору советов такого плана, то потому, что знаю: он мог бы «придумать» и такое, и многое иное, чего я не «придумаю» за него и что тоже бы могло выразить великую тему непрерывности и качественного социалистического обновления созидательных, творческих начал во человечестве. Ведь именно этой «темой» и «определяется» в конце концов гуманистический (а не просто технический) прогресс.
И повторяю, жаль, что в оркестровой сюите Евг. Евтушенко она не прозвучала, как должно, при замысле автора — дать истину — синтез о человеке, времени, мире...
Заметки получились — я сознаю это — длинноватые. Но ведь и по названию их было видно: о «Ягодных местах» и не только об этом произведении. Да и о нем самом — не рецензионно-сосредоточенно, а в неких более разомкнутых контекстах, прежде всего контексте всей творческой судьбы автора: не подсчетом плюсов и минусов данного романа хотелось заняться, а попробовать понять, откуда он к нам явился, куда и вместе с кем «толкает» литературную творческую мысль.
Нам нужен синтез. Большой художественный синтез — в социальном, историческом, психологическом, конкретно-бытовом, национальном, интернациональном и т. д. аспектах. Литература сегодня взыскует его, как никогда, активно. Евг. Евтушенко никогда не был в арьергарде нравственных и художественных поисков, хотя и не всегда удовлетворял результатами своих поисков взыскательный вкус. «Ягодные места» куда сильнее доказывают первую часть этой фразы, хотя кое-чем подтверждают справедливость и второй части.
Не будем задерживаться на этой второй части. Будем признательны автору за сильные стороны его труда.
И будем верить в его завтрашний, может быть, полный успех в поисках истины-синтеза. Когда-то Евтушенко-поэт признался:
Работа давняя кончается, а все никак она не кончится... В этой незаконченности, толкающей к новому делу, — и мука и радость художника.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1982. – № 6. – С. 36-41.
Произведения
Критика