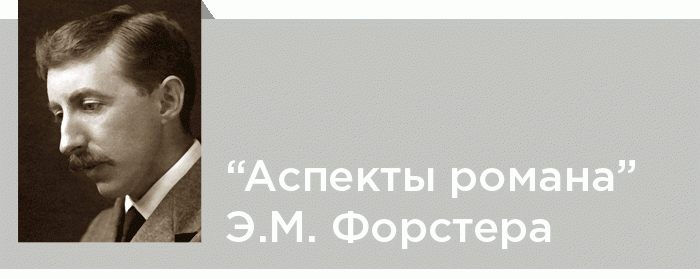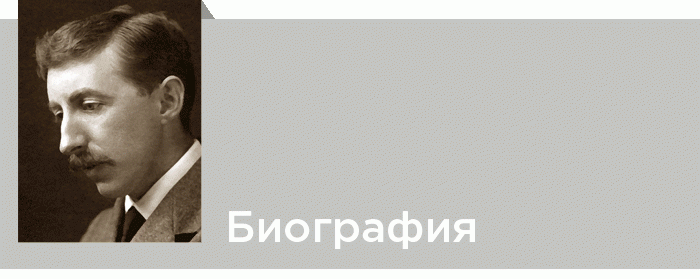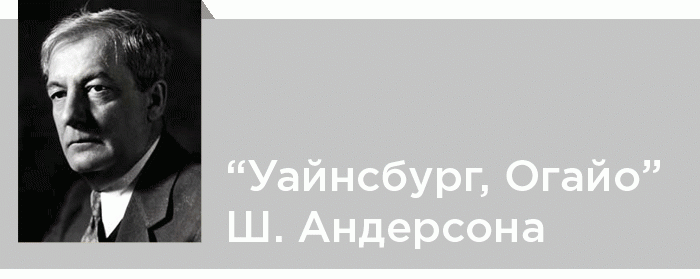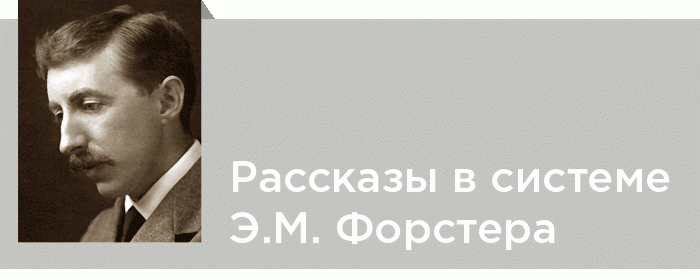Некоторые черты поэтики романа Э.М. Форстера «Самое долгое путешествие»
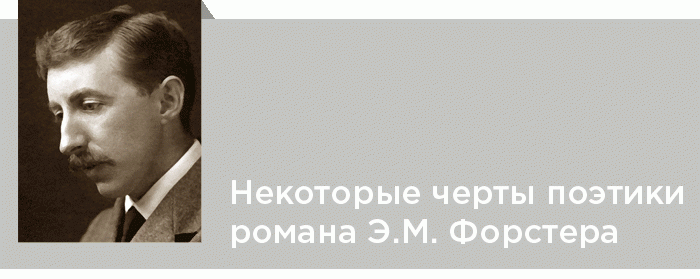
И.А. Влодавская
«Самым форстеровским» назвал один из исследователей роман Эдварда Моргана Форстера «Самое долгое путешествие» («The Longest Journey», 1907). Действительно, в этом романе в концентрированной форме выразились напряженные нравственно-эстетические искания писателя, его растущее от романа к роману чувство ответственности за судьбы личности и общества. Это, кроме того, и наиболее личный из его романов.
Согласно первоначальному замыслу основная коллизия должна была строиться на том, что герой узнает о существовании своего незаконнорожденного брата, и уже этот план сам по себе содержал не только серьезные моральные проблемы, но и был чреват в условиях жесткого пуританизма официальной идеологии нонконформистской взрывчатой силой. Однако у молодого, только что вступавшего в литературу автора к этому присовокупилась настоятельная потребность к самовыражению, к осмыслению своего жизненного опыта, к самоанализу и самокритике, к поискам истинных ценностей жизни. Так родился роман, вызванный к жизни приблизительно теми же стимулами, что и «Путь всякой плоти» С. Батлера, «Клейхенгер» А. Беннета, «Бремя страстей человеческих» С. Моэма, «Сыновья и любовники» Д.Г. Лоуренса, «Портрет художника в молодости» Д. Джойса и др. Всем этим произведениям, объединенным жанровыми признаками романа воспитания, присущ автобиографизм, выраженный не просто в моментах тождества автора герою, не в сюжетных аналогиях, а в наиболее явно и полно выраженном авторском сознании, как одном из свойств указанного жанра. В рассматриваемом романе это подтверждается не только высказываниями Форстера, но и тем, что он делает Рики автором рассказа «Небесный омнибус», который позже войдет в его сборник, личным опытом писателя подсказаны тема публичной школы и кембриджские эпизоды, у близких герою персонажей есть реальные прототипы: у Энсела — друг детства автора, оказавший на него немалое влияние, у миссис Фейлинг — его дядя Уилл. Но не менее важным для понимания природы жанра оказывается, помимо граней, сближающих автора и героя, тот эффект остранения, который создается повествованием от третьего лица, вымышленными автором драматическими перипетиями судьбы героя, вымышленными же персонажами. Поучительные сами по себе, эти важные элементы сюжета образуют ситуацию суда над героем, дающую повод авторским раздумьям о смысле жизни, проблеме выбора пути и главных жизненных ориентиров.
Таким образом, перед нами роман в чем-то автобиографический, во многом личностный, но ведущим и организующим началом в нем, как и в перечисленных выше книгах, является тема воспитания, становления личности под воздействием определенных жизненных обстоятельств. Реализуется она не только во внешних перипетиях жизненной судьбы Рики, но, главным образом, в напряженности его внутренней жизни, внутреннем конфликте, в рождаемом опытом движении характера, остро осознаваемом не только читателем, но и героем: «...я меняюсь», «программа Рики включала переоценку ценностей, равно как и перемену профессии». Тема эта облекается в традиционно сложившуюся форму жизнеописания, охватывающего детство, юность и молодые годы вплоть до безвременной смерти героя. Повествование начинается с описания пребывания Рики в Кембридже, и хронологическая последовательность событий нарушается дважды своеобразными вставными новеллами: рассказом Рики о его детстве в первой книге и историей любви его матери к фермеру Роберту в начале третьей книги. Так воссоздается предыстория и полная история жизни героя. В повествование включаются также письма Энсела, Рики, миссис Фейлинг, Пемброка, чем не только достигается большая достоверность, но и создаются дополнительные точки зрения, оценочные ситуации развертывающейся драмы, то, что иногда определяется как «многоглазие».
В своем недолгом жизненном путешествии Рики Элиот проходит три фазы внутреннего развития, обусловившие построение романа. Первая книга — Кембридж, где после одинокого и горестного детства герой обрел радость дружбы, приобщения к миру поэзии, природы, красоты. Вторая книга — Состон, где герой, ценой измены себе — своему призванию, нравственным и духовным запросам, оказывается в мире иных, чуждых ему измерений: погони за жизненным успехом, деньгами, в результате чего он переживает глубокий кризис. Третья книга — Уилтшир, когда Рики, после неудачной попытки обрести себя в близости к естественным началам жизни, в «доброте и правде», погибает. Это членение существует и в сознании героя: «Он обладал особой чувствительностью к местам своего пребывания. Он сравнивал Кембридж с Состоном и оба — с третьим типом существования, которое, за неимением лучшего обозначения; назвал Уилтширом».
При насыщенности событиями повествование, тем не менее, производит впечатление вялости, замедленности действия, в чем некоторые критики усматривают одно из слабых мест романа, Однако свойство это — не проявление художественной слабости, а выражение сложившейся к этому времени, идущей от романтиков, литературной тенденции — перенесения центра тяжести с событийного, сюжетного движения на внутренний мир героя, его внутреннее развитие. Тенденция эта оказалась субъективно более близкой Форстеру, чем другим писателям начала века и особенно явственно проявилась в исследуемом романе. То, что составляет фабульную схему, является лишь малой толикой всего повествования, как бы упрятано под спуд. Сообщения о происходящих событиях носят, как правило, характер краткой информации и примечательно, что чем драматичнее событие, тем лаконичнее, немногословнее рассказ о нем, укладывающийся обычно в одно — два предложения: «...Он не простудился, но пока он гулял, его мать умерла. Она пережила отца всего на одиннадцать дней — обстоятельство, отмеченное на их могильной плите»; «В тот день умер Джеральд. Он получил травму во время футбольного матча. Рики и м-р Пемброк были на стадионе, когда это случилось. Не было смысла мучить его поездкой в больницу, и его просто перенесли в павильон и положили на пол». В таком же духе сообщается о смерти отца, о перенесенном Рики тяжком душевном кризисе, о смерти его дочери и, наконец, о его собственной трагической гибели. Отмеченную особенность форстеровского стиля можно было бы счесть просто проявлением исконно английской сдержанности в выражении чувств. С чем-то подобным мы встретимся позже в романе С. Моэма «Бремя страстей человеческих». Но роман Моэма традиционен по роли, отводимой в нем событийной канве. Для Форстера же, судя по исследуемому роману, сюжет важен лишь как стимул главного для него внутреннего движения в романе — духовной эволюции героя в процессе его «ученичества». Свойство это проявится и в его романе «Поездка в Индию», по поводу чего известный английский историк и литературовед А. Мортон пишет: «...достаточно традиционный, ясный, четкий сюжет, по сути дела, лишь повод к написанию романа; он выполняет роль камня, брошенного в пруд и быстро исчезнувшего из поля зрения, а сама книга – это вызванные им концентрические круги, которые расходятся от центра и захватывают мало-помалу всю жизнь, взволновав ее гладь. Действие у Форстера — лишь двигатель глубокого познания личности и ее взаимоотношений с обществом, исследования не только специфической действительности,... но и проблем вечных и всеобщих».
Главный герой романа «Самое долгое путешествие» Рики Элиот романтичен по внутреннему складу и реалистичен по средствам изображения. Язвительный, желчный, недобрый отец омрачает его детство, врожденная хромота и физическая слабость делают его объектом злых проказ школьных товарищей. Унаследованная от матери тонкость душевной организации и жизненные обстоятельства, обрекающие его с детства на обособленность, обусловливают особую интенсивность его внутренней жизни. Он расстался с детством, чувствуя себя одиноким и несчастным. Сознание героя окончательно формируется в студенческие годы в Кембридже, даровавшем ему близких по духу друзей и обильную пищу уму. Здесь он постигает античное искусство и воплощенную в нем красоту гармонии духовного и физического. Рики — мечтатель и визионер. Ему чужд мир философских абстракций и умозрительных выкладок, но зато внятен язык поэзии, природы, красоты. Спор друзей о реальности окружающего мира и приведенный его насмешливым другом рационалистом Энселом пример с коровой, существующей вне нас и независимо от нас, дает толчок его воображению. Прислушиваясь к трудному для него спору, он следит за табачным дымом, исчезающим за окном, в зеленеющих деревьях ему видятся дриады, пытаясь сосредоточиться, он возвращается мыслями к корове: «Ему тоже следует продумать это. Так была она там или нет? Корова. Там или нет? Он вглядывался в ночь. В любом случае это было заманчиво. Если она была там, то там были и другие коровы. Погруженная, во тьму Европа была усеяна ими, и на далеком Востоке их бока сверкали в лучах восходящего солнца... Можно было, следуя за Тиллардом, предположить худшее, что коровы там не было, пока не было тебя, чтобы видеть ее. Однако тебе нужно было только выглянуть в поле и — щелк! — оно сразу же озарялось бычьей жизнью». Озорные штрихи рисуемой его воображением картины передают ощущение безмятежного счастья героя. Вместе с тем детски непосредственная образность мышления Рики оставляет впечатление его некоторой инфантильности. В целом же весь отрывок в форме несобственно-прямой речи несет на себе печать по-форстеровски тонкой, мягкой иронии, исходящей от автора в неменьшей степени, чем от героя, и в какой-то степени распространяющейся на последнего. Особенность иронии здесь — в двояком переосмыслении образа коровы, с помощью которого сначала устами Энсела демонстративно заземляется абстрактное понятие объективной реальности; затем этот образ поднимается в воображении Рики до некоего философско-поэтического символа глобальных масштабов, что рождает иронические контрасты: тьма Европы, усеянная коровами; коровьи бока, озаренные восходящим на далеком Востоке солнцем и пр.
Если абстрактные философские рассуждения транспонируются в сознании Рики столь полифонично, то соприкосновение с прекрасным рождает в его душе торжественный и восторженный настрой, обретающий музыкальное звучание. Так, одно из сильнейших потрясений в жизни он испытал, увидев Эгнес в объятьях Джеральда. На фоне бесплотной, хотя и согретой теплом дружеского общения, схоластики Кембриджа, их любовь открыла перед ним не только узость мира, в котором он обитал, но и земную, чувственную красоту мира: «...прекрасные образы... захватили его существо и озарили неведомые святыни... Музыка струилась в его сознании подобно потоку. Он стоял у истоков творения и внимал первозданной монотонности... Это был фрагмент Мелодии Мелодий... В совершенном единении рождалась любовь...». Свойство сознания Рики переводить волнующие его мысли и чувства на язык природы, музыки, зримых, живописных образов, раскрывая своеобразие его интуитивно-образного, эмоционального мироощущения, создает убедительный внутренний портрет героя.
Созвучие своему внутреннему настрою Рики находит в поэзии романтиков Блейка, Шелли, Китса. Они становятся его наставниками, неизменными спутниками. Он мыслит их образами, живет их идеалами. Во сне ему является Эгнес в характерном для гравюр Блейка обличье девы в ниспадающем свободно покрывале, озаренной сиянием, с распростертыми руками. Он не расстается с томиками Китса и Шелли, находя в них отзвук собственным мыслям, они укрепляют его веру в идеалы «красоты и правды», помогают рассеять «облако нереальности», каким стал для него мир Состона. Близость к Шелли открыто прокламируется самим заголовком романа, взятым, как известно, из его «Эпипсихидиона». Здесь же герой находит и предостережение о грядущих невзгодах и разъяснение их. В самом характере Рики и его судьбе один из исследователей Форстера выявил сходство с образом Аластора и общим замыслом одноименной поэмы, сформулированным в предисловии к ней.
То, что именно эти поэты — Блейк с его космической символикой и пророческим гуманизмом, страстный бунтарь Шелли с его трепетно-проникновенным лиризмом и влюбленный в красоту античных образов Китс с его по-земному чувственной, жизнелюбивой лирикой — оказываются столь близкими герою Форстера, придает внутреннему портрету Рики глубину перспективы, акцентируя определенные грани его личности и становясь дополнительным средством его характеристики.
Весьма существенно то, что в этом плане — близости к романтической традиции — границы сознания героя и авторского сознания сближаются. Об этом свидетельствуют многочисленные аллюзии, образные заимствования и переклички в – тексте романа, проявившиеся и в его заголовке, и в концепции героя, и во многом другом. Так, характеризуя Стивена, миссис Фейлинг, перефразирует известную строку Китса из «Эндимиона»: «Ты — не прекрасное творение. Но я иногда думаю, что ты — радость навсегда». Китсовская мысль, хотя и переосмысленная, исходит из уст миссис Фейлинг — особы отнюдь не романтической — однако в данном случае важно то, кому она адресована. Стивен в романе олицетворяет раскованность жизненных инстинктов, близость к природе, связь с землей, и эта вскользь оброненная реплика влечет за собой цепь ассоциаций с другими образами «Эндимиона», проливающими дополнительный свет не только на смысловые функции образа Стивена, но и на образный строй и внутренний смысл романа в целом. В тексте романа дважды встречается образ Рики, плетущего на лугу венок, и в сочетании с настойчиво звучащей темой связи с землей и природой как необходимого условия для самоопределения героя возникает совпадение с китсовским образом гирлянд, «привязывающих к чернозему». И даже тема «славных мертвых», воздействия их судеб на судьбы живых вплетена в канву повествования.
Исполненным смысла представляется и тот факт, что если характер Рики решается в контексте образного строя названных выше поэтов и особенно Шелли, то в связи с возлюбленным его матери — фермером Робертом — возникает имя Байрона, как, возможно, скрытое указание на более деятельный, активный и более героический тип личности.
Трудно представить себе, чтобы эти образные параллели, подсказанные автором читателю, были непреднамеренными. И со всей очевидностью они свидетельствуют о том, как органично вплелась романтическая традиция в мир идей и образов Форстера.
Типологической особенностью романа воспитания является не просто обращение к поре юности как важнейшему этапу формирования человеческой личности. Психологическую мотивированность конфликту придает присущий молодости максимализм, толкающий героя на решительные действия, ошибки и обретения. В большинстве случаев этот юношеский максимализм включает элементы романтического видения, вызванного свежестью, нерастраченностью чувств и иллюзорными представлениями о жизни. Если у одних героев иллюзии рождены в значительной степени образованием и воспитанием (герои Батлера, Моэма, Голсуорси), то у других они — органическое свойство, выражение высокого душевного настроя, того, что принято называть романтическим типом личности. Таков Рики Элиот, и драматизм его судьбы обусловлен не только глубиной конфликта действительности и идеала, но и неспособностью героя отречься от последнего. Абсолютизируя красоту, он увидел в Эгнес ее отсвет, заслонивший на время ее трезвое, расчетливое естество. «Ты помешан на красоте», — бросает ему Эгнес. А Энсел, зная это свойство друга, предчувствует печальную развязку их союза: наконец-то Рики «...повесил всю красоту мира на один крючок. Он всегда норовил это сделать. Он называл крючок человечеством». Пережив крах своего «состонского опыта». Рики ищет спасения в культе матери, в Стивене, в котором ему хочется увидеть отсвет этой памяти, олицетворение идеалов, связанных с покойной. Но и здесь жизнь не укладывается в навязываемую ей романтическую схему, и окончательно теряющий очку опоры герой погибает. Сопротивление живой действительности предвзятым, хотя и возвышенным представлениям, выражено не только в трагической судьбе Рики, в движении сюжета, в особенностях конфликта, но и в позиции некоторых ключевых для замысла романа персонажей. Так, Энсел отвергает романтический идеализм Рики: «Ты пока что совершенно безнадежен. Ты можешь плохо кончить. Но я отказываюсь следовать за тобой. Я отказываюсь верить, что каждое человеческое существо — ходячее чудо, достойное горячего интереса, воплощающее трагедию и красоту... Это очень распространенный взгляд среди людей, слишком ленивых, чтобы думать». А. Стивен, который «не хочет быть символом умершей», рвет карточку своей матери (283).
Раскрывая смысл трехчастной структуры сюжета — Кембридж, Состой, Уилтшир, указывая на Энсела и Стивена и их положительную нагрузку в повествовании, исследователи чаще всего сводят конфликт романа к привычной двухчастной оппозиции: конфликт видимости и реальности усматривает в романе Л. Триллинг, идеала и реальности — К. Грансден, разума и сердца — Д. Бир, искусства и жизни, мира внутреннего и мира внешнего — Д. Шастерман, тех, кто верит в личные контакты и тех, кто не верит — Р. Оливер; реже выделяют три противоборствующие линии: Р. Мартин усматривает их в столкновении любви, как выражения духовного начала, реальности и условностей. Если взятые по отдельности приведенные точки зрения не исчерпывают предмета, то взятые вместе, они в какой-то мере помогают уяснить многомерность конфликта «Самого долгого путешествия» в его горизонтальном, так сказать, сюжетном движении. Представляется важным в данном случае установить ведущие, главные! – «силовые линии», создающие поле высокого напряжения — отмеченный особым драматизмом конфликт романа. По своей природе конфликт здесь, как и в других романах воспитания, социален: он возникает в результате несовместимости героя с окружением, в котором он вынужден существовать. Этот противостоящий герою мир представлен образами Пемброков, миссис Фейлинг и существующих «за кадром» Силтов, к которым едут в гости, пишут, о которых говорят и чье незримое присутствие расширяет пространственные пределы Состона. Сатирически безжалостный характер носят развернутые характеристики Герберта Пемброка с его бездушной системой воспитания детей и натужным патриотизмом. Не менее ярко выступает в романе сущность Силтов в нескольких, как бы вскользь упомянутых деталях. Во время визита Рики красующиеся на их столе индейка и сливовый пуддинг — традиционные символы праздника и веселья — выражают, главным образом, денежную стоимость; хозяин «голодным голосом» спрашивает гостя, кем тот хочет стать, и добавляет, что ему необязательно кем-то быть (имея в виду его материальную независимость), а за десертом задает вопрос: «Интересно, к кому перейдет Кедовер?» Осуждение мира Пемброков находит в романе своеобразное сюжетное решение: их постигает наказание, являющееся следствием их же поступков. Так, Эгнес, с благословения брата, ведущая интриги в корыстных целях против Стивена, в результате теряет все: и семью и наследство. Зло, рожденное злом, возвращается, подобно бумерангу, замыкая сюжетный круг и рождая идею возмездия как одно из внутренних креплений сюжета, его этическую опору. Прием этот для Форстера не случаен. В романе «Хоуардс-Энд» жертва Уилкоксов Поль разрушает невольно их благополучие; в «Комнате с видом» Сесиль, эгоистично нарушая планы других (поселяя Эмерсонов рядом с Люси), в результате теряет невесту; в романе «Куда боятся ступить ангелы» жертвою распрей становится ребенок.
Социальная мотивировка конфликта в романе подкрепляется не акцентируемым, но существующим в сознании Рики пониманием того, что «мир как-то уродливо устроен», чувством вины за свое богатство перед Джеральдом и Силтами, а перед служанкой — за разделяющий их незримый барьер; он возмущен чудовищной тиранией и произволом по отношению к фермерам со стороны местных правителей и распространяет это негодование на тех, кто правит миром. Этот мир глубоко чужд герою Форстера. Ввергнутый в него собственными заблуждениями (браком не с той женщиной, выбором не той профессии, принятием не того решения в «символический момент», из-за чело вся его жизнь оказалась построенной на лжи), Рики на какое-то время отрешается от своего «я», переживая мучительную внутреннюю борьбу.
Несостоятельность героя в моменты выбора и сама гибель, драматизируя конфликт, свидетельствует вместе с тем, что Рики не является в романе главным носителем нравственного потенциала. Он, как известно, делит эту миссию с Энселом и Стивеном. Их позитивные функции в романе предстают в расчлененном виде. Если Рики — это воображение, чувство, то Энсел — интеллект, чистый, безжалостный разум, а Стивен — здоровые инстинкты. И поскольку синтеза в романе нет, все три начала существуют раздельно каждый из героев отмечен в какой-то из граней характера или судьбы «ущербинкой». Так, Стивен лишен воображения и глух к поэзии, а судя по финалу, где он твердо и со знанием дела торгуется с Пемброком в связи с посмертно выходящей книгой Рики («Бедный Рики!» — меланхолически констатирует один из критиков), непохоже, чтобы он созрел для той миссии, о которой мечтал для него покойный: сразиться с этим нелепым и злым миром пемброков. Энсел олицетворяет узость Кембриджа, и упоминание о его неудаче с диссертацией, может быть, не случайно. Как бы то ни было, никто из них не выражает «конечной мудрости».
Л-ра: Реализм и художественные искания в зарубежной литературе 19-20 веков. – Воронеж, 1980. – С. 138-148.
Произведения
Критика