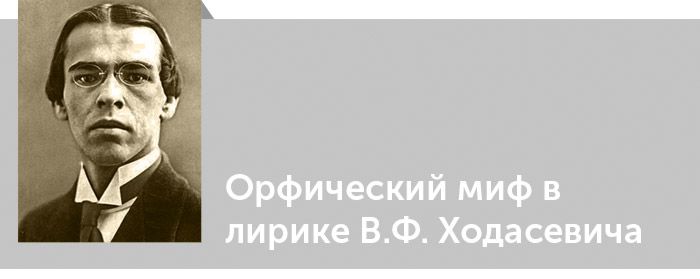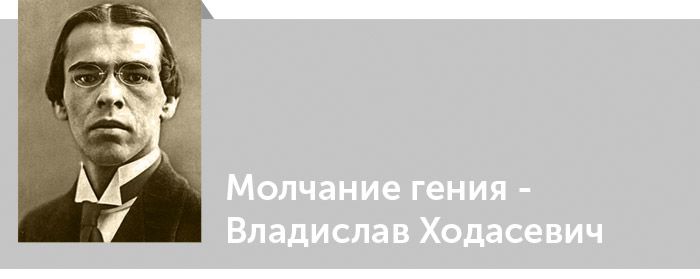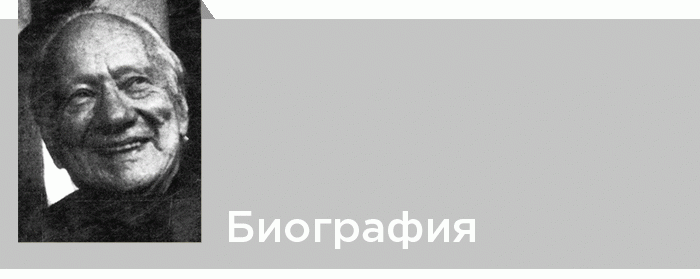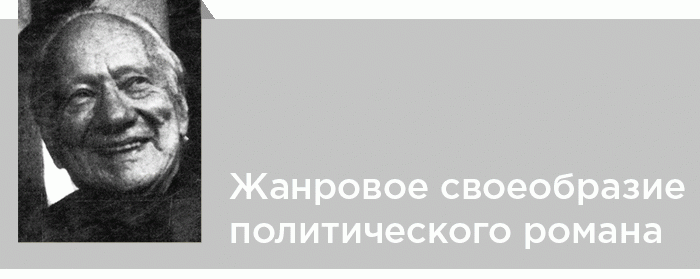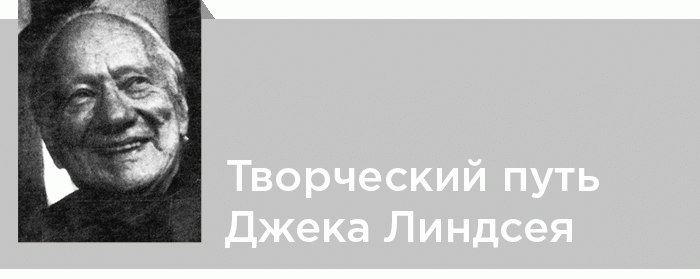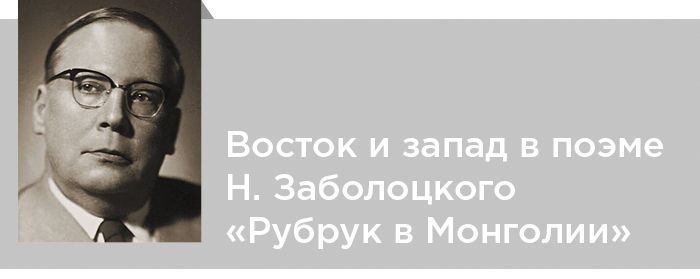Джек Линдсей. Адам нового мира. Джордано Бруно

(Отрывок)
Часть первая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
I. Приезд в Венецию
Чиновник просмотрел свидетельство о здоровье и, хмурясь, вернул его худощавому мужчине с темно-каштановой бородой и живыми глазами.
— Всё в порядке, — сказал он.
Громко кричали лодочники, и люди на пристани, опасаясь, как бы лодка не отплыла без них, поспешили к ней. По крики лодочников объяснялись только тем, что один из них уронил в воду канат. Босоногая, растрёпанная девчонка продавала медовые пряники. Вокруг группы пассажиров шныряли нищие, щеголяя своими язвами, и лодочники время от времени отгоняли их вёслами. Утреннее солнце ярко освещало восточную стену Падуи и скучавшую у городских ворот стражу с небрежно опущенными копьями. В конце пристани сверкали на солнце разбросанные по земле осколки стекла, напоминавшие о происшедшем вчера несчастном случае с каким-то грузом. Карантинный чиновник ковырял в зубах и своим зловонным дыханием отравлял утренний воздух. Худощавый человек отвернулся от него, прижав рукой к бедру полученное свидетельство. Он посмотрел на маслянистые переливы воды под скрипучими досками пристани, вдохнул в себя резкий запах реки. Ноздри его тонкого носа дрогнули, он сощурил глаза и огляделся, словно только сейчас заметив и толпу людей на пристани, и лодочников, крепивших часть полотняного навеса, которая оторвалась и хлопала на ветру, и движение экипажей через городские ворота.
Девчонка с пряниками, лениво бродившая около группы занятых разговором купцов, торопливо подошла к худощавому мужчине, протягивая вперёд свой лоток. Худощавый мужчина, не посмотрев, что она продаёт, достал из кармана два сольдо и бросил на лоток.
— У тебя и грудей-то ещё нет, — сказал он и отошёл.
Огорчённая торговка поплелась за ним, упрашивая его взять пряники:
— Ну пожалуйста, возьмите хоть один.
— Съешь его сама, — ответил он и улыбнулся.
Боязливое и хмурое выражение исчезло с лица девушки; нежный румянец преобразил это лицо, придав ему естественное очарование юности, но затем оно снова стало похоже на унылую маску, снова сгустились на нём тени голода и горя, омрачив взгляд подозрительностью, сразу как-то заострив тонкие черты. Мужчина открыл было рот, собираясь что-то сказать, но потом передумал. Он молчаливым жестом отказался от пряников и зашагал к краю пристани. Здесь он подошёл к группе пассажиров.
Карантинный чиновник пререкался с толстой крестьянкой, крепко прижимавшей к груди корзинку с яйцами. Через ворота с грохотом проезжали телеги крестьян: они везли продукты на рынки, которых в городе было пять. Лошади с прикрытыми мордами провезли фургон вина. С башни карантинного лазарета солдат в кольчуге и алом плаще, перегнувшись, кричал что-то вниз. Лошади на помосте за пристанью бренчали упряжью и ржали.
— Все в лодку! — прокричал весёлый лодочник с взлохмаченной головой, в рубахе и коротких рваных штанах.
Высокий человек в плаще из голубой бумажной материи, с убожеством которого совсем не вязалась исполненная достоинства осанка владельца, подошёл к незнакомцу с каштановой бородой и, отведя его в сторону, с учтивым поклоном сказал:
— Вы, конечно, знаете, что переезд стоит шестнадцать сольдо. — В его чёрной бороде застряли хлебные крошки от завтрака.
— Да, так мне сказали, — ответил тот, глядя на крошки в бороде. — И больше я платить не буду.
Осанистый мужчина махнул пухлой рукой, как бы устраняя невидимое препятствие. Но худощавый продолжал:
— Расстояние от Падуи до Венеции измеряется, по-видимому, двадцатью милями или шестнадцатью сольдо. Какое же из этих измерений истинно? — В голосе его звучала резкая насмешка. — Как видите, я предоставляю вам честь ответить на подлинно исторический вопрос: что есть истца? Буду весьма признателен, если вы мне на него ответите. Меня глубоко интересуют различные точки зрения, в особенности когда дело касается системы измерения. Странно, видите ли, что математика... — Тут он приподнял бархатную шапочку: — Это слово для меня так священно, что, произнося его, я не могу не выразить своего благоговения... Математика предполагает деление объектов, ибо она исчисляет их, и непрерывную связь между ними, так как ряд немыслим без основания, гарантирующего соотношение между его членами. Эту истину я постиг вчера вечером в три четверти седьмого, когда девушка с родинкой в левом углу рта подавала мне салфетку. Прошу вас заметить этот факт, ибо в том, что меня осенила эта идея, сыграли некоторую роль своеобразие и гармоничность форм этой девушки.
Высокий мужчина отпрянул под натиском такого потока слов, но его собеседник наклонился ближе к нему. Его тёмные зрачки расширились и блестели.
— Послушайте, — с беспокойством начал первый, теребя бороду. Он вытащил хлебную крошку, на которую всё время смотрел худощавый, и держал её между большим и указательным пальцами. Худощавого, видимо, что-то смутило. Он заморгал глазами и сказал сердито:
— Я ваших методов не признаю. Я хочу, чтобы мир стал иным.
Он опять заговорил ироническим, любезно-конфиденциальным тоном, но скороговоркой, словно отвечая затверженный урок:
— Я знаю вас и ваши фокусы, с помощью которых вы ловите покупателей. Вы предлагаете рассрочку и повышаете цену. Вы объявляете себя банкротами, укрываетесь в монастыре и, договорившись с должниками об уплате им только незначительной части долга, получаете таким образом огромные барыши. Вы сбиваете цену на товары, чтобы уничтожить своих конкурентов, а затем, монополизовав рынок, повышаете цены. Прежде чем продать шерсть, вы мочите её, чтобы она больше весила...
— Сударь! — с негодованием остановил его высокий. — Я торгую стеклянными изделиями. И ни разу не объявлял себя банкротом.
Худощавый осмотрел его с головы до ног своими живыми карими глазами и опять приподнял шапочку.
— От всего сердца прошу у вас прощения. Видно, я ошибся. Сегодня утром — только в Италии бывают такие утра! — я сильно возбуждён и необычайно смело и безрассудно смешиваю воедино essentia и proprietas personnalis, выходя за пределы Аристотелевой логики. Вы поймёте это через триста лет. А сейчас позвольте узнать, по какому делу вы решились обратиться ко мне, так как я уже слышу крик: «Пассажиры, в лодку!»
— Я хотел вам сказать, — сердито ответил торговец стеклом, — что если каждый из нас уплатит на четыре сольдо больше, — так что проезд обойдётся всего по одной лире с человека, — то припрягут ещё одну лошадь, и баржа пойдёт быстрее...
— Четыре сольдо! — воскликнул худощавый. — Как философ, я стремлюсь к крайнему пределу, ищу общий делитель всех видов опыта. Я ищу дух в материи или материю в духе. Я всё ещё отуманен словами. Вон там стоит молодая девушка, для которой два сольдо — это два сольдо. Ответь мне, мудрец в бумазейном плаще...
— Это не бумазея, а байка, — веско возразил купец, отвернув край плаща, чтобы показать его изнанку.
— Классификация вещей меня подавляет, — сказал худощавый, — ибо материя многообразна. Я отвержен миром. Плачьте обо мне!
Затем, когда рассерженный купец отвернулся, собираясь уйти, худощавый философ бросил ему деньги, которые тот просил. Неохотно поблагодарив, купец взял деньги и поспешил к капитану.
Худощавый вошёл в лодку и сел на своё место над люками, предварительно заглянув на нос, чтобы убедиться, что его багаж в сохранности. Здесь уже сидело несколько пассажиров; остальные стали взбираться на палубу только после того, как раздался последний громовой клич полуголых лодочников.
Пассажирами баржи стали пять-шесть венецианских купцов, степенных, одетых во всё чёрное, один немец, студент-медик Падуанского университета, три итальянца, изучавших право, еврей в жёлтой шапке, высохшая, сморщенная старуха, измождённый священник, куртизанка, неумело и грубо накрашенная, крестьянка с корзинкой яиц, которую она заботливо прижимала обеими руками к пышной груди, обтянутой старомодным корсажем, голландский купец, торговавший полотном, и переплётчик из Дании. Последними пришли молодая девушка с матерью, толстощёкий монах-францисканец и два француза: нотариус из Анжера и торговец шёлком из Лиона.
— Сегодня на борту только одна весталка, — сказал кто-то из студентов-итальянцев, подзадоривая товарищей. — Это впервые. Я не припомню такого переезда, когда бы их было меньше трёх. Позовите капитана и потребуйте от него объяснений.
— Ничего, я одна сойду за трёх, — сказала куртизанка, визгливо засмеявшись.
Один из венецианских купцов неодобрительно кашлянул. Датчанин усердно записывал что-то в книжку, поставив между колен роговую чернильницу.
— Запишите и это, — обратилась к нему куртизанка, сидевшая напротив. — А заодно и мой адрес.
Переплётчик с недоумением поднял на неё бледно-голубые глаза.
— Я пишу письмо жене, — сказал он невнятно, на своём ломаном итальянском языке. — Какой сегодня день? Простите за беспокойство, но кто из вас помнит, почём в Падуе свинина? Я хочу написать жене. Я запомнил цены повсюду, кроме Падуи.
— Если вы платили дороже восьми сольдо за фунт, так с вас содрали лишнее, — отозвалась женщина с корзиной и сразу замолчала, словно застеснявшись звуков собственного голоса в этой чуждой ей компании.
Студент-немец, покачиваясь, прошёл между скамеек, наступил на ноги священнику, молча стерпевшему это, и сел возле человека с каштановой бородой.
— Вы меня простите, — заговорил он хриплым, гортанным голосом и, упёршись руками в колени, наклонился к соседу. — Я случайно слышал, как вы говорили на пристани, что вы философ.
Среди общего говора выделился громкий голос голландского купца:
— В миле от Докема бросили якорь и стали дожидаться прилива. И вдруг с берега слышится сильный шум, лай собак, крики людей, колокольный звон. Это налетели из Гронина испанские пираты и грабили крестьян...
Говоривший заметил, что его все слушают, и откинулся назад, расчёсывая бороду пальцами. А датчанин, к которому он обращался, сказал осторожно:
— В Докеме я не бывал, а вот в Эмдене был один раз и купил там фунт вишен за восемь стиверов.
— Мама! — вдруг резко вскрикнула молодая девушка.
— У меня нигде ничего не подложено, — говорила куртизанка студентам своим визгливым голосом, игриво и вызывающе.
— Velle me tangere, — вмешиваясь в разговор, сказал худощавый. Куртизанка обратила к нему свои добрые карие глаза, в которых удивление постоянно сменялось замешательством, а замешательство — апатией, сквозившей и в лениво опущенных углах рта.
Худощавый отвернулся.
— Вы философ, — повторил немец, отодвинув конец каната, который мешал ему удобно усесться.
— Это слово теперь употребляют на каждом шагу. Я слыхал, как им величают себя уличные скоморохи, и многие из них, пожалуй, имеют на это больше права, чем профессора в пурпуровых тогах. Например, среди профессоров Оксфордского университета в Англии ставится в заслугу не учёность, а способность накачиваться пивом. С золотыми цепями на шее они влекутся за королевским двором, редко озаряя университеты хотя бы блеском своих пылающих носов.
— Какая горечь в ваших словах! — заметил немец. — Вы, несомненно, великий философ. Ну, а я не буду осуждать пьяниц, я и сам сейчас пьян.
— В таком случае не будем затевать диспута, у вас слишком большое преимущество предо мной, — сказал худощавый, наблюдая в это время за куртизанкой. У неё были светлые вьющиеся волосы; на добром и грустном лице большой безобразный рот зиял, как рана.
— Но я тоже философ, — икнув, возразил студент. — Я анатомировал трупы. А трупы, если не считать того, что они воняют, имеют множество весьма ценных качеств. Одна беда; так как это большей частью бывают трупы жалких бедняков, то желудок сужен до крайности. Просто удивительно, до какой степени может съёжиться желудок, если его обладатель много лет подряд голодает. Вот только вчера у нас в анатомическом зале вскрывали молодую девушку. Очень любопытная картина рака матки, но, поверите ли, мой друг, почти нет желудка. В качестве философа я горячо протестую... Как видите, я пьян. К тому же, я временно отказался от женщин. Я подобен тому человеку, который вышвырнул в окно кота за то, что кот мяукал, тогда он выдрал его за уши, и, вышвырнув, сказал: «Теперь я сам буду ловить мышей». Так и я напился вчера вечером.
— Вместе со мной, — вставил нотариус из Анжера, неожиданно очнувшись от дремоты. Он нагнулся вперёд и, зажмурив один глаз, пытался всмотреться в немца. Слишком перегнувшись, нотариус потерял равновесие и упал бы, если бы его товарищ, шёлкоторговец, вовремя не подхватил его.
Священник сидел с закрытыми глазами, сложив руки на коленях и отвернув от соседей измождённое лицо. Францисканец следил за всем вокруг, улыбаясь с притворным простодушием. Он поднял перчатку, которую уронила куртизанка, и с улыбкой подал ей. Студенты принялись над ним подтрунивать:
— Вы бы лучше её надели. Да, да, наденьте перчатку этой дамы и посмотрите, впору ли она вам. Монаху любая женская перчатка годится. Если она мала, он её растянет для удобства, если велика — он благодарит Бога за скромный дар. «Юбка и ряса всегда льнут друг к другу».
Францисканец улыбнулся молодым людям:
— Подумайте, насколько вы были бы счастливее, если бы веселье ваше было невинным и чистым!
— Мои перчатки надушены амброй. Вы любите этот запах? — с притворной наивностью спросила куртизанка у монаха. Францисканец отвернулся от неё и начал молиться. Купцы вполголоса беседовали о ценах и о случаях банкротства.
Баржа толчком дёрнулась с места, затем медленно и плавно двинулась вперёд.
— Ну, вот мы и поехали, — громко произнёс один из купцов. Но торжественность минуты была нарушена молодой пассажиркой, которая вдруг закричала, что старуха, сидевшая напротив неё, — ведьма. «У неё дурной глаз, она меня хочет сглазить!» Мать пыталась её успокоить, гладя по голове своими большими загрубелыми руками, но обезумевшая от ужаса девушка оттолкнула её. Она вытащила из-за пазухи деревянное распятие, сдвинув при этом косынку, закрывавшую грудь. У девушки были глубокие глаза, обведённые тёмными кругами. Рыдая, она замахнулась распятием на старуху. Та шарахнулась от девушки. Тогда францисканец встал со своего места и пересел к старухе, прямо напротив девушки.
— Тебе нечего бояться, пока у тебя в руках Христос, — сказал он девушке.
Девушка громко всхлипнула, повторяя: «В руках Христос». Затем ей пришла в голову новая безумная идея:
— Смотрите: кровь! Он истекает кровью! Его пронзили копьём в этом месте!
Платье девушки было ей не впору — должно быть, фамильное наследство, переходившее в семье от одной женщины к другой. Её костлявые плечи выступали из него, слишком свободный вырез корсажа отгибался наружу, как чашечка цветка, оставляя на свободе белые цветы её грудей. И сейчас, когда шаль сползла и косынка с шеи упала, грудь обнажилась во всей своей трогательно юной прелести.
— Как это печально! — сказал человек с каштановой бородой.
— Что именно вас печалит? — спросил немец. — Уж не я ли?
— После такого вопроса я должен ответить: да, вы.
Немец с минуту размышлял, потом сказал:
— Меня зовут Герман Грутер. И в кошельке у меня пятьдесят лир. Я буду вас угощать целые сутки, потому что вы мне пришлись по душе. После этого мы с вами расстанемся, ибо у меня больше не будет денег. Как ваше имя?
— Моё имя? Какое значение имеют имена?
Но так как немец настаивал, человек с каштановой бородой продолжал:
— Зовите меня Фелипе-ноланец. Ибо таково моё имя.
— Фелипе, милый Фелипе, чем же я пас опечалил?
— А тем, драгоценный мой осёл, что вы не поняли смысла моего замечания: оно относилось к галактическим выпуклостям безумной юной сибиллы, которую мы видим перед собой.
Этим строго научным определением он хотел тактично замаскировать свой намёк на груди девушки. Но вежливость его не достигла цели, так как немец всё испортил: он повернулся и указал пальцем на предмет их разговора.
— Да, — продолжал ноланец, — я имел в виду эти округлости, а опечалился я, глядя на них, по следующим причинам...
Ему помешали докончить студенты-итальянцы, которые перекидывались с куртизанкой скабрёзными замечаниями.
— Да, это единственная вещь в мире, которой становится тем больше, чем больше вы ею пользуетесь, — говорила женщина.
— В вашем рассуждении есть пробел, — возразил один из молодых людей, теребя рукой невысокие брыжи своего камзола. Длинный чёрный локон свесился на его красивое, внимательное лицо; в прорезах рукавов алела шёлковая подкладка.
— Ошибка в силлогизме, — подхватил другой студент, беспрестанно хихикавший толстяк, у которого воротник весь намок от пота.
— Когда сталкиваются два тезиса, суть которых не совпадает, то получается логический промах, — сказал третий, долговязый, редковолосый, в заплатанных штанах.
— Сорит Венеры, — вставил, небрежно щёлкнув пальцами, тот, что был одет получше, видимо, предводитель всей компании, — Inductio ad feminam.
Все трое засмеялись.
— Она раньше не была такой, — сказала францисканцу мать девушки. — Но её испортили, и у неё начались припадки. А в последнее время по ночам её всё мучают кошмары.
Ей наконец удалось поправить на дочери шаль и косынку. Девушка сидела неподвижно, не сводя глаз со старухи.
— Будем продолжать наш разговор, — сказал ноланец. — Приготовьтесь услышать логику, более глубокую, чем те силлогистические ухищрения, над которыми только что справедливо смеялись наши распугные приятели, сидящие напротив. Как вы уже успели бесстыдно заметить, соски этой девы совершенны по форме. Они совершенны, ибо идеально соответствуют своему назначению. Вот в этом слове «назначение» — ключ ко всему. Вдолбите это в свою пустую башку. Основное назначение этих грудей — кормить младенцев, а к этому уже присоединяются некоторые другие, менее важные функции, добавленные щедрой матерью-природой. Однако основное употребление, объясняющее их природу и строение, определяющее их форму, а следовательно, и красоту, их causa causans очень быстро лишит их этого чудесного оттенка слоновой кости. Чем ближе к могиле, тем они будут всё больше отвисать, и в конце концов, когда она будет молиться на коленях, её груди будут мести пол, как у женщины, которую я видел однажды в Тулузе, зайдя в церковь.
Вначале ноланец говорил почти шёпотом, но постепенно повышал голос. Кто-то из торговцев услышал слово «могила».
— Все мы умрём, — сказал он, жадно глядя на куртизанку, на её ногу, обтянутую красным шёлковым чулком, на пышные бедра.
— Возможно, — ответил худощавый. — Но всё зависит от того, что называть смертью.
Немец восторженно захлопал в ладоши:
— Какие мы все философы!
Куртизанка расправила потёртую дамасковую юбку.
— Я торгую дублёными ослиными шкурами, — сказал вдруг худощавый громко, с вызовом.
Купцы с изумлением уставились на него и все разом что-то недоверчиво забормотали. Трое молодых людей затеяли игру в карты. Стеклоторговец, с которым у худощавого был разговор на пристани относительно добавочной платы за проезд, теперь неприязненно спросил:
— И хорошо у вас идёт торговля, сударь?
Но беседу снова нарушила больная девушка. Она опять завизжала на старуху, та с трясущейся челюстью забилась в угол.
— Это ведьма! — вопила девушка. — Иисус Христос, спаси меня от неё! — Она замахнулась на старуху распятием. — Христос, сделай, чтобы её сожгли, как ведьму, раньше чем она успеет околдовать меня! Я уже чувствую, как в меня вселяется дьявол. — Она судорожно извивалась, прижимая к груди распятие. — Меня хотят околдовать!
— Ей бы съесть огурец! — растерянно твердила мать девушки. — Солёный огурец!
Монах, бормоча заклинание, которым изгоняют бесов, поднял с пола косынку, снова уроненную девушкой. Девушка со стоном уткнулась лицом в колени матери. Платье её вздёрнулось, открывая ноги без чулок, в красных туфлях с высокими каблуками. Ноги были искусаны блохами. Монах сел подле неё и, вперив глаза в её затылок, где из-под ленты выбивались мелкие кудряшки, тихим, проникновенным голосом стал говорить ей о неисчерпаемой благости Божией. Куртизанка объясняла студентам, отчего она носит непарные подвязки. Купцы толковали между собой о судьбе одного капитана-венецианца, ездившего в Софию. Капитан сошёл с ума после того, как у него от французской болезни провалился нос, и воображал себя львом Святого Марка. «А какой был достойный человек! Раз он ведром размозжил голову матросу, который ему нагрубил». Переплётчик-датчанин с грустными глазами тщетно пытался продать одному из венецианцев экземпляр четырнадцатого тома «Амадиса Гальского», переведённого на датский язык, в переплёте из телячьей кожи, или Часослов в шёлковом вышитом переплёте, с углами из серебряных нитей и галуна, серебряными застёжками и красными шёлковыми закладками.
— А мне нравится эта шёлковая книга, — сказала куртизанка. — Приходите ко мне, и я её куплю у вас. Сейчас у меня при себе нет денег. — Её быстрые глаза обежали всех мужчин. Датчанин с серьёзным видом записал её адрес. Еврей сидел неподвижно в самом тёмном углу.
Герман начал рассказывать о своих злоключениях. Он купил в Праге лошадь за двадцать гульденов и ехал на ней всю дорогу до Падуи, но когда в Падуе он её опять продал, его едва не надули.
Гордый приобретённым житейским опытом, хотя при этом и пострадал его карман, Герман объяснял, как ему следовало поступить. Надо было продать лошадь на одной из остановок недалеко от Падуи, тогда он взял бы за неё приличную цену и мог оставшуюся часть пути проехать в карете. А в Падуе все барышники в сговоре. Они знают, что содержание лошади здесь обходится очень дорого и поэтому обладатель её уже через несколько дней понизит цену. Каждый день к нему подсылали всё новых мнимых покупателей, для того чтобы они торговались с ним впустую; они уверяли его, будто рынок в Падуе забит лошадьми. Скоро Герман пришёл в уныние.
— Проклятые акулы! Но я таки перехитрил этих охотников за лошадьми. Я продал свою лошадёнку за двадцать крон серебром — дороже, чем рассчитывал. Дело в том, что я встретил земляка, который торговал когда-то в вольном городе Данциге. Но всё-таки, если бы я продал её по дороге в Падую, я мог за неё взять на пять-шесть крон дороже.
После своей красноречивой тирады по поводу грудей безумной девушки, человек, назвавший себя Фелипе-ноланцем, как будто утратил то бьющее через край оживление, которым искрились его умные глаза, которое прорывалось в голосе, звучавшем по-ораторски, несмотря на все его усилия говорить тихо, сказывалось это оживление и в беспокойных движениях худого тела, то грациозных, то резко порывистых. Теперь он сидел мрачный и делал вид, что слушает болтливого немца, но внимание его привлекало другое: полустёртый узор на юбке куртизанки; пряжки на туфлях девушки (которая, широко открыв глаза, слушала монаха); глубокие морщины вокруг рта её матери, волосы, росшие из ноздрей священника, который по-прежнему сидел, закрыв глаза и откинув назад голову; тростниковая циновка под ногами. Всё — отдельные детали, несущественные, но, сливаясь с тысячами других мелочей, они образуют целое — десятка два живых человеческих тел, управляемых беспокойными умами. Отрывки горя и надежд переплетались в том целом, что он называл своей жизнью; и было так трудно в них разобраться, а разобравшись, не давать воли отдельным переживаниям, не позволять им разрастаться, подобно раковой опухоли. Так много «души» — это уже болезнь, вроде рака. Обо всём этом думал ноланец.
Они плыли теперь вниз по реке Бренте. Баржа шла легко, так как её несло течением. По временам на берегу, по которому шли лошади, тащившие баржу, виднелись вспаханные поля, окаймлённые вязами, по вязам вились виноградные лозы — обычный ломбардский пейзаж. Беспорядочной кучей толпились убогие крестьянские домишки, полуголые дети играли вокруг навозных куч. Потом замелькали усадьбы богатых купцов Венеции и Падуи. На дальнем берегу спускались до самой воды сады с аллеями и фонтанами, группами плодовых деревьев, образующих беседки, с обширными воляриями, охраняемыми высокими изгородями, с башенками над арками. Висели тёмные, спелые гроздья винограда, айва, персики, яблоки, похожие на румяные и весёлые деревенские лица, цвели маки, алые, как кровь юной девушки. Время от времени мелькали пристани и лодочные сараи, яхты для катанья, разрисованные рыбами и водяными лилиями, украшенные лепными гирляндами роз и фигурами нереид. Пассажирам, выглядывавшим из-под полотняного навеса лодки, казалось, что перед ними мир безграничного благодатного изобилия. Отражённый в зеркале тихого лона реки, бегущей к морю, этот цветущий и благоустроенный мир садов был пределом всех желаний. Но что скрывалось в мелких и злых душах его хозяев? «Отвечай же, Фелипе-ноланец, ты, для кого ни один лебедь не скользит, гордо надувая грудь, в зелёной прозрачности времён, ни одна среброногая дева не сыплет ароматы на гиацинт, полоща прохладную руку в озере твоего тела». — «Мне этого не надо, — отвечал он мысленно сам себе, — мне ничего не надо».
Было уже близко к полудню, и всех пассажиров разморило. Даже девушка, содрогавшаяся с головы до ног всякий раз, как взглядывала на старуху, лежала теперь вялая у матери на коленях, спрятав под косынкой распятие, и тёмные волосы падали ей на страдальческие глаза. А францисканец всё говорил тихим, убедительным голосом о блаженном конце, когда душа её соединится с Христом в брачных покоях на небесах, в безоблачный день, среди никогда не меркнущего сияния золота и лазури.
— А вон там летняя вилла Морозини, — внушительным тоном заметил один из купцов. — У меня не далее, как на прошлой неделе, было деловое свидание с синьором Томазо Морозини. Ах, какой это великодушный человек, как он воодушевлён заботой об общем благе и какая деловая смётка!
Задремавший было немец проснулся оттого, что в нос к нему заползла муха. Он сердито оглядывался, ища, к чему бы придраться.
— Эй, вы, — обратился он к нотариусу, низенькому человечку с выступающей вперёд челюстью, у которого на правом колене лопнула штанина. — Вы из Анжера, не так ли? — И он процитировал поговорку: — «Анжер — город низкий, а колокольни высокие, здесь шлюхи богаты, а учёные бедны».
— Что вы такое говорите? — спросила куртизанка, очнувшись от дремоты.
— Это описание всего нашего мира, не только Анжера, — заметил ноланец.
— А у меня на чулке дыра, — сказала куртизанка.
— Femina reticulata, — насмешливо бросил студенте разрезными рукавами.
Девушка опять заметалась, твердя, что в неё забрался дьявол. Еврей сидел, потупив голову и надвинув на глаза жёлтую шапку; он не шевелился, только изредка поглаживал длинной красивой рукой свою жёсткую чёрную бороду. Нотариус из Анжера, онемев от ярости, молчал и только почёсывал нос.
— Смотрите, не ссорьтесь с ломбардцами, — сказал ноланец немцу, заметив, что студенты с интересом следят за ними. — Они под платьем носят кольчугу, и им ничего не стоит заколоть человека.
— Я не боюсь никаких ломбардцев или бомбардцев, — крикнул немец. — К тому же этот малый с противной физиономией не ломбардец, а француз. От него воняет.
— Ах ты, коровий пастух! — завопил нотариус. — Налитая пивом немецкая свинья!
Немец вскочил с места. Но в этот миг лодка дёрнулась, и он упал ничком.
— Мост, добрые господа! — прокричал весёлый оборванец-лодочник, просунув под навес своё обросшее бородой лицо. — Сейчас будем проезжать под мостом.
Немец, которому наконец удалось встать на колени, вызывал нотариуса на дуэль. Вмешались венецианцы. Священник наконец открыл глаза, поднялся и громовым голосом объявил:
— Дуэли запрещены Тридентским собором. Приказываю вам обоим не нарушать порядка.
Нотариус, уже окончательно очнувшись от дремоты, скрипучим голосом возразил:
— Не такой уж я невежда, как вы думаете. Собор обсуждал также вопрос об опасных вольностях, которые позволяют себе монахи, и предложил генералам орденов принять меры к тому, чтобы они проявляли больше скромности и любви к ближнему.
— Я не монах, — сказал священник.
— Не вы, так он. — Нотариус указал на францисканца. — Вы так просто от меня не отделаетесь, я — нотариус, человек, для которого вся низость человеческой природы — открытая книга.
— Оба они ещё пьяны, — заметил ноланец.
— Это верно, — подтвердил немец, оглядывая всех с сияющей улыбкой. — Мы с этим анжерцем пили вместе. Пьёт он замечательно, надо отдать ему справедливость.
— За это я вам всё прощаю, — сказал нотариус. — Прощаю... а что это я ему прощаю?
Он вопросительно посмотрел на всех, но никто уже не помнил, что, собственно, произошло. Один из пожилых венецианцев успел произнести целую речь, пока лодка проходила под мостом.
— Терпеть не могу проезжать под мостами, — заметила куртизанка. — Под ними так сыро и темно. И мне всё кажется, что мост непременно обрушится.
Девушка застонала. Один из студентов уронил на пол карту и выругался вслух, так как карта попала в грязь. А пожилой венецианец всё разглагольствовал.
— Путешественники, приезжающие в Венецию, — говорил он, — должны ценить, что на территории республики им дозволено носить шпаги. Нигде в Италии такие вольности не допускаются.
Нотариус мешал ему говорить, ворчливо твердя, что он должен знать, что именно прощает немцу, иначе он не может его простить.
— Кроме того, — добавил он, — мне всё равно пришлось бы отказаться от дуэли с каким-то поганым немцем, который умеет только рубить шпагой направо и налево. Немецкие правила фехтования — чистейшее варварство. Я их признать не могу. Это всё равно как если бы я позволил моей жене одеваться так, как женщины в Саксонии, которые ходят босиком, а юбки для удобства закатывают до талии.
— Ложь! — прорычал немец. — Вы оскорбляете священную женственность германок!
— Спокойствие, братья, спокойствие! — вмешался францисканец. — Из-за чего у вас эта перебранка? Разве великий Божий дар — жизнь — не заключает в себе столько радости, что дни наши должны проходить в благодарственных песнопениях Господу, а не в пагубном гневе и гордыне? Не потому ли среди нас царит нужда, что мы посягаем на то, что принадлежит одному лишь Богу? Разве вы не слышите, как поют птицы, которые мудрее нас?..
— Они в клетках, — промолвила крестьянка с корзиной, снова краснея и пугаясь своей смелости. — Уж как жалко бывает смотреть на певчих птиц в клетке...
Францисканец улыбнулся ей и продолжал:
— Разве есть в жизни нашей цель более достойная, чем славить того, кому поют хвалу соловьи, не зная соперников?
Больная девушка опять исступлённо замахнулась распятием на старуху. Священник, который до тех пор стоял, прислонясь к столбу навеса, сел и подпёр голову руками. Еврей медленными и осторожными движениями достал платок и плюнул в него.
— Мой ход, — сказал студент в красных штанах.
Вдалеке какой-то лодочник покрикивал на лошадей.
— Славить! — фыркнул ноланец, — «Все молитвы кончаются одинаково». — Он побренчал деньгами в кармане, намекая этим на смысл приведённой пословицы. Пассажиры захохотали. Не смеялись только священник, застывший в одной позе, еврей, больная девушка, старуха в углу да крестьянка, которая в эту минуту ела хлеб с варёной свининой. Купцы, сдерживая смех, с важным видом уставились на доски настила, от которых шёл запах смолы и речной тины. Ноланец внезапно стал серьёзен. Девушка, встретясь с ним взглядом, долго смотрела на него, открыв рот, потом перекрестилась. Долговязый студент взял у крестьянки кусок свинины и стал дразнить им еврея. А еврей сидел с упрямо-замкнутым и скорбным лицом, словно отгородившись от мира.
Они добрались до деревни Лиццафузина, где на реке была построена плотина, для того чтобы ил болот, постепенно отлагаясь, не соединил в конце концов Венецию с материком. Лодочники распрягли лошадей, тащивших баржу, и принялись крепить канаты, готовясь перетаскивать баржу из Бренты в болота, начинавшиеся за плотиной. Пассажиры стояли группами, наблюдая, как работает подъёмная машина, или глядя вдаль, туда, где, отделённая от них несколькими милями моря, за лёгкой дымкой тумана блистала Венеция в лучах угасающего дня. Сказочный остров, куда казалось немыслимым доплыть на этой лодке из необструганных брёвен, которая, кряхтя и скрипя, поддавалась усилиям тащившего её крана.
— Вот уж тринадцать лет прошло с тех пор, как я последний раз видел эту картину, — сказал ноланец, обращаясь к одному из купцов. — Тогда здесь свирепствовала чума.
Купец покосился на говорившего, пробормотал молитву святому Рокку и, плюнув, отошёл. А к ноланцу несмело приблизилась нарумяненная и набелённая куртизанка. В ярком дневном свете видно было, что её большой рот не накрашен. Малиновые губы женщины будили острую боль вожделений.
— Я слышала то, что вы говорили. Во время чумы умерла моя мать. Сколько лет тому назад это было?
Он ответил ей, и куртизанка продолжала:
— Нет, значит, это случилось не тогда, а раньше, я была совсем крошкой. Мне было лет пять. А теперь мне двадцать. — Она как будто пыталась проследить полет времени. — Пять лет... пятнадцать лет тому назад... — Она наморщила лоб под слоем белил. Безнадёжно усмехнулась. — Я говорю, что мне двадцать, но на самом деле я не знаю, сколько мне лет. Откуда мне знать? — Она понизила голос до шёпота. — Значит, вы не могли быть моим отцом. Видите, как откровенно я с вами говорю обо всём... Я постоянно стараюсь вспомнить, в каком году было то или иное, но не знаю ничего наверное... Мне нравятся пожилые мужчины...
Он читал на её накрашенном лице робость, простодушие, алчность, сменявшие друг друга. В конце концов осталось выражение наивности и лёгкого удивления, и тогда ноланец улыбнулся ей. Женщину успокоила его улыбка. Он хотел, чтобы она ушла, и в то же время его влекло к ней, к её вульгарному рту на детском лице. Ему говорить не хотелось, а она хотела, но не находила слов.
— Я, наверное, кончу тем, что попаду в какой-нибудь монастырь, — сказала она с усмешкой. — Там заставляют тяжело работать.
Её грудь под накладкой бурно вздымалась, волнуема жаждой сочувствия. Ноланец продолжал в упор смотреть на неё, взгляд его становился всё жёстче, а в женщине постепенно просыпался страх. Она уже готова была сделать всё, что угодно, только бы укрыться от этих глаз. Он понимал, что ей было бы легче, если бы он ударил её, но, если бы даже у него и было такое желание, боль в голове мешала сделать это. Боль, казалось, делала всё тело хрупким, способным разбиться, подобно вазе, в топорных руках этой женщины. Нет, не бить эту женщину хотелось ему, а поддаться слабости и погрузиться в трясину этого безобразного, кроваво-алого рта и удивлённых детских глаз. Он смотрел в глубину того страха, который испытывала женщина, в глубину чего-то неведомого. Она сказала жалобно:
— Я не буду вас звать к себе. — Она сказала это хриплым, дрожащим голосом и растерянно подняла руки к горлу. — Вы бы не пошли... К тому же я больна.
Её глаза умоляли. Ноланец не в силах был улыбнуться ей, он всё ещё вглядывался во что-то неведомое: источник жизни замутился в самой своей глубине. Ноланец коснулся руки женщины.
— Вы хорошая, — сказал он. — Ступайте лучше сразу в монастырь. Это для вас единственный выход.
— Я знаю, — согласилась она всё с тем же тихим и безнадёжным смешком. — Что ж, пойду. — Она искоса метнула на него взгляд. — Даю вам слово.
Он понимал, что она лжёт. И, недоумевая, что побудило её говорить с ним о себе, предвидел неизбежную перемену, уже заметную в её косом взгляде, в её манящем шёпоте.
— А насчёт болезни я пошутила... И ведь есть разные способы... вам нечего бояться. Может быть, всё-таки пойдёте ко мне? Тогда я скорее решусь идти в монастырь. Я чувствую, что вы такой сильный! Я хочу сказать — сильный духом. Пойдёмте ко мне!
Ноланец не отвечал. Он уже попросту забыл об её присутствии. Женщина ушла. А он опять задумался о далёких дворцах Венеции, которые плыли к нему навстречу в свете угасающего дня, словно сквозь туманы расстроенного воображения. Он чувствовал, что устал, он жаждал поскорее найти приют на этом острове, там, впереди, где вода пылала множеством оттенков, в которые даль вплетала зелёные блёстки и розовые перья заката, в этом городе, где мужчины и женщины плели интриги, боролись, плутовали, сжимали друг друга в объятиях, изнемогали в дурмане влажной жары и зловонных болотных испарений. С нежностью думал он о женщинах, у которых пышная масса волос тлела червонным золотом. И вновь, как бой невидимых часов, отмеряющих время, иное, чем то, какое отмеряется днями и ночами, ударил в сердце страх, ледяными струйками пополз по телу, — и ноланец простёр руки ладонями вперёд, словно отгоняя его. «С этим ещё не кончено», — подумал он.
Пассажиры пошли на постоялый двор — все, кроме безумной девушки и её матери, которым не нужно было ехать дальше. Перед постоялым двором стояли кареты богатых путешественников, желавших избежать неудобного переезда в лодке. У дальнего конца плотины выстроился ряд гондол, и гондольеры громко зазывали пассажиров, клятвенно уверяя, что доставят кого угодно в Венецию на много часов раньше, чем баржа. В другие лодки слуги ставили бочонки со свежей речной водой, ибо богатые венецианцы не желали пить солоноватую воду колодцев и цистерн, которой вынуждены были довольствоваться бедняки, и ежедневно посылали на материк за речной водой.
В трактире шумели посетители, требуя, чтобы им сообщили стоимость заказанных блюд раньше, чем их подадут. На вина существовали более или менее твёрдые цены, но о ценах на еду в гостиницах следовало всегда осведомляться заранее, иначе вас могли обмануть.
Громкий всплеск воды, хриплые крики лодочников и весёлый хохот гондольеров возвестили какое-то событие. Это подъёмный кран с неожиданной для всех быстротой опустил лодку.
— Ох, они её уже перебросили! — причитала старуха, вышедшая из того оцепенения ужаса, в которое её привели обвинения безумной девушки. — А я забыла под лавкой мои туфли. Ох, и что я теперь буду делать?
Куртизанка сказала: «Бедняжка!» — и предложила старухе денег, но та не взяла. Монах стоял у окна, завешенного красивыми вышитыми занавесками с плетёным кружевом по краю. Один из венецианцев поднёс ему стакан вина, но францисканец только покачал головой и усмехнулся. Священник ходил взад и вперёд по дорожке перед домом. Немец-студент залпом выпил большой кубок вина и самодовольно подсмеивался над нотариусом, который заснул, лёжа головой на столе в луже вина и выставив напоказ свою острую лысеющую макушку.
Худощавый пассажир с каштановой бородой, доев остатки жареной тыквы со стоявшего перед ним блюда, приказал подать ещё вина и выпил два кубка. Затем он подошёл к окну и стал смотреть на даму, которая сидела развалясь в одном из экипажей. Она была безобразно толста. В то время как ноланец наблюдал за ней, она вышла из кареты. Тотчас подскочил паж с красным шёлковым зонтиком, обшитым серебряной бахромой. Ручка у зонта была слишком длинная, пажу трудно было держать его так, чтобы заслонять от солнца лицо госпожи. И всякий раз как луч солнца скользил по её лицу, она била мальчика веером по глазам.
Худощавый перешёл к тому окну, где стоял францисканец.
— Как жаль, что вы заблуждаетесь, — сказал он, направляясь к дверям.
На выбеленной стене были написаны мелом условия найма лошадей, а пониже — неприличная фраза, уже наполовину стёршаяся. Худощавый опять вернулся к монаху.
— Я не так выразился. Никогда не следует жалеть о том, что ложь есть ложь. Ложь никогда не бывает прекрасна. Но вы не понимаете. Да и где вам понять? — Он вздёрнул губу. — Нет лучшего христианина, чем сводник, ибо он поступает со всеми людьми так, как желал бы, чтобы люди поступали с ним. — С лица монаха всё не сходила улыбка.
Наконец пассажиры снова вернулись на баржу, чтобы ехать в Венецию. Провожаемая руганью гондольеров, баржа двинулась среди тростников, мимо зелёных островков; и уже близко из тумана вод поднималась Венеция, постепенно вырастая перед их глазами, но не теряя воздушности очертаний. День был тихий, безветренный. Один из гребцов свалился со скамьи, и лодка накренилась. Куртизанка вскрикнула, монах перекрестился, предохраняя себя этим не от опасности, а от суетности мирской, прозвучавшей в гортанном крике женщины. Этот крик напомнил ему что-то, мрачной тенью промелькнувшее в его глазах и тотчас исчезнувшее. Старуха ухватилась за край его рясы, бормоча:
— Помолись за меня, святой отец.
— Никакая опасность нам не грозит, — сказал студент-юрист. — Разве вы не слыхали пословицы: «Никогда не потонет та лодка, где есть студенты, монахи и шлюхи». А у нас тут имеются представители всех этих трёх профессий.
— Правда, — подхватила куртизанка своим жеманным детским голоском. — Четыре студента, три священника и я. — Она улыбнулась францисканцу, но он пристыдил её страдальческим спокойствием своей братской приветливости, его ответная улыбка была подобна свече, горящей внутри голого черепа. — Я уйду в монастырь, — сказала женщина тихо, наполовину про себя, и повернулась, чтобы с дикой ненавистью посмотреть на ноланца.
Немец, борясь с дремотой, продолжал насмехаться над мирно спавшим нотариусом:
— Хотел бы я посмотреть, как он будет пить в Касселе. Там пиво крепкое, оно начисто вымывает человеку внутренности. Кассель — мой родной город. Я много болтался по свету. Nihil humani... Странные вещи приходилось мне видеть... Я уже вам рассказывал о лекциях по анатомии. Женщины в моих глазах лишь вместилище требухи, бесконечного множества кишок. Жизнь у меня была тяжёлая...
Один из венецианцев, томимый каким-то чувством разобщённости с миром, глядел вдаль, за нагретую солнцем водную ширь. Он начал рассказывать о чуде, которое недавно произошло во Франции, в церкви Святой Марии в Бурже. («Бурж, знаю, как же, — подхватил шёлкоторговец, — там живёт моя тётушка».) Чудо состояло в том, что на всех покровах и облачениях, даже на плаще проповедника-монаха появились кресты — четырёхугольные, величиной в полкроны... А когда еретики стали высмеивать это чудо... («Да, — вмешался снова шёлкоторговец, кивая головой, — в Бурже есть еретики, но моя тётушка верующая, она готова выцарапать глаза каждому еретику, который ей попадётся».)... кресты появились и на брыжах у многих мирян, даже на платьях женщин.
— Вот видите, женщины не так уж недостойны милости Божьей, — заметила куртизанка, но на неё никто не обращал внимания. Венецианец продолжал рассказывать:
— Изображения чудесных крестов были привезены в Венецию и выставлены напоказ...
— А купить такой крест можно? — спросила куртизанка, но её по-прежнему никто не слушал.
— Это знамение победы, — сказал францисканец, беседовавший со старухой.
— Иду королём! — объявил один из студентов и бросил карту на лавку так размашисто, что она слетела в воду. Между игроками поднялся спор. — Легко доказать, что это был король, — настаивал студент. — Проверьте колоду и вы увидите, какой карты недостаёт.
— Такое же знамение, — продолжал францисканец среди общего шума, — было ниспослано Константину, и оно предвещало победу.
— Этот Константин, — угрюмо пояснил священник, окинув всех сердитым взглядом, — дал Святой Церкви власть мирскую, которой множество нечестивцев теперь не признает.
Среди венецианцев поднялся ропот. Этот священник, должно быть, не из Венеции, он, наверное, чужой; его речи напоминают выступления сторонников Папы, таких, как Беллармин, против свободы и прав республики.
Ноланец, поджав губы, шепнул датчанину:
— Скажите ему, чтобы он прочитал Валлу. Ничего Константин не давал Церкви. Я уважаю Валлу, это был великий человек. — Голос его замер, словно от усталости, и он закрыл глаза, не слушая датчанина, который воскликнул, от увлечения захлёбываясь словами:
— Да, да, я как раз переплетал экземпляр его сочинения «De voluptate» для одного молодого человека из Эльсинора. «De voluptate et vero bono» — вот как оно называется. Я это хорошо помню потому, что я сломал одну из букв, V, и запасной у меня не было, а заказчик ужас как торопил меня. Из-за спешки я испортил целую пачку листового золота. Да, я всегда буду помнить Лоренцо Валла. Видите, мне даже известно его полное имя...
— «De professione religiosorum dialogus», — отозвался ноланец, всё ещё не открывая глаз. — Мне бы следовало раньше прочесть сочинения Валлы. Великий человек.
Слёзы потекли по его щекам. Датчанин, движимый смутным чувством жалости, склонился над ним так, чтобы другие не увидели этих слёз. А Венеция внезапно вынырнула совсем близко из-за мерцающей дымки ранних сумерек.
Произведения
Критика