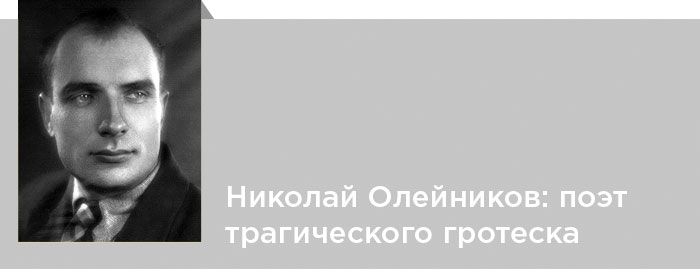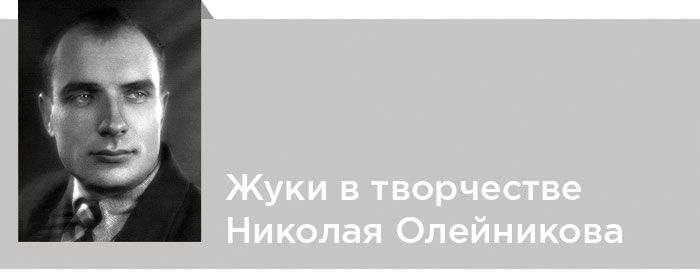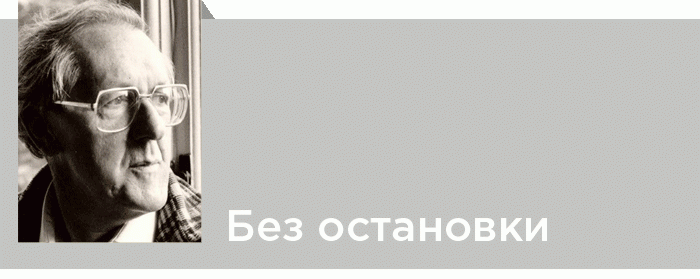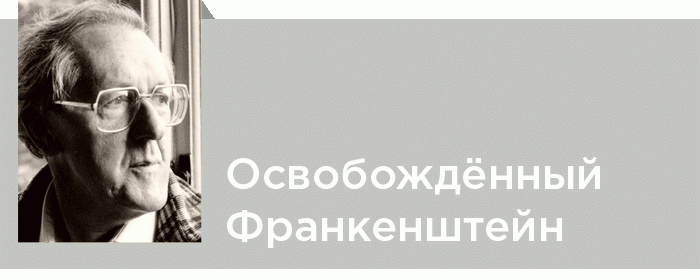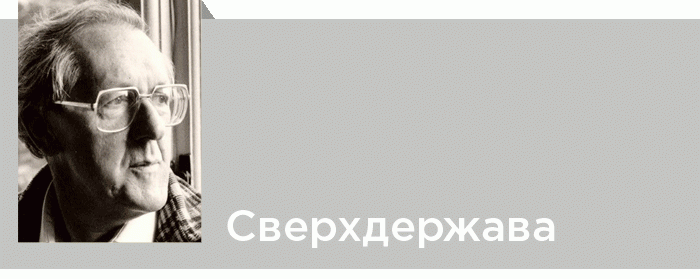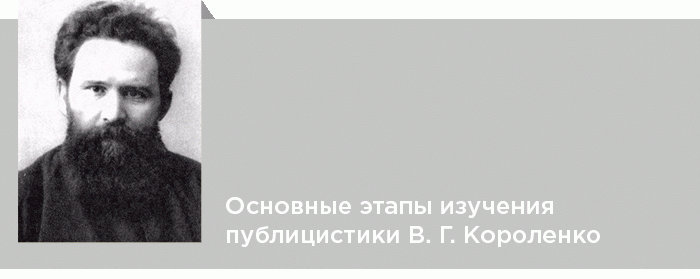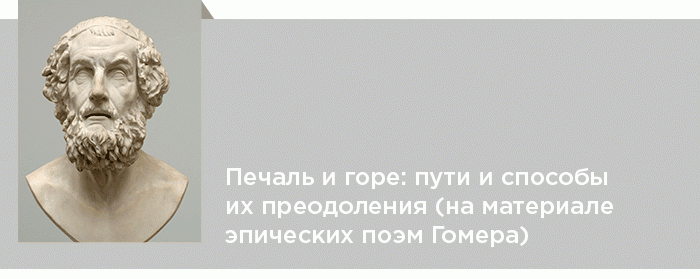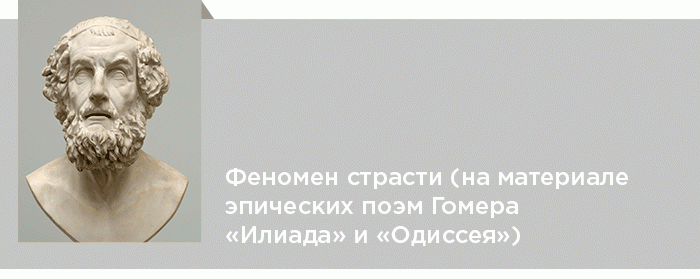«Перетолкование» классики - «Освобождённый Франкенштейн» Б. Олдиса
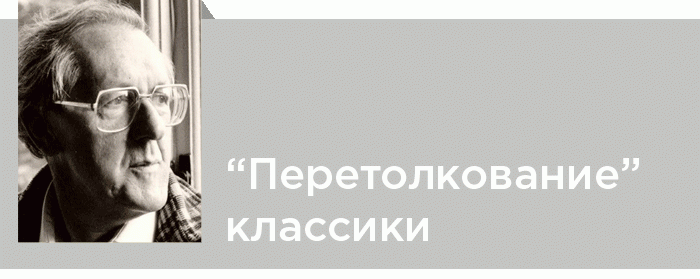
Т.Г. Струкова
В статье предлагается анализ современной интерпретации знаменитого романа М. Шелли «Франкенштейн», появившейся в творчестве Б. Олдиса. Произведения его только начинают становиться предметом литературоведческих исследований. В отечественной науке искусство Б. Олдиса - область практически не изученная. Оно интересно само по себе, но и в связи с феноменом «мерцания» классической литературы в современном литературном творчестве - все то, что пристально изучается сегодня в западном литературоведении.
На протяжении почти двухсотлетней истории существования роман Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818) стал особым знаком, который с течением времени проникает в разноуровневые культурные слои, далеко уходя от обозначенной писательницей проблемы. Список романов, повестей, рассказов, драм, сценариев, в которых, так или иначе, мерцает «Франкенштейн», можно продолжать бесконечно. Но лучше задаться вопросом, а почему из немаленького творческого наследия писательницы только ее первое творение стало каноническим и так притягивает и массового читателя, и искушенного ценителя, хотя другие произведения, например, «Последний человек» (1826), не уступают ему по художественным достоинствам. Ответ, на наш взгляд, заключается в том, что в первом романе Мэри Шелли затронула важнейшие проблемы бытия. Эти «проклятые» вопросы пронизывают философские, научные и эстетические искания, интерес к ним обостряется в эпоху социальных переломов: может ли человек выступать в роли Бога, изобретая себе подобного, имеет ли он право на вмешательство в загадки природы, каким образом происходит сотворение жизни, была ли Ева создана из ребра Адама.
Стоит вспомнить рассуждения X.Л. Борхеса о нестабильности писательских репутаций и текучести читательских привязанностей, о необходимости менять художественные средства, способные возбуждать чувства, иначе «они изнашиваются». Проблема эстетической значимости того или иного произведения, весомости творческого вклада в литературу какого-либо автора (если воспользоваться устоявшейся, но, на наш взгляд, уже теряющей актуальность терминологией, то определение писателя «первого ряда, второго ряда» и так далее) неоднозначна. Часто мы не задумываемся, каким образом создается репутация художника, каковы факторы ее изменения, а истинная ценность писательского наследия может подменяться высказыванием критика. При этом из поля зрения исчезает осознание того, что разные критические школы тоже становятся неотъемлемой частью литературного процесса, а, следовательно, и борьбы. Вопрос об упрочении или, наоборот, падении писательской репутации определяется не только критикой, но и зависит от множества внешних причин, среди которых актуальными являются разнохронологическая читательская рецепция, отзывы других художников внутри самой эпохи, авторское стремление поддерживать или менять уже созданное мнение.
Причем количество этих параметров функционирования текста в большом времени указанными факторами не ограничивается, но мы можем уравновесить исследовательский субъективизм в том случае, если соотнесем собственную позицию с другими воззрениями. Важным представляется осознание того, что существующая в определенный момент оценочная градация также имеет тенденцию эстетического или идеологического диктата, не нарушая которого, или, наоборот, преодолевая его, писатель создает свое произведение. И этот дискурс, в свою очередь, меняется во времени. В эссе «По поводу классиков» читаем: «Всякое предпочтение может оказаться предрассудком». Именно полифония точек зрения, безусловный отказ от авторитарности суждения создает объемную картину существования текста и в ушедшей эпохе, и его «прорастания» в современном литературном потоке. Вопрос о классичности произведения изящно раскрыл X.Л. Борхес: «Классической... является... книга, которую поколения людей, побуждаемых различными причинами, читают все с тем же рвением и непостижимой преданностью».
По мере развития культуры архетипические константы бытия, закрепляясь на уровне подсознания человека, формируют мощный, зачастую рационально не осознаваемый пласт генетической памяти, которая проявляется неодинаково у разных людей в силу несходства их образовательных, психологических, эмоциональных, социальных уровней. В сознании реципиента уже существует синтезированное представление о реальности, которое накладывается на авторский вымысел в процессе восприятия произведения. Переосмысление или, иначе говоря, новое прочтение текстов предшествующих столетий происходит потому, что и общее, и личное понимание действительности, имеющее как форму коллективной рефлексии, так и абрис индивидуальной картины мира, является разным в эпохи, удаленные друг от друга.
Одна из сюжетных линий романа Мэри Шелли связана с мифом о Прометее, похитившем огонь у богов и спасшем людей от гибели. Повествование о Франкенштейне, будучи авторским переосмыслением предшествующего мифа, становится, в свою очередь, основой современного неомифотворчества. Мэри Шелли уловила глубинный элемент мифа, его способность являться своеобразным нейтрализатором культурной бинарной оппозиции, в данном случае, пары ученый - прогресс, которая начинает резонировать коллективному бессознательному другого времени, объединяя прошлое с настоящим. Трагическая история ученого, который посягнул на роль Бога, предоставляет уникальную возможность для рефлексии «над... мышлением, мыслящем о мифе». Судьба Франкенштейна может считаться мифом для мифа.
В новейшей литературе неомиф, позволяя писателю варьировать сюжет, стиль, состав героев, хронологию, географию и топографию действия, оставляет в неприкосновенности основное повествование, и чем оно значительнее во всех смыслах, тем дольше этот дискурс существует в культурном пространстве. Еще одним фактором длительности мифа является его созвучие новому контексту и пусть даже отдаленное соответствие иной системе реальности. Французский философ Ж.-Л. Нанси так объясняет активное использование мифа искусством XX столетия: «Речь шла, наконец, о том, чтобы еще раз разыграть всю мощь мифа вне угасших мифологий, подхватить ее в правилах иной игры».
Исследование вопроса литературного долголетия романа «Франкенштейн» должно быть, на наш взгляд, направлено не только на выяснение того, каким образом изменяется восприятие оригинала читателями разных эпох в хронологической ретроспекции, и не на констатацию факта, что необходимо восстановить первоначальную версию произведения. И то, и другое, несомненно, является важной и кропотливой работой, потому что даже авторские первое и второе издания разнятся, а читатели каждого последующего поколения воспринимают его иначе, чем прежде. Особенностью исторического существования романа «Франкенштейн» является то, что на протяжении почти двухсот лет это произведение превратилось в безусловный канон, оно бесконечно растаскивалось на цитаты и цитации, обрастало невероятным количеством адаптаций, «дописываний», «перетолкований», аллюзий, пародий, буффонад, да и просто неверно прочитывалось. Более поздние напластования, уходя все дальше от исходного текста, представляют собой не примитивные дополнения к франкенштейновскому мифу, но, оттолкнувшись от первоисточника, являются самостоятельным неомифом XX века, потому что дают возможность как нельзя лучше выразить ощущение утраченной цельности бытия в «мире без Бога».
Длительность существования франкенштейновского мифа в XX веке обусловлена не только тем, что в нем явленными становятся отношения человека и искусственного существа. Все это в нем, несомненно, есть, но существует и более глубинная проблема: франкенштейновский миф обращен, в первую очередь, как к взаимоотношениям между людьми, так и к взаимосвязи между человечеством и природой, причем метафорический уровень романа значительно богаче психологического или технологического. Миф о Франкенштейне формирует сложный культурологический код, который составляет одну из множества ячеек интертекстуальной сети. У Р. Барта читаем: «Код - это не реестр и не парадигма, которую следует реконструировать любой ценой; код - это перспектива цитации, мираж, сотканный из структур; он откуда-то возникает и куда-то исчезает - вот все, что о нем известно; ... все это осколки чего-то, что уже читано, видено, совершено, пережито: код и есть след этого уже. Отсылая к написанному ранее, иначе говоря, к Книге... он превращает текст в проспект этой Книги».
Роман Мэри Шелли, который современники воспринимали как шокирующий художественный эксперимент, возникший на стыке просветительской, предромантической и романтической эстетики, мощно пророс в XX столетии. Он удивил читателей силой прогностики и обернулся своеобразным предупреждением, а можно сказать, и посланием будущему, которое оно с устрашающей точностью реализовало в зеркальном отражении. Предположение Мэри Шелли о том, что человек в полете своей фантазии может стать разрушителем, соответствует цивилизационному контексту ушедшего века. Это созвучие наиболее явственно резонирует в исторической практике столетия, которое неоднократно тяготело к авторитарным режимам и энтропии.
Конец XX столетия обострил понимание того, что кардинальное расхождение технократической цивилизации и культуры чревато гибельными результатами. Ж. Бодрийар пишет о чрезвычайной степени отчуждения человека в современном мире, когда почти абсолютное освобождение во многих областях жизни породило неуверенность и растерянность. Возможность формирования индивидуальной вселенной, изначально бывшая прерогативой Бога, так притягивает художников XX века Внутреннее ощущение собственного безграничного могущества Виктора Франкенштейна созвучно большинству писателей, придерживающихся модернистской и постмодернистской эстетики. К примеру, постмодернизм, как в свое время романтизм, не мыслит духовного развития человека без подлинного творчества, в котором есть «скрытая тайна» вдохновения, что сродни божественному промыслу.
Возрастающий интерес к гуманитарному знанию подтвердил еще раз следующую идею: потеря нравственных ориентиров, использование культуры в качестве служанки техники приводит к почти необратимым последствиям. Плата за научные озарения, за бесконечные усовершенствования ради новых усовершенствований становится так высока, что она переходит критический уровень, а существование европейской цивилизации становится сомнительным. X. Ортега-и-Гассет настаивал. «Те люди, что готовы завладеть Европой, - такова моя гипотеза - это варвары, которые хлынули из люка на подмостки сложной цивилизации, их породившей. Это - «вертикальное одичание» во плоти».
В свою очередь X. Кортасар сказал в интервью Э. Пикон: «Я абсолютно убежден и с каждым днем ощущаю глубже и глубже: мы выбрали не тот путь, ошибочный путь, короче говоря, человечество заблудилось, ошиблось дорогой. Я имею в виду прежде всего западный мир, потому что о Востоке знаю довольно мало. Итак, мы пустились по исторически неправильному пути, который ведет нас прямиком к финальной катастрофе, в любом случае нас ждет уничтожение - война, загрязнение окружающей среды, усталость, коллективное самоубийство, что угодно».
На рубеже XX и XXI веков роман «Франкенштейн» еще раз актуализируется как памятник литературы и вновь актуализирует серьезнейшие вопросы современной цивилизации. Может ли благое намерение ученого указать человечеству путь в рай или существуют запретные области знания, которые человеку, как бы он ни претендовал на роль демиурга, способного создать идеальную вселенную, открывать рано в силу его нравственной незрелости. Виктор Франкенштейн, вызванный к жизни силой авторского воображения, приобрел на протяжении двух столетий удивительную свободу существования и стал символом растерянности западного мира. Этот персонаж не только породил целую литературную плеяду героев-ученых, но, что более важно, акцентировал безусловную потребность в гуманистической нацеленности научного эксперимента.
Литературная рефлексия по поводу классических книг идет по трем направлениям: структурирование отношений между оригиналом и вновь создаваемым текстом, определение иного взгляда на историю, которая одновременно соединяет и разделяет, а также между новым романом и другими произведениями того же периода. Романы, базирующиеся на «переписывании», восстанавливают прошлое, которому принадлежит авантекст, делают его более близким и понятным современнику. Подобные художнические опыты подтверждают как длящееся воздействие повествовательного канона на настоящее, так и его модернизацию, нацеленность предшествующего дискурса на внедрение в нынешнюю эпоху. Стивен Коннор в работе «Английский роман в истории. 1950-1995» пишет: «Одним особо маркированным качеством послевоенной литературы и в Великобритании, и везде, которое установило важную связь между историей и романным повествованием, является практика переписывания предшествующих произведений».
Во второй половине XX века постмодернистская литература стремится включить в единый интертекст предшествующий литературный опыт, предпочитая выстраивать отношения между предтекстами и вновь создаваемым произведением не на тотальном отрицании, а на приятии традиции и ее ином толковании с тем, чтобы не начинать все с чистого листа и не обрывать связь времен. Причем «переписывание» имеет одну интересную особенность: авторы стремятся восстановить условия появления того или иного канонического текста, «переписыванию» предшествует «предыстория», которая излагается другим писателем. В этом случае оригинальность литературного мифа удваивается. Объясняя этот феномен, современная критика оперирует такими понятиями как: переработка, трансляция, адаптация, имитация, подделка (чаще всего ироническая), плагиат (акцентированно-иронический), пастиш, транспозиция. В обращении к традиционным кодам, которые могут использоваться в моделировании новых произведений, английский постмодернизм видит борьбу человека против небытия, когда «закрылось небо».
Принцип, скажем так, намеренного обновления текста проявляется в версии библейского потопа, представленной Джанетт Уинтерсон в романе «Ковчег для новичков» (1985). Сьюзан Хилл пишет роман «Туман в зеркале» (1992). Джин Рай «переписывает» «Джейн Эйр» Ш. Бронте в романе «Далекое Саргассово море» (1966), а Сью Роу использует в качестве предтекста «Большие ожидания» Ч. Диккенса в собственном произведении «Эстелла: ее ожидания» (1982). Эмма Теннант создает на основе повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» роман «Две женщины в Лондоне: странная история мисс Джекила и миссис Хайд» (1989). Марина Уорнер обращается к «Буре» Шекспира и публикует роман «Индиго: или картография волн» (1992). Во всех случаях перетолковывается канонический текст, который сам с течением времени превратился в литературный миф. Новые вариации интенсифицируют, восстанавливают или иронически обыгрывают идею оригинала. Особо отметим: в каждом классическом произведении, которое «адаптируют» современные авторы, повествовательная энергия настолько сильна, что она самым естественным образом продуцирует совершенно иное прочтение в других исторических условиях.
Название романа Б. Олдиса «Освобожденный Франкенштейн» (1973) заявляет, что перед читателем текст, в котором обыгрывается заглавие шеллиевского «Франкенштейна, или Освобожденного Прометея» (1818), тогда как использование Олдисом эпиграфов из «Манфреда» Байрона и «Трактата о живописи» Леонардо да Винчи акцентировано указывает на отличие от шеллиевского романа. Писательница цитировала Мильтона. А вот композиция «Освобожденного Франкенштейна» как раз ориентирована на подчеркнутое следование форме «Франкенштейна». Олдис начинает свой роман практически так же, как это сделала Мэри Шелли, - письмом героя своей далекой собеседнице. Джо Боденленд, живущий в Нью-Хьюстоне, сообщает жене Мине о технических катаклизмах, которые охватили землю, о прорыве пространства-времени. Роман Олдиса, как и произведение М. Шелли, распадается на две неравные части: первая представляет собой сообщения бывшего советника президента жене, а вторая - «записанный на пленку дневник Джозефа Боденленда». В первой половине романа Олдиса всего четыре небольших главы: два письма Боденленда от 20 и 22 августа 2020 года, «передовица из номера «Таймс» от 20 августа 2020 года», «Компком - депеша от нянечки Грегори миссис Мине Боденленд» и «извлечение из записи разговора по открытому телефону между миссис Миной Боденленд и нянечкой Шейлой Грегори». Вторая часть романа Олдиса значительно объемнее: она состоит из 27 глав, рассказанных человеком, выброшенным в результате технологической катастрофы из XXI века в начало XIX столетия. Именно в этот раздел включены встречи Боденленда с Байроном, Шелли, Мэри и героями ее первого произведения. Вторичная условность шеллиевского романа переплавляется в ходе художественного эксперимента и превращается в третичную условность.
Оборотничеством по отношению к произведению Мэри Шелли является то, что сам Боденленд в момент написания писем не путешествует. Он не рвется, как шеллиевский Уолтон, открывать мир, который ко времени начала повествования давно уже открыт, опутан компьютерными системами, роботизирован и находится в состоянии постоянной войны «Запада, Южной Америки и сил Третьего мира». В первом письме Боденленд сообщает жене, которая находится в далекой экспедиции, что наслаждается отдыхом на ранчо с внуками. Но безудержное и бесконтрольное вмешательство человека в органичное развитие вселенной вынудило всех людей путешествовать вне зависимости от их желания. В романе читаем: «Мы обнаруживаем доселе нераспознанную взаимосвязь между нашей планетой и инфраструктурой пространства, которое окружает и поддерживает ее. Эта инфраструктура оказалось разрушена - или, по крайней мере, повреждена - до такой степени, что теперь в ее функционировании происходят непредсказуемые сбои, с последствиями которых мы сталкиваемся. И пространство, и время пошли, так сказать, вразнос. Мы не можем более полагаться даже на нормальное развертывание временной последовательности; завтра может обернуться прошлой неделей, или прошлым веком, или эпохой фараонов».
Во время первого путешествия в XIX век Боденленд пытается спасти Жюстину Мориц, которая в романе Мэри Шелли была обвинена в убийстве брата Франкенштейна. По воле автора Боденленд знакомится с кружком Байрона-Шелли, влюбляется в Мэри, говорит ей, что она будет не менее знаменита, чем ее будущий муж. Он встречается с Франкенштейном, который, к его изумлению, существует во плоти, а не является плодом воображения писательницы. Герой начинает слежку за швейцарским естествоиспытателем, затем оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Следующая конвульсия пространства-времени, нарушившая в очередной раз пространственно-временной континуум, чудесным образом освобождает Боденленда из темницы. Преследуя безответственного, как он считает, экспериментатора, Боденленд отыскивает его лабораторию, находит в сарае свою машину, которую у него украла для Франкенштейна Элизабет Лавенца, с ужасом наблюдает за созданием подруги для Монстра. В порыве отчаяния, считая, что Франкенштейн стоит у истоков разрушения вселенной, так как его безумные опыты привели к уничтожению гармонии бытия, Боденленд его убивает.
Герой романа Олдиса убежден, что именно он должен восстановить прорванную субстанцию, так как ее истончение и пространственно-временные скачки в XXI веке - это результат прошлого непродуманного вмешательства в природу. В романе читаем: «Нелепо воображать, что этой порче дозволено будет разрастаться. Если вернуться ко времени, из которого я пришел, над этой проблемой уже вовсю трудятся ученые - в поисках радикального решения, которое успешно наложило бы пластырь на причиненное повреждение. Как я собираюсь наложить пластырь на порчу, причиненную Виктором Франкенштейном». Отправившись вслед за Монстром и его подругой, Боденленд повторяет путь Франкенштейна в Арктику с одним изменением - «ледники» появляются в Швейцарии после еще одного временного сдвига. В финале романа Боденленд убивает вначале подругу Монстра, а затем и его самого недалеко от города, к которому стремились гиганты. «Если на меня нападут другие, они встретят тот же прием, что и монстр, пока я не встречу своего Создателя. Или же в городе могут оказаться люди; не нужно строить никаких предположений, пока мне толком ничего неизвестно. Конечно, они осведомлены о моем присутствии. После того как погасла ракета, погасли и огни за крепостными стенами, спала активность, все вроде затаилось и приумолкло».
Роман Олдиса, как многие другие произведения, нацеленные на новое прочтение канонических текстов, имеет непростые связи с оригиналом, одна из которых - это отношение писателя XX века к шеллиевскому дискурсу. Миф о Франкенштейне является креативным, дающим, по мнению Олдиса, первотолчок научным исследованиям во многих областях знания и научной фантастике как одной из сфер художественного воображения. «Ваш роман, - говорит Боденленд Мэри Шелли, - всеми признан как литературный шедевр и пророческое прозрение». В романе Олдиса озвучена следующая идея: любое произведение искусства может преобразовать будущее, и чем оно значительнее, тем более непредсказуем результат. «Аллегория эта сложна, - объясняет Боденленд Мэри, - но, кажется, в основном связана с тем, как Франкенштейн, символизирующий науку как таковую, стремясь отлить мир в новых, лучших формах, вместо этого оставляет его в худшем, чем было до него, положении».
Страстное желание, охватившее Боденленда, уничтожить расу монстров с помощью оружия XX века (чего стоит «пулемет на турели») есть не что иное, как проявление неуемного, присущего человечеству прометеевского духа, нацеленного на модернизацию техники, которая становится ему неподвластна, о чем герою провидчески говорит монстр: «Сколько бы я ярости ни накопил, ей не сравниться с вашей. Более того, хотя ты стремишься меня похоронить, на самом деле ты будешь все время меня воскрешать! Однажды освобожденный, я свободен!» Вот этот поворот интриги в романе Олдиса чрезвычайно существенен: умирающий монстр объявляет собственную гибель не концом, а началом своего аллегорического владычества над будущим. Актом, нацеленным вроде бы на спасение человечества, Боденленд усиливает греховность, потому что продолжает идти по дороге убийства. Для того чтобы преодолеть жестокость технократической цивилизации, герой стремится переписать ее катастрофические страницы. Но парадокс заключается в том, что стирание начального узла катастрофы приводит Боденленда к признанию невозможности и неспособности человека управлять результатами индивидуальных действий, а, следовательно, его «переписывание» истории тщетно.
Сам Боденленд есть творение романа «Франкенштейн» и одновременно его творец. Он может проявлять себя как вне романа, так и внутри него, что немедленно актуализирует проблему идентичности и авторства. С точки зрения идентификации произведений Мэри Шелли и Олдиса, водоразделом между ними выступает сцена отказа шеллиевского Франкенштейна создать подругу для Монстра. Олдис развертывает эпизод иначе - его Франкенштейн с «безумным энтузиазмом» завершает опыт. Мало того, ученый жаждет создать еще одного искусственного мужчину. Писатель XX столетия, маркируя таким образом свой роман, тем самым возвращает оригинал Мэри Шелли. Еще одной пометой являются разнонаправленные аттестации Франкенштейна и других персонажей авторами разных веков. Франкенштейн в романе Олдиса становится не просто истовым приверженцем науки, а невротическим демоном человечества и порождает себе подобного демона. «Переписывая» роман, Олдис существенно изменяет характеры, например, Элизабет Лавенца превращается из доброй, бесхитростной девушки в жадную, неприятную особу. Франкенштейн, как это неожиданно выясняется в тексте писателя XX века, был заинтересован в убийстве брата Анри, Жюстины, друга Клерваля, потому что ему был нужен исходный материал для научных экспериментов.
Диктофон, бутановая зажигалка, автомобиль (Филдер), пулемет кругового действия с телескопическим прицелом, вечно действующие часы с атомным механизмом, компьютерные системы, роботы как будто являются несомненными свидетельствами величия технической мысли человечества. Но в действительности Олдис акцентирует мысль о том, что механические плоды цивилизации, облегчающие человеку существование, не дают ему возможности понять, кто же он на самом деле. Во многом вывод Олдиса сопрягается с позицией, высказанной X. Ортега-и-Гассетом в работе «Размышления о технике». «Сама техника, - писал испанский философ, - являясь человеку, с одной стороны, в качестве некой, в принципе безграничной, способности, с другой - приводит к небывалому опустошению человеческой жизни, заставляя каждого жить исключительно верой в технику, и только в нее. Ведь быть техником, и только техником, - значит иметь возможность быть всем и, следовательно, никем».
Впечатления, ощущения, выводы, зафиксированные Боденлендом, обращены его жене в то время, из которого он был выброшен. Но по мере того, как один пространственно-временной разрыв следует за другим, читатель начинает терять ориентацию, где начало, где продолжение, а где конец повествования героя. Кроме этого, как и в романе Мэри Шелли, встает проблема донесения до адресата его записок, но, в отличие от шеллиевского произведения, более актуальной является не гипотетическая возможность издания текста Боденленда, а вероятность того, вернется ли герой в свою эпоху. Роман Олдиса подтверждает и безбрежность франкенштейновского мифа, и нескрываемую постмодернистскую нацеленность на пересоздание классического произведения. Опыт «перетолкования» оригинала писателем XX века своеобразно материализует идею постмодернистов о том, что можно переписать любой текст, но при этом он будет совершенно другим. И в этом ключе роман Мэри Шелли «Франкенштейн» является благодатной почвой для подобных экспериментов. В каждом варианте «перетолкований» шеллиевского произведения культурное эхо вновь актуализирует основную тему романа - трагическое противоречие между взлетом творческой мысли человека, способного, подобно Дедалу, создать лабиринт и крылья для полета, и неумением, нежеланием, невозможностью до конца предугадать отдаленный итог научного открытия.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 93-100.
Произведения
Критика