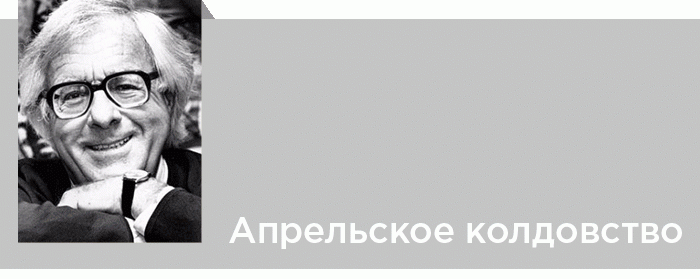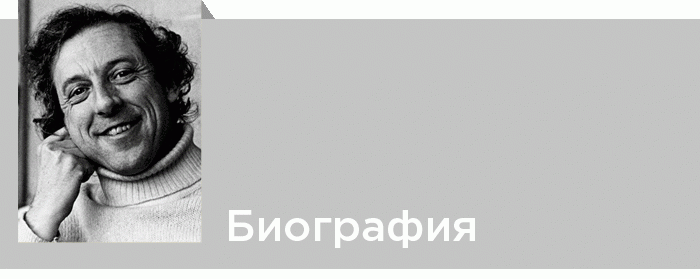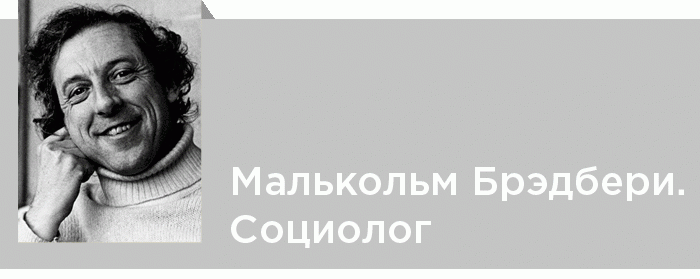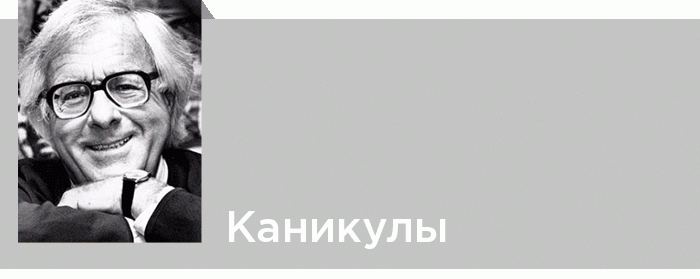Малколм Брэдбери. Историческая личность
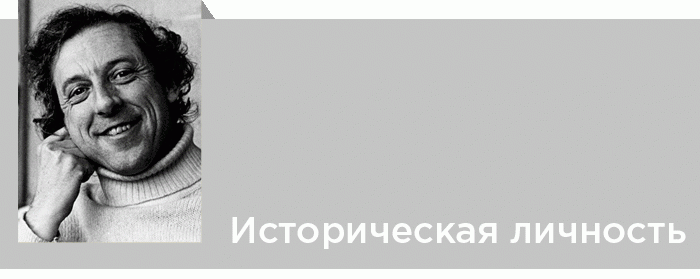
(Отрывок)
Посвящается Метью и Доминику
– Кто такой Гегель?
– Ну, он приговорил человечество к истории.
– А он что – так много знал? Он знал все?
Гюнтер Грасс
ОТ АВТОРА
Этот художественный вымысел адресован Бимишу, которого en route на какую-то конференцию я в последний раз видел в аэропорту Франкфурта, где он бродил от одного стола справок к другому, наводя справки о своем багаже, который, к сожалению, погрузили в другой самолет. Это стопроцентная выдумка с мнимым приближением к исторической реальности – точно такая же, как и сама история. Не только фигурирующий здесь Водолейтский университет не имеет никакого отношения к реальному Водолейтскому университету (которого вообще не существует) или к любому другому университету, но и год 1972-й, также фигурирующий здесь, не имеет никакого отношения к реальному 1972 году, каковой в любом случае вымышлен, и так далее. Ну а так называемые персонажи известны исключительно только прочим персонажам этой книги, да и им не очень-то; они – чистейший вымысел, как и сюжет, в котором все они более чем участвуют. И я тогда не летел ни на какую конференцию, а если бы и летел, так в самолете не нашлось бы ни единого пассажира с фамилией Бимиш, и он, безусловно, не терял своего багажа. Все остальное, разумеется, – чистейшая правда.
I
Вот и снова осень; все люди возвращаются. Закончился летний антракт, когда уезжают в отпуска, газеты тощают, и сама история будто спотыкается и встает как вкопанная. А теперь газеты вновь толстеют и полнеют; вновь происходит что-то где-то; вернувшиеся с Корфу и из Сета, из Позитано и Ленинграда люди паркуют свои машины и прицепы на подъездах к своим домам и раскрывают свои ежедневники и звонят по телефону другим людям. С пляжей убраны шезлонги, и чахлое солнце льет на променады жиденькие лучи; во Вьетнаме снова ведутся военные действия, а Макговерн все так же проигрывает Никсону предвыборную кампанию. Аптеки убрали с витрин солнцезащитные очки и средства от кровососущих насекомых – ввиду отбытия летней публики – и пополнили запасы транквилизаторов и снотворных, – основы основ круглогодичного товарооборота; в Ольстере введено прямое правление, а в Фоллсроуде произошла перестрелка. Бутики предлагают новые осенние расцветки, и на рынок поступило новое внутриматочное приспособление, как утверждают, надежное на девяносто девять процентов. Всюду новые шаги вперед, новые мерзости; интеллектуалы обозревают осенний мир, и дыбится либеральная и радикальная щетина, и всюду – иные люди, и солнце светит от случая к случаю, и надрывается телефон. И потому, чуткие к атмосфере, некие люди по фамилии Кэрк (очень известная супружеская пара) решили устроить вечеринку.
Собственно говоря, Кэрки устраивали вечеринки именно в этот момент – в поворотный момент, когда начинается новый академический год, зарождаются новые идеи, – уже три года подряд; и не иди речь именно о Кэрках, можно было бы сказать, что таков их обычай, их традиция. Но Кэрки – импульсивнейшие приверженцы всего наиновейшего и никогда ничего не делают потому лишь, что прежде делали так; они ведь даже славятся тем, что обычаи и традиции для них вообще не существуют. Раз Кэрки подумали о том, чтобы устроить вечеринку, значит, без малейшей задней мысли, а совершенно заново, из ощущения необходимости ее устроить. Текущий момент неведомо как сигнализирует своим истинным гражданам; Кэрки же – истинные граждане текущего момента, они получают сигналы господствующей атмосферы и отзываются на них из чистейшего чувства долга. Как ни крути, они крайне занятые люди, борцы за всякие правые дела, участники всевозможных митингов и собраний, и для всего этого необходимо выкраивать время, как и для разнообразных встреч. Собственно говоря, им очень посчастливилось застать друг друга в одном и том же настроении, очень посчастливилось, если на то пошло, вообще застать друг друга в одно и то же время в одном и том же доме. Однако они умеют распознать необходимость, когда сталкиваются с ней; и вот теперь они вместе на кухне, и возникает идея, исходящая неясно от кого, но главное – под натиском текущего момента. В их глазах появляется блеск – как всегда при подобной новости; они говорят друг другу «да»; они немедленно берутся за дело, решая, кто, что и каким образом. Говард, потому что ему ближе, покидает их светлую сосновую кухню и выходит в холл, чтобы взять лежащий рядом с их деловым телефоном их деловой домашний ежедневник, судьбоносную пропись и летопись людей, им подобных. Ежедневник они кладут на кухонном столе между собой; они проглядывают длинную предсказуемую повесть действий и бездействий, в нем содержащуюся, подробнейший всеохватывающий план предстоящих им дней.
– Когда? – говорит Барбара.
– В ближайшее время, – говорит Говард.
– Мы свободны в первый день семестра? – спрашивает Барбара.
Маловероятно, но Говард перелистывает ежедневник. Вот этот день – 2 октября, понедельник и вечер – пусто. Прямо-таки знамение, и Говард без промедления достает свою ручку из внутреннего кармана. Он придерживает ежедневник на открытой странице; он пишет своим изящным бисерным почерком, будто начиная какую-то историю (как, по сути, и есть), одно слово «Вечеринка» в маленьком пробеле на плотно исписанной странице.
Кэрки устраивали вечеринки в это время в прежние годы, вспоминают они, и собиралось много людей, в конце-то концов они – весьма известная супружеская пара. Говард – социолог, радикальный социолог, маленький, энергичный, подвижный, вкладывающий всю душу; и вы, конечно, о нем слышали, потому что он постоянно на слуху. Часто появляется на телевизионном экране и написал две, заслужившие известность, набатные книги, отстаивая новые нравственные ценности, новый расклад для Человека. Он провел деловое литературное лето, и новая книга уже в пути. Кроме того, он пишет статьи в газеты и читает лекции в новом местном университете, все еще достраиваемой мечте из белогo бетона и стекла вольной архитектурной формы, раскинувшейся на склоне холма, точно к западу от юго-западного приморского городка, в котором они живут, и сразу же за ним. Уповая шагать в ногу со временем, университет всячески носится с социологией, а было бы трудно найти в этой области кого-нибудь, кто шагал бы более в ногу со временем, чем Говард. Его курс, посвященный революциям, это прославленный краеугольный камень, как и (в несколько ином смысле) его вмешательство в местные общественные дела, его роль в жизни города. Ибо Говард – известный активист, заноза в боку городского совета, гроза эгоистичной буржуазии, катализатор действий Союза потребителей, средоточие ответственности и озабоченности. Ну а Барбара… так она в эту минуту просто личность, – как она формулирует, – в тисках роли жены и матери, в убогой роли женщины нашего общества; но, разумеется, личность она тоже радикальная и по-своему активна не менее Говарда. Ее отличают осведомленность и компетентность во многих и многих областях. Она великолепная кулинарка, эксперт в вопросах детской литературы, неутомимая работница на ниве новых начинаний («Женщины за мир», «Крестовый поход детей за аборты», «Прекратить сексуальное подавление»). И она тоже привычная фигура на улицах, когда совместно с другими их блокирует, демонстрируя, что движение транспорта здесь вовсе не неизбежно, и в супермаркетах, когда она ведет свою ежедневную депутацию, чтобы вручить управляющему точнейшие до последней минуты списки, наглядно показывающие, что топленое сало «Фэйр фудз» на пенни дороже, чем оно же «Сейнтсбериз», или прямо наоборот. Она движется через площадки для игр, школы, травмопункты и парки в постоянном негодовании; она пишет в местную газету, когда ее черед. Когда бы вы ни посетили Кэрков, вам обязательно предложат новый вариант венского кофейного кекса и петицию на подпись. Ну а что до Кэрков, взятых вместе, этой весьма известной супружеской пары, то они давно примелькались в муниципальных домах-башнях, где они ездят вверх-вниз на пестрящих непристойностями лифтах, выискивая случаи вопиющей нужды для оповещения службы социального обеспечения, случаи безответственного материнства для представления в клинику планирования семьи; а также в кабинетах городского управления, где они настежь распахивают двери, укрывающие чиновников, и во всей полноте своего укоряющего человеколюбия предъявляют облекшуюся плотью статистику – семью, чьи права нарушены, не получающую положенных пособий, чьи жилищные условия не улучшены; да и вообще в городе, где они пробуждают сознание, назидательно вгрызаются во все печенки. Впрочем, Кэрки питают даже еще более высокие надежды. Каждое утро они просыпаются и тщательно осматривают небеса, не обнаружатся ли там темные руки, молнии богов или белые всадники, то есть доказательства, что скудная реальность, которую они так усердно обслуживают, претерпела удивительное преображение, и теперь это – новый мир, новый порядок, возникшие за одну-единственную ночь.
Ну а до тех пор они продолжают свое дело вместе и по отдельности. Они состоят в браке уже двенадцать лет, хотя, поглядев на них, увидев их, услышав их в действии, вы бы этого никак не подумали. Они профилактически произвели па свет двух детей, энергичных, современных созданий, уже достигших школьного возраста, к которым питают разумную любовь. Они живут вместе в высоком тощем оштукатуренном доме XVIII века, который находится в районе, подлежащем расчистке от трущоб – посреди города. Идеальное местоположение для Кэрков и тесное соседство с реальными социальными проблемами – пляжем, радикальным книжным магазином, клиникой планирования семьи, магазином макробиотических продуктов, отделом социального обеспечения, муниципальными домами-башнями и скоростными электричками, доставляющими вас в Лондон за девяносто минут, – короче говоря, в самой гуще текущей жизни. Время от времени, будучи страстными, освобожденными, сознательно сознательными людьми, они живут раздельно или с кем-нибудь еще. Но это всегда взрослые, продуманные интерлюдии и измены, выражающие их собственные раздельные личности без нарушения их общей кэркости, и потому, так или иначе, они всегда умудряются воссоединиться до истечения месяца и таким образом выглядеть в глазах своих друзей и, предположительно, в своих собственных прочной, хотя и не до нелепости прочной супружеской парой. Ведь Кэрки неизменно генерируют возбуждение, любопытство. Они экспериментальные люди, интимно причастные переменам и раскрепощению и истории, и они всегда крайне заняты и всегда в движении.
И в эту осень они, бесспорно, выглядят новыми людьми. Говард мал, смугл, крепко сбит, носит длинные волосы (хотя и менее длинные, чем в прошлом году) и усы на манер Сапаты; он одевается в аккуратные белые свитера с будящими символами на груди, например, стиснутыми кулаками, и в мохнатые свободные жилеты и в голубые джинсы пижамного стиля. Барбара, крупная, с мелкозавитыми желтыми волосами, предпочитает зеленые тени, клоунски белый макияж, длинные платья-балахоны и отсутствие бюстгальтера, так что ее тупые соски просвечивают сквозь легкие хлопчатобумажные ткани. Поскольку две книги Говарда теперь прочно вошли в обязательный набор радикальной документалистики, спрос на которую растет, их джинсы и балахоны заметно дороже, чем у большинства их знакомых. Но это – невидимая дороговизна, незаметный отход от товаров широкого потребления, и она не выделяет их, не создает им врагов, кроме тех врагов, которые всегда были их врагами. Кэрки очень обаятельные, очень яркие, очень агрессивные люди, и даже если они не внушают вам симпатии или доверия или, наоборот, внушают тревогу (а они стараются ее внушать), все равно очень приятны в общении.
После того как инстинкт подсказал им необходимость вечеринки – инстинкт настолько гармоничный, что они даже не знают, кого из них он осенил раньше, Кэрки спускаются в кабинет Говарда, помещающийся в полуподвале их дома XVIII века, и наливают себе вина и приступают к работе над тем, что Говард называет «прикидочным рассмотрением проблемы данной встречи». В доме Кэрков есть два кабинета, хотя это очень бесструктурный дом, полная противоположность тому, что люди называют домашним очагом. Кабинет Говарда внизу, там, где он пишет книги, а кабинет Барбары наверху, где она намерена их писать. Кабинет Говарда разлинован книжными полками; книжные полки заполнены работами по социологии, книгами о групповой психотерапии и межличностных взаимоотношениях, новыми экскурсами в радикализм американских визионеров, основополагающими политическими манифестами. Под окном – белый письменный стол со вторым телефонным аппаратом на нем; на столе же лежит трепещущая кипа бумажных листов – рукопись книги, озаглавленной «Поражение личностного», над которой Говард работал в летнем перерыве занятий и в уединении, перерыве, который теперь кончается. Зарешеченное окно над столом выходит на утопленный дворик с сиротливой кадкой под растения; чтобы увидеть решетку, ограждающую дворик от улицы, надо задрать голову. Внутрь сквозь решетку заглядывает солнце, которое сияло весь день, слабое осеннее солнце, чьи косые лучи рисуют квадраты на книжных полках и стенах. На стенах между книжными полками висят африканские маски, лица, вырезанные из черного и темно-коричневого дерева на фоне белой эмульсионной краски, Кэрки в своих веселеньких одеждах сидят под масками в двух раскладных креслах с парусиновыми сиденьями. Оба держат рюмки с красным вином и смотрят друг на друга и начинают словесное созидание вечеринки. Называют имена, обговаривают закуски и напитки.
Через некоторое время Барбара встает и подходит к подножию лестницы.
– Энн! – кричит она в холл. – Мы с Говардом планируем вечеринку. Ты бы не выкупала детей?
– Хорошо, миссис Кэрк, – кричит Энн Петти, студентка, которая прожила у них лето, разругавшись с родителями настолько, что вернуться домой никак не может. – Выкупаю.
– Просто не знаю, как бы я справлялась без Энн, – говорит Барбара, снова садясь в раскладное кресло с парусиновым сиденьем.
– Бимиши, – говорит Говард. – Стерпим мы Бимишей?
– Мы не видели их все лето, – говорит Барбара. – Мы все лето никого не видели.
И это святая правда, так как для Кэрков лето знаменует застойное время года, фазу социальной апатии. Говард дописал свою книгу – она трепещет на письменном столе рядом с ними. Однако творчество – процесс ни с кем не разделяемый и внутренний; и сейчас Говард пребывает в той посткоитальной литературной прострации, в которую впадают те, кто слишком много времени посвящает собственным, ни с кем не разделяемым, построениям и сюжетам; его тянет погрузиться, вмешаться в более крупные, величавые, более великолепные сюжеты, чем те, которые набрасывает история. А Барбара занималась домашними делами, но домашность для таких людей, как Кэрки, это уклонение, увертка – личность предназначена для несравненно более масштабных дел. Но их вечеринка – это вечеринка и для мира; они созидают ее со всей серьезностью. Говард – теоретик социального общения; он рассуждает о «соответствующих формах взаимообщения» (его формулировка) и о параметрах встречи. Барбара играет антитезисную роль и думает об индивидах и лицах, и не потому, что мужчины склонны к абстракциям, а женщины эмоциональны (подобного распределения ролей они не приемлют), но потому, что ведь надо же быть в курсе, кто кому симпатичен, и кто с кем не может находиться в одной комнате, и кто спит с кем, а кому следует рано или поздно переспать с кем, если вы хотите, чтобы ваши вечеринки удавались по-настоящему. А вечеринки Кэрков всегда удаются на славу. Кэрки обладают истинным талантом организации вечеринок. Это не структуризированные вечеринки, а просто обрамления, ну совсем как университетские семинары Говарда, а также и его книги, в которых неистовые чувства ломают традиционную грамматику, методологию и построения. Но, как всегда говорит Говард, если вы действительно ищете нечто подлинно неструктуризированное, вам необходимо спланировать все тщательно до мельчайших деталей. И вот именно этим и занимаются Кэрки, сидя в своем кабинете и прихлебывая свое вино.
Солнечные квадраты на стене блекнут; Говард зажигает свою настольную лампу. Принцип – творческое перемешивание. И потому Кэрки перемешивают людей из города с людьми из университета и людей из Лондона с людьми из юрода, перемешивают гетеро с гомо, художников с авангардистскими богословами, студентов с Адскими ангелами, поп-звезд с поклонниками ИРА, маоистов с троцкистами, врачей, специализирующихся на планировании семьи, с изгоями, которые спят под мостами. В распоряжении Кэрков широчайший интеллектуальный избирательный спектр, обширнейший круг знакомств: надо же успевать держаться вровень с таким множеством аспектов и контекстов непрерывно изменяющейся жизни. Через какое-то время Говард поднимается на ноги и прислоняется к книжному шкафу; он говорит:
– Остановимся на этом. Боюсь, мы зацикливаемся. Еще немного, и дело обернется чертовым буржуазным раутом, на который мы бы отказались пойти.
– Ну, ты ни от каких предложений не отказываешься, – говорит Барбара.
– По-моему, мы утрачиваем спонтанность, – говорит Говард, – мы ведь имели в виду непредсказуемую встречу.
– Хочу только спросить, – говорит Барбара, – сколько человек соберутся на эту непредсказуемую встречу? Я думаю об уборке.
– Надо все сделать с размахом, – говорит Говард. – Человек сто или больше.
– Ты считаешь, что вечеринка удастся, только если пригласить весь белый свет, – говорит Барбара. – А по окончании бросишь всю грязную посуду на меня.
– Ну, послушай! – говорит Говард. – Нам она необходима. Она необходима им.
– Твой энтузиазм, – говорит Барбара, – никогда не иссякает, а?
– Вот именно, – говорит Говард. – Вот почему я существую. Я сейчас засяду за телефон и сделаю двадцать пять звонков, и ты сделаешь двадцать пять. И вот она – наша вечеринка.
– Мартин намочил штаны пижамки, – кричит сверху Энн Петти.
– Переодень его в другие, – кричит Барбара снизу.
– Роджер, это Говард, – говорит Говард, держа у уха красную телефонную трубку. – Мы тут планируем заварушку. Да нет, не такую заварушку, а вечеринку.
На столе рядом со стулом Барбары лежит новая книга Р.Д. Лейнга; она берет ее в руки и начинает перелистывать.
– Непредсказуемая вечеринка, – говорит Говард. – На которой можно встретить кого угодно и делать что угодно.
– Или встретить что угодно и сделать кого угодно, – говорит Барбара.
– Барбара прекрасно и я прекрасно, – говорит Говард. – Готовы снова запрячься.
– О да, я прекрасно, – говорит Барбара. – Прекрасно, прекрасно, прекрасно.
– Нет-нет, – говорит Говард, – просто у Барбары на заднем плане приключилась шизофрения. Увидимся второго. И приводи любого, о ком предскажешь, что он окажется непредсказуемым.
– Вот что нам требуется, – говорит Говард, кладя трубку. – Люди.
– У тебя уже столько людей, сколько ты способен поглотить, – говорит Барбара.
– Нам нужны свежие, – говорит Говард, беря снова трубку, – кого мы знаем, что мы их не знаем? А, Генри, ты нам нужен, Генри. Можете вы с Майрой прийти на вечеринку?
Вот так Говард говорит по телефону и звонит двадцать пять раз, пока Барбара сидит в раскладном кресле с парусиновым сиденьем. Кэрки – современная супружеская пара и верят, что всякое дело следует разделять точно пополам – половину тебе, половину мне, будто разделяешь апельсин, – так, чтобы оба были равно причастны и никто никого не эксплуатировал. Кончив со звонками, они по-прежнему сидят в раскладных креслах с парусиновыми сиденьями, и Барбара говорит:
– Ты покупаешь напитки, я покупаю закусь. И вечеринка налажена.
А потому они поднимаются наверх в кухню и там бок о бок в одинаковых мясницких фартуках готовят обед. Дети вбегают и выбегают в своих пижамках; входит Энн Петти и предлагает приготовить десерт. А потом они садятся за стол и едят еду, которую приготовили; Энн Петти укладывает детей, а Кэрки садятся со своим кофе в гостиной перед телевизором. Для них так необычно быть вместе; они обгладывают свое удивление. Позже они вместе поднимаются и спальню и, стоя с двух сторон кровати, вместе раздеваются. Они отгибают одеяло; они включают бра над кроватью, они ласкают друг друга и вместе занимаются любовью. Лица и тела, которые они напридумывали для участия в их вечеринке, входят в спальню вместе с ними и присоединяются к веселью. Потом бра светит на них сверху, и Барбара говорит Говарду:
– Я уже не получаю прежнего удовольствия.
– От этого? – говорит Говард, потискивая ее.
– Нет, – говорит Барбара, – от вечеринок, от головокружительного кэрковского действа.
– Не может быть, – говорит Говард.
– Может быть, я старею, – говорит Барбара, – но мысленно я вижу только грязную посуду.
– Я сделаю ее для тебя интересной, – говорит Говард.
– Уж конечно, – говорит Барбара, – ты же великий маг, повелитель чувств, правда, Говард?
Стараюсь, – говорит Говард.
– Говард Кэрк, – говорит Барбара, – вот то, что заменяет нам веру.
Дни проходят, и звонит телефон, и вот настает утро понедельника второго октября, когда все приходит в движение по-настоящему: первый день семестра, день вечеринки. Кэрки встают спозаранку и вместе. Они одеваются; они застилают кровать; они спускаются вниз. Кухня отделана сосной. Дождь моет окна; помещение заполняет сырой полусвет. В кухне у плиты стоит Энн Петти в махровом халате и варит яйцо.
– Что вы так рано поднялись? – спрашивает она.
– Отправляемся за покупками, – говорит Барбара. – Для вечеринки.
Говард подходит к тостеру и закладывает в него ломти хлеба; Барбара достает из холодильника коробку яиц. Говард нажимает на кнопку тостера; Барбара разбивает яйца и выливает их на сковородку. Входят дети и садятся за стол перед тарелками, которые Энн уже поставила для них.
– Корнфлекс, фу, – говорит Мартин.
– Господи, – говорит Барбара, глядя в мойку. – Не понимаю, откуда столько грязных тарелок со вчерашнего вечера. Как мы умудрились?
– Мы ели, – говорит Говард, который сидит за столом, инспектируя злободневные возмутительности в утреннем выпуске «Гардиан». Энн Петти оборачивается. Она говорит:
– Хотите, я их вымою, миссис Кэрк?
– Ты правда могла бы, Энн? – говорит Барбара. – Сегодня столько всего надо сделать.
– О да, миссис Кэрк, – говорит Энн.
– Опять яичница, – говорит Мартин, когда Барбара начинает накладывать яичницу. – Почему ты каждый день всегда даешь нам одно и то же?
– Потому что я занята, – говорит Барбара. – И сложите свои тарелки в мойку, когда доедите. Мы с Говардом едем за покупками.
– А кто отведет нас в школу? – спрашивает Селия.
– О, черт, – говорит Барбара. – Что же нам делать?
– Хотите, я отведу их в школу? – спрашивает Энн Петти, поднимая голову.
– Было бы чудесно, – говорит Барбара, – но мне крайне неприятно просить тебя. Ты здесь не для того, чтобы работать, ты здесь потому, что мы рады, что ты здесь.
– Я знаю, миссис Кэрк, – говорит Энн, – но мне правда очень приятно помогать вам. Вы ведь оба так заняты. Просто не знаю, как вы делаете так много!
– Для этого требуется своего рода гениальность, – говорит Говард.
– Я так надеюсь, что ты пока останешься у нас, – говорит Барбара. – Мы так рады тебе, и я хочу в следующую субботу съездить в Лондон за покупками. И мне будет нужен кто-нибудь, чтобы побыть с детьми.
– Ну, я не знаю, – говорит Энн Петти смущенно. – В следующую субботу?
– Она подразумевает «нет», – говорит Говард, поднимая взгляд от «Гардиан». – Форма уклончивая, но подтекст гласит: «Отвяжись, ты меня эксплуатируешь».
Энн Петти смотрит на него; она говорит:
– Что вы, доктор Кэрк, Кэрки никого не эксплуатируют. Только не Кэрки. Просто я правда не вижу, как…
– Ну, все эксплуатируют всех, – говорит Говард, – в этой социальной системе это часть человеческого жребия. Нo одни это знают, другие – нет. Когда Барбара волнуется, она начинает давать поручения другим людям. Вы вправе сопротивляться.
– Я поручаю то, что мне необходимо, – говорит Барбара.
– Ну, прошу вас, послушайте, – говорит Энн. – Никто никого не эксплуатирует. Я бы с радостью осталась, нет, правда, но мои друзья возвращаются в квартиру, а я внесла свою долю квартплаты.
Барбара говорит:
О, ты совершенно прав, Говард. Все кого-то эксплуатируют. И в первую очередь ты меня.
– Что я такого сделал? – невинно спрашивает Говард.
– О Господи! – говорит Барбара. – Как его сердце обливается кровью из жалости к жертвам. И он отыскивает их повсюду. И не видит только тех, кого сам превращает в жертвы.
– Мне очень жаль, миссис Кэрк, нет, правда, – говорит Энн Петти.
– Ты не должна винить Энн, – говорит Говард, – у нее есть свое действо.
– Я не виню Энн, – говорит Барбара, – я виню тебя. Ты стараешься помешать моей поездке в Лондон. Ты не хочешь, чтобы я провела уик-энд в Лондоне.
– Ты получишь свой уик-энд, – говорит Говард. – Предоставь это мне. Я все устрою. Кто-нибудь приглядит за детьми.
– Кто? – спрашивает Селия. – С кем весело?
– Кто-нибудь, кто нравится Говарду, – говорит Барбара.
– А Энн Говарду не нравится? – спрашивает Мартин.
– Конечно, Энн мне нравится, – говорит Говард. – Надевай пальто, я иду за фургоном.
– Я просто не могу не вернуться в квартиру с этими моими друзьями, – говорит Энн, пока Говард идет через кухню.
– Конечно не можете, – говорит Говард в дверях. – Приведите их на вечеринку. – Говард выходит в холл, надевает снятое с колышка длинное кожаное пальто и симпатичную голубую кепочку из плотной материи.
Позади него в кухне продолжается разговор. Он проходит через холл, открывает парадную дверь и выходит наружу. Он стоит в сыром свете. Лужи подступают к домам. Дождь льет, город громыхает. Он закрывает за собой дверь, захлопывая домашнюю социальную пристройку, которая подает пронзительные признаки жизни у него за спиной; он входит в урбанистическую фазу, в деловую подвижность городской жизни, в то место, где, как известно любому хорошему социологу, комья обычаев крошатся, традиционное распределение ролей ломается, узы родства слабеют, где общественная жизнь определяет, какую частную жизнь ведет человек.
Он идет вдоль полукруга домов по треснувшим плитам тротуара в осколках стекла; дождь смачивает его волосы и начинает прокалывать кожу его пальто. Вокруг него плавно изгибается строй домов; некогда изящный точный полукруг, но своеобразная стоматология сноса и расчистки трущоб выдирала из полукруга дом за домом по мере того, как жильцы съезжали. Большая часть еще уцелевших пустует: крыши просели, зияют частично заколоченные окна – в призывах политических партий, в афишах поп-групп, в объявлениях медитирующих экстрасенсов. А некоторые исподтишка заняты – их используют дрейфующие транзитные полуневидимки. Хотя живущих в домах раз-два и обчелся, тем не менее места для парковки машин определены строго; Кэрки ставят свой фургон через несколько улиц от дома на площади вверх по холму. Полицейская машина продребезжала по магистрали, изъязвленной сносами; автобусы трясутся по проспекту далеко под ним. Со стороны моря приближается реактивный истребитель, и линия его полета – уходящая вверх дуга – делает его зримым над зубчатой линией домов напротив высокого тощего дома Кэрков. Он сворачивает за угол, он идет вверх по склону. В ноле его зрения вторгается ажурный металл подъемного крана, покачивающаяся под стрелой бетонная балка. Вверх мо склону идет он мимо остатков старого порядка, лохмотьев исторического Водолейта, сметаемых требованиями современного города. Магазинчики – газетный с афишей «Голой обезьяны» в витрине, зеленщик с парой-другой ящиков овощей под протекающим навесом, патриархальный мясник и объявление: «Мы держим мясо на льду в жаркую погоду». Небольшие дома, стоящие впритык друг к другу с к мерями, выходящими прямо на улицу; скоро до них доберутся бульдозеры. Выше по склону громоздятся новые железобетонные башни. Но, не дойдя до них, Говард сворачивает влево на площадь посреди небольших домов, разделенных на квартиры либо превращенных в частные гостиницы. Его старый голубой фургон стоит в веренице машин, протянувшихся вдоль тротуара под натриевым уличным фонарем. Он отпирает дверцу водителя; он забирается внутрь; он дважды поворачивает ключ зажигания, чтобы завести мотор. Он проезжает полфута вперед, фут назад, чтобы вывернуться из цепочки машин. Затем выезжает с площади, спускается по склону в суете уличного движения и возвращается к своему дому.
На тротуаре напротив их высокого тощего дома в искореженном полукруге уже стоит Барбара, ожидая его. На ней белый, перехваченный в талии длинный дождевик; в руках у нее две красные холщовые сумки, швейцарская и из «Заказника». Он наклоняется, чтобы открыть дверцу; она нагибается внутрь, чтобы положить сумки на заднее сиденье.
– Наверное, ты себя прекрасно чувствуешь, – говорит она, усаживаясь рядом с Говардом. – Все идет, как ты хочешь, и чувствуешь ты себя прекрасно.
Говард отпускает сцепление; он разворачивает пикап.
– Да, прекрасно, – говорит Говард, проезжает полукруг до конца, поворачивает вверх по склону. – А что?
Барбара набрасывает ремень безопасности; она говорит:
– Я всегда знаю, когда ты чувствуешь себя прекрасно, потому что ты всегда хочешь, чтобы я чувствовала себя скверно.
Говард следует стрелкам и разметкам на мостовой – вправо, влево, проезд запрещен, – которые ведут его вверх по склону и в сторону нового торгового центра.
– Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя скверно, – говорит Говард. Тут поворот налево прегражден красным шлагбаумом; это въезд на многоэтажную автостоянку при торговом центре.
– Ну а я все равно чувствую себя скверно, – говорит Барбара. Говард сворачивает влево; он останавливает фургон перед шлагбаумом; он получает билет из автомата.
– Ты знаешь, что тебе нужно? – говорит он. Шлагбаум поднимается, и Говард проезжает.
– Да, – говорит Барбара, – я совершенно точно знаю, что мне нужно. Уик-энд в Лондоне.
Говард въезжает вверх по пандусу в безликий бетон здания сквозь проблески света и мрака, повторяя следы мокрых протекторов. Говард говорит:
– Тебе нужна вечеринка.
Фургон витками поднимается все выше в безликом здании.
– Мне не нужна вечеринка, – говорит Барбара. – Дополнительные паршивые домашние хлопоты с последующей уборкой.
Ведя машину сквозь бетон и металл, Говард видит на пятом этаже свободное местечко; он сворачивает туда. Гараж темен и cep; он выдергивает ручной тормоз.
– Ты только что провела очень скучное лето, – говорит Говард, – а теперь все снова закрутилось. Вылезай. Идем зa покупками.
Автостоянка – пещера с низким потолком, безлюдная – место, предназначенное исключительно для машин; снаружи зa безоконным парапетом виднеется распростертый внизу город, Кэрки вылезают из фургона; они идут рядом по неровному, в масляных пятнах полу к безликим металлическим дверям лифта. Барбара говорит:
– Твое радостное возбуждение меня не заражает.
Говард нажимает кнопку, лифт полязгивает в шахте. Двери раздвигаются. Кэрки входят. На стенках аэрозольные граффити: «Арго», «Бут-Бойз», «Гэри – король». Они стоят рядом, кабина идет вниз, она останавливается, и Кэрки выходят. Длинный, выложенный плиткой коридор ведет в сторону центра; у стен ярко озаренного коридора – человеческие экскременты. Кэрки выходят на четкую площадь среди высоких зданий. Торговый центр весь состоит из прямых углов; он награжден архитектурной премией. Длинные стеклянные фасады, витрины супермаркетов, кулинарий, бутиков, привычных универмагов, демонстрирующие экономику изобилия; в витринах «Сейнсбериз» царит симметрия консервных банок и рулонов туалетной бумаги; яркие пятна света и тени меняют расцветки свитеров и рубашек, платьев и юбок в бутике «Снова жизнь». Открытое пространство посередине выложено многоцветными булыжниками; среди булыжников по некой сложной, не поддающейся расшифровке системе торчат миниатюрные новые деревца, только что посаженные, с миниатюрными подпорками. В небьющем фонтане – кучки мусора. Кэрки делят предстоящую задачу пополам – половина тебе, половина мне. Барбара направляется к автоматическим стеклянным дверям «Сейнсбериз», которые при ее приближении автоматически раздвигаются и смыкаются снова, когда она входит внутрь; Говард идет дальше к винному супермаркету, носящему название «Ваш винный погреб» и предлагающему исключительный выбор по исключительным ценам. Он входит внутрь под яркими прожекторами; он стоит под зеркалами против воров и рассматривает бутылки с вином, небрежно сваленные в проволочные корзины. Он идет к небольшому прилавку в глубине зала. Продавец смотрит на него; он молод, бородат и одет в темно-бордовый пиджак с желтым значком «Улыбка» на лацкане, который позволяет его лицу хранить крайне насупленное выражение. Говард с удовлетворением замечает это негодование наемного работника, это символическое сопротивление. Он покупает пять дюжин литровых бутылок дешевого красного вина; он ждет, пока продавец уходит на склад и вывозит оттуда в проволочной тележке штабель больших картонных коробок. Он просит на прокат двенадцать дюжин стаканов.
– Мы их в прокат не даем, – говорит продавец.
Говард предается процессу убеждения; он источает сочувствие, он приглашает продавца на вечеринку, он получает стаканы. Продавец нагружает картонками со стаканами другую тележку. Говард катит первую тележку через пустое пространство в середине торгового центра по разноцветному булыжнику мимо сухого фонтана по выложенному плиткой коридору к лифту; он поднимается на лифте и складывает картонки в фургон. Он возвращается с пустой тележкой; он катит вторую тележку на автостоянку, а потом возвращается в магазин. Когда он вновь добирается до фургона, то не находит там Барбары. Он стоит возле фургона, ключи свисают с его пальца в пещере с низким потолком, безлюдной, среди сплошных бетонных простенков, неровных поверхностей, прямых углов воздуха и пространства, света и мрака. Он смотрит наружу через безоконный парапет на топографию города. Внизу – развороченные пустоты, где строятся скоростные шоссе и новые жилые кварталы; за ними встают скорлупы отелей, административных зданий, многоквартирных домов. Имеются два Водолейта: нереальный туристический город вокруг порта и нормандского замка с великолепными квартирами и дорогими барами, сувенирными лавочками и выкрашенными в розовый цвет особняками XVIII века; и реальный город с урбанистическими язвами и подновлением, социальными напряженностями, дискриминацией и битвами между домовладельцами и жильцами, где обитают Кэрки. С одной стороны он видит кварталы великолепных квартир, готовых к заселению, но в основном пустующих, с превосходно оборудованными кухнями и коврами от стены до стены и балконами, ориентированными на горизонт; с другой стороны стоят башни муниципальных квартир, теоретически однотипных, заполненных, будто записная книжка инспектора социального обеспечения, разведенными женами, незамужними матерями, остающимися без присмотра детишками.
Это топография сознания; и его сознание выводит из этого социальный контраст, образ конфликта и оппозиции. Он смотрит сверху вниз на город; с его пальца свисают ключи; он заселяет хаос, упорядочивает беспорядок, ощущает напряжение и перемены.
Со стороны побережья в сторону Хитроу летит «Боинг-747»; грохот его двигателей раскатывается по пещерам автостоянки, эхом отражаясь от металла машин. В углу бетонного царства со скрипом раздвигаются двери лифта, кто-то выходит на гулкий пол. Это Барбара идет к нему в своем белом длинном дождевике; она несет две красные битком набитые сумки. Ее фигура – цветовой мазок, движущийся по серому цементу. Он смотрит, как она проходит протяженности света и тени. Она подходит к фургону и открывает заднюю дверцу; поверх картонных коробок она укладывает сумки с французскими хлебами и сырами.
– Хватит? – говорит она. – Конечно, будь их пять тысяч, ты мог бы умножить количество приглашенных.
Говард открывает дверцу водителя и садится за руль; он открывает другую дверцу, чтобы Барбара могла сесть на переднее сиденье. Она садится; она пристегивает ремень безопасности. Ее лицо в затененных местах очень темно. Он включает мотор, задним ходом выезжает со стоянки. Барбара говорит:
– Ты помнишь Розмари?
Говард спускается по винтовому пандусу с кодом из лампочек и стрелок; он говорит:
– Та, которая живет в коммуне?
– Она была в «Сейнсбериз», – говорит Барбара. Фургон спускается по пандусу, круто беря повороты.
– И ты пригласила ее на вечеринку, – говорит Говард.
– Да, – говорит Барбара, – я пригласила ее на вечеринку.
Теперь они на уровне земли; Говард поворачивает фургон к выезду, к яркому мокрому свету дня.
– Ты помнишь мальчика, с которым она жила? – спрашивает Барбара. – У него еще была татуировка на тыльной стороне ладони.
Через параллелограммы света и воздуха, света и мрака они движутся к светлой площади.
– По-моему, нет, – говорит Говард.
– Да помнишь же, – говорит Барбара. – Он был на одной нашей вечеринке перед самым летом.
– Ну и что он? – говорит он; перед ним опущенный красный шлагбаум.
– Он оставил записку для нее на столе, – говорит Барбара. – Потом прошел в сад, в старый сарай и удушил себя веревкой.
Говард высовывается в окно и отдает билет вместе с монетой вахтеру, который сидит напротив них и над ними в стеклянной будочке.
– Так-так, – говорит Говард. – Так-так. – Вахтер дает Говарду сдачу, красный шлагбаум перед ними поднимается. – Когда? – спрашивает Говард, включая скорость.
– Два дня назад, – говорит Барбара.
– Она очень расстроена? – спрашивает Говард.
– Она похудела, побледнела, и она плакала, – говорит Барбара.
Говард осторожно вливает фургон в транспортный поток часа пик.
– Ты расстроена? – спрашивает Говард.
– Да, – говорит Барбара. – Это меня расстроило. Поток застопоривается.
– Ты же совсем его не знала, – говорит Говард, поворачиваясь к ней.
– Все эта записка, – говорит Барбара.
Говард сидит за рулем, застряв в заторе, и смотрит на движущийся коллаж.
– И что в ней было? – спрашивает он.
– В ней написано только: «Это глупо».
– Вкус к лаконичности, – говорит Говард, – а причина? Ситуация с Розмари?
– Розмари говорит, что нет, – говорит Барбара. – Она говорит, что им было на редкость хорошо вместе.
– Я не в силах вообразить, чтобы кому-то было хорошо с Розмари, тем более на редкость, – говорит Говард.
Барбара смотрит прямо перед собой в ветровое стекло. Она говорит:
– Она говорит, что он видел во всем абсурд. Даже ощущение счастья считал абсурдом. И «глупо» относится к жизни вообще.
– Жизнь вовсе не глупа, – говорит Говард. – Она, возможно, чистый хаос, но она не глупа.
Барбара пристально смотрит на Говарда; она говорит:
– Тебе бы хотелось поставить его на место? Он же мертв. Фургон проползает несколько дюймов вперед. Он говорит:
– Никуда ставить его я не собирался. С ним происходило что-то свое.
– Он думал, что жизнь глупа, – говорит Барбара.
– Черт, Барбара, – говорит Говард, – тот факт, что он покончил с собой, не превращает его записку во вселенскую истину.
– Он написал это, – говорит Барбара, – а затем убил себя.
– Я это знаю, – говорит Говард, – такова была его точка зрения. Его экзистенциалистский выбор. Он не улавливал смысла в происходящем вокруг и потому счел происходящее глупым.
– Странно быть экзистенциалистом, – говорит Барбара, – когда тебя не существует.
– Именно факт прекращения нашего существования и предоставляет нам экзистенциалистский выбор, – говорит Говард, – таков изначальный смысл слова еще на латыни – существовать.
– Спасибо, – говорит Барбара, – спасибо за консультацию.
– В чем дело? – спрашивает Говард. – Ты позволила абсурдизму увлечь себя? А вон и регулировщик.
Затор расстопоривается. Говард отпускает сцепление. Барбара смотрит прямо перед собой сквозь ветровое стекло на движущиеся машины выше по склону. Через минуту она говорит:
– Это все?
– Что – все? – спрашивает Говард, продвигаясь вперед странными зигзагами, которые выведут его через все уличные полосы к их тощему и высокому дому.
– Все, что ты способен сказать, – говорит Барбара, – все, что ты способен подумать.
– А что ты хотела бы, чтобы я думал, чего я не думаю? – спрашивает Говард.
– Неужели тебя не беспокоит, что многие наши друзья чувствуют теперь то же? – спрашивает Барбара. – Делают теперь то же? Что они ощущают усталость и безнадежность? Или это наш возраст? Или политический азарт угас? В чем дело?
– Он не был другом, – говорит Говард, – мы же едва были с ним знакомы.
– Он приходил на вечеринку, – говорит Барбара. Говард, направляя фургон вниз по склону, поворачивается и смотрит на нее.
– Послушай, – говорит он, – он пришел на вечеринку. Он был накачан наркотиками. Они с Розмари творили вместе какую-то сумасшедшую магию, то, на что кидаются хиппи, когда кайф переходит в бред. Он все время молчал. Мы не знали, какие у него проблемы. Мы не знали, что именно кажется ему абсурдом. Мы не знали, куда они с Розмари отправляются.
– Ты помнишь, когда люди вроде нас не думали, что жизнь глупа? – спрашивает Барбара. – Когда все было распахнутым и раскрепощенным, и мы все что-то делали, и революция ожидалась на следующей неделе? И нам было меньше тридцати, и мы могли полагаться на нас?
– И сейчас все так же, – говорит Говард, – люди всегда появляются и исчезают.
– Неужели правда это так? – спрашивает Барбара. – Тебе не кажется, что люди устали? Ощутили проклятие в том, что делают?
Говард говорит:
– Мальчик умирает, а ты превращаешь это в знамение времени.
Барбара говорит:
– Говард, ты всегда все выворачивал в знамения времени. Ты всегда говорил, что время всегда там, где мы, что другого места нет. Ты жил на привкусе и модах мироощущения. И точно так же этот мальчик, который пришел на одну из наших вечеринок, и у него на руке была голубая татуировка; он накинул себе веревку на шею в сарае. Он реален или нереален?
– Барбара, ты просто в подавленном настроении, – говорит Говард, – прими валиум.
– Прими валиум. Устрой вечеринку. Сходи на демонстрацию. Пристрели солдата. Устрой заварушку. Переспи с другом. Вот твоя система решения всех проблем, – говорит Барбара. – Всегда блестящее радикальное решение. Бунт в качестве терапии. Но разве мы все это уже не испробовали? И разве ты не замечаешь некоторой сумеречности в нашем
былом?
Говард оборачивается и смотрит на Барбару, анализируя эту ересь. Он говорит:
– Возможно, теперь существует мода на провалы и отрицания. Но мы не обязаны ей следовать.
– А почему? – спрашивает Барбара. – В конце-то концов ты следовал каждой моде, Говард.
Говард сворачивает на их полукруг; бутылки побрякивают в глубине фургона. Он говорит:
– Не понимаю твоей кислости, Барбара. Тебе просто нужно какое-нибудь занятие.
– Уверена, ты найдешь способ меня им обеспечить, – говорит Барбара. – Беда только в том, что занятий я от тебя получила уже с избытком и с меня достаточно.
Говард останавливает машину; он кладет руку на бедро Барбары. Он говорит:
– Ты просто отключилась, детка. Все по-прежнему происходит. Ты почувствуешь себя снова хорошо, стоит тебе включиться.
– По-моему, ты не понимаешь, о чем я тебе говорю, – говорит Барбара. – Я говорю, что твоя упоенная вера в то, что что-то происходит, больше меня не успокаивает. Господи, Говард, как, как мы стали такими?
– Какими? – спрашивает Говард.
– Стали до такой степени зависеть от того, что что-то происходит, – говорит Барбара, – устраивать такие представления.
– Могу объяснить, – говорит Говард.
– Не сомневаюсь, – говорит Барбара, – но, пожалуйста, не надо. Ты прямо в университет?
– Я же обязан, – говорит Говард, – начать семестр.
– Начать заварушку, – говорит Барбара.
– Начать семестр, – говорит Говард.
– Ну, так я хочу, чтобы ты до начала помог мне выгрузить все это.
– Само собой разумеется, – говорит Говард. – Ты забери закуску, а я перетащу вино.
И вот Кэрки вылезают из фургона и заходят сзади и выгружают все, что там лежит. И вместе вносят сыр, хлеб, сосиски, стаканы и большие красные бутылки в картонках в сосновую кухню. Они раскладывают их на столе, внушительный ассортимент снеди, уже готовой, ожидающей вечеринки.
– Я хочу, чтобы ты вернулся к четырем и помог мне с этим весельем, которое мы заквашиваем, – говорит Барбара.
– Попытаюсь, – говорит Говард. Он смотрит на вино; он возвращается к фургону. Потом садится за руль и едет через город к университету.
Произведения
Критика