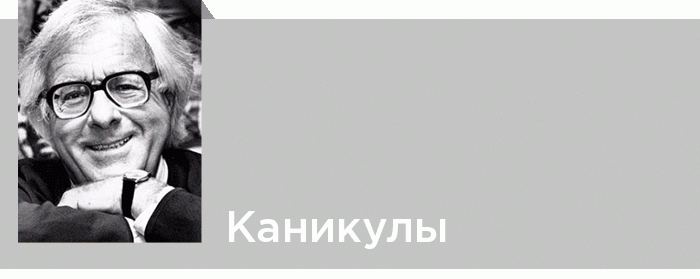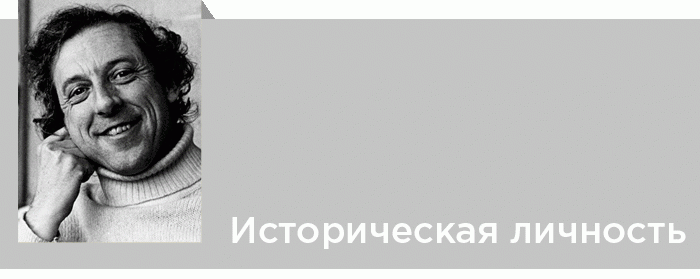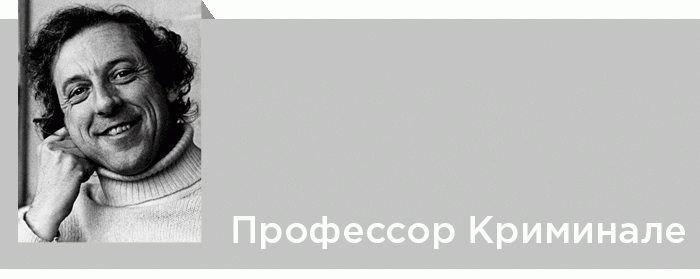Малькольм Брэдбери. Социолог
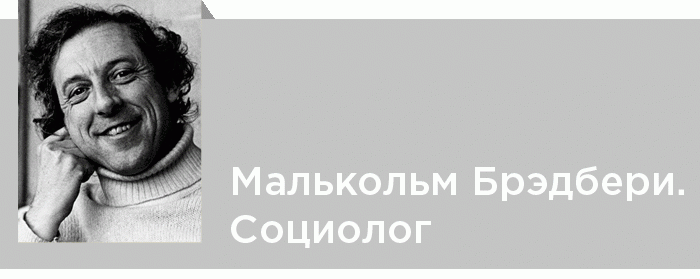
В. Муравьев
«Социолог» — неточный, хоть и правомерный (а может, и оптимальный) перевод заглавия романа. Герой Малькольма Брэдбери — запанибрата с Историей, подстроился к ней, вообще «человек исторический», готовый на все и ко всему, лишь бы не отстать от времени. Как тут не вспомнить Гоголя: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила...»
Именно такова жизненная программа Говарда Кирка, доктора социологии, радикала из радикалов, популярного преподавателя Нового Уотермаутского («Водохлебского») университета в полутора часах езды от Лондона. Он живет «историями», в которых его дело всегда сторона, но которые разрешаются неизменно в его пользу. Он их всего-навсего ферментирует. Ноздреву он, конечно, не чета. Другие времена, другие правы. Английский Ноздрев 70-х гг. XX века лишен ноздревского таланта самозабвенной бытовой импровизации: он не станет посреди котильона садиться на пол и хватать за полы танцующих. Приемчики похожие, но за полы хватать будет кто-нибудь другой, зато уж потом доктор Кирк своего не упустит. Надо, чтобы творилось безобразие; а обратить его себе на пользу — плевое дело. Вспоминается еще один персонаж русской литературы — «семинарист и будущий богослов» (чем не социолог? да еще какой «прогрессивный»!) Михаил Осипович Ракитин с его бессмертной фразой: «Дураки существуют в профит умному человеку».
Английская литература еще не обыгрывала впрямую тип невинно-расчетливого, по-своему цельного подлеца (кое-что похожее было, впрочем, у И. Во и Джойса Кэри), так что это более или менее первый опыт, и опыт довольно удачный. Правда, тропки к этому образу проложены давно (у Теккерея, у Мередита) — и Малькольм Брэдбери работает вполне в национальной традиции сатирической и социально-психологической прозы.
Приверженность этой традиции отчетливо чувствуется и в двух предыдущих романах Брэдбери — «Не надо кушать людей» (1959) и «Шагом на Запад» (1965). Пишет он об университетах, об университетах и еще раз об университетах, а точнее — об университетских преподавателях. Брэдбери долго присматривался к своим коллегам, и теперь перед нами три групповых портрета: 50-х, 60-х и 70-х годов.
Трудно сказать, кто при ком состоит — преподаватели при студентах или наоборот. Факт тот, что характерное для нынешнего времени переключение регистра молодежно-студенческого бунта в тональность параноидного самоутверждения происходит отнюдь не без содействия преподавателей. Они фильтруют свежее, жгучее и бурное дыхание реальных событий, и одно удушье сменяется другим: затхлый академизм спертым радикализмом. Шторм бушует в стакане воды. Бывает и не так, но Брэдбери пишет именно об этом.
Итак, на фоне изображения университетского быта крупным планом даются преподаватели. В данном случае объектив почти не отводится от ключевой фигуры Говарда Кирка. Повествование идет в настоящем времени (чем создается дополнительный эффект иллюзорности, сопутствующий кинематографической прозе), и недаром — прошлое стерто, заглажено, выдумано задним числом, будущее заслонено «архиреволюционными» лозунгами. Герои протекают вместе со временем, они двухмерны, как герои экрана.
«Свободные супруги» Кирки — «подлинные граждане настоящего; в их сознании сгущается то, что носится в воздухе, и от этих указаний они ни на йоту не отступают». Это, конечно, ирония, но вообще автор шуточек избегает и никак под своего героя не подкапывается. Впрочем, его, как Ноздрева или как Ракитина, и не уколупнешь.
Роман — собственно, киноповесть с одной ретроспекцией (как Кирки стали Кирками, освободившись от запретов и обязательств и поняв, что «все дозволено») — история испытаний героя на протяжении одного семестра. В прямую противоположность лишним людям и антигероям, полтора века густо населяющим литературы европейского образца, он из всех испытаний выходит молодцом, обнаруживая полное отсутствие всякого стыда и всякой совести, которые могли бы помешать «хозяину жизни». Оказывается, что «откровенное право на бесчестье» (Достоевский) — лучшее оружие в жизненной борьбе. Право это особенно удобно обосновывать слева, с голоса апостола всяческого — прежде всего, конечно, сексуального — раскрепощения Герберта Маркузе, а также «с чуточкой» Маркса и Фрейда, разумеется, перевранных. Сексуально Говард раскрепостился настолько, что дальше, кажется, некуда. Вдобавок он чистосердечно убежден, что это-то и есть самая революция, другой ему, пожалуй, и не надо; а прочее все состоит в словоблудии (предпочтительна при этом подзаборная лексика) и выходках, не слишком рискованных и с успехом подменяющих реальные поступки.
В романе есть почти неуловимый, но постоянный оттенок гротеска — что называется, бытовая чудовищность. Брэдбери предельно, кинематографично конкретен: никакого свободного словесного пространства в романе нет. Происходит безостановочное чередование реплик и жестов персонажей, перебавляемое лаконическими указаниями на декорации и антураж. Конкретика, сплошная конкретика, ничего лишнего, никаких разъяснений или отступлений, разве что иногда мелькнет от автора неожиданное наречие или простая фраза вдруг примет иронический оборот. Читатель оказывается в замкнутом социуме, в выморочном университетском мирке, где нынче властвуют юркие и вездесущие, крупные и мелкие Кирки, где люди крошатся в стрекоте суеты.
Кинотемп задается с первых фраз: книгу открывает что-то вроде доспассосовского «экрана новостей» осени 1972 года. В фокус попадают супруги Кирки, Говард и Барбара, которые «выглядят так, как этой осенью выглядят новые люди»: стандартная внешность, стандартная одежда. Правда, «их джинсы и кафтаны чуть дороже, чем у большинства знакомых», поскольку доктор Кирк — автор двух хрестоматийно-радикальных сочинений, развивающих маркузианские идеи «тотального раскрепощения»; третье — свеженаписанное — называется «Частной жизни больше нет».
2 октября 1972 года, первый день осеннего семестра, самое время для вечеринки — и эпизод вечеринки у Кирков, на которой мы знакомимся почти со всеми персонажами романа, следует за вышеупомянутой ретроспекцией, рассказом о переходе от былого невзрачного существования к нынешнему «радикальному шику». Хотя рассказ этот и называется «историей обновления», однако обновления никакого не было (это и есть пружина повествования, секрет полишинеля): Кирки просто-напросто сменили один шаблон существования и мышления на другой, новейший и выгоднейший. Вместо вялого прозябания и безразличия — воинствующая, всеподавляющая пошлость: а на самом деле только и случилось, что умерщвление в себе элементарной «викторианской», «буржуазной» порядочности, хоть как-то оберегавшей от разнуздания инстинктов и от потери нравственных ориентиров. Существа по крайней мере безобидные стали монстрами. Таково естественное следствие высвобождения биологических потенций из-под социального контроля, путь от обывательского ничтожества к оголтелому индивидуализму «человека толпы».
Вечеринка, задуманная как хэппенинг, беспорядочная «смесь одежд и лиц», постепенно превращается в нудную оргию. «Оргия вытесняет мессу как первичное таинство причастия», — констатирует толкущийся тут же католический священник. Происходят, впрочем, интеллектуальные контакты и сближения. Возникает мужчина и говорит: «Я тут на днях разговаривал с Джоном Стюартом Миллем. Ему осточертела свобода». Другой мужчина отзывается: «Я тут на днях разговаривал с Райнером Марией Рильке. Ему осточертели ангелы». Третий вторит: «Я тут на днях разговаривал с Зигмундом Фрейдом. Ему осточертел секс». Говард вдруг замечает женщину, незатянутую общим ритмом увеселения: это новая преподавательница литературы мисс Каллендар, миловидная, независимая, ироничная, горделивая. История ее «спасения от ложных принципов», растления личности и превращения человека в марионетку секс-шоу (именно такое восприятие жизни предписывает и навязывает д-р Кирк) составляет единственную сюжетную линию романа. Немного шантажа, немного словоблудия, немного мерзости — и дело сделано. Вообще же события следуют по принципу произвольного сцепления; модель романа — сексуально-политический хэппенинг.
Вечеринку завершает нелепый и неуместный инцидент: бывший друг Говарда (теперь для него дружбы не существует: он слишком занят своей радикальной карьерой и своими революционно-половыми акциями, чтобы всерьез обращать на кого-нибудь внимание) тоже, кстати, социолог, но скорее либерал, врезается локтем в оконное стекло — то ли нечаянно, то ли намеренно, но в общем довольно бестолково. По чистой случайности он не успевает истечь кровью; почти чудом находится человек, готовый озаботиться вызовом скорой помощи. «На вечеринках у всех свои дела»: хозяев же нипочем не сыскать, они заняты где-то в укромных уголках обширного дома углублением знакомства с гостями.
Центральные девяносто четыре страницы занимает хроника второго учебного дня семестра: кинопортрет Говарда в полный рост, ловко справляющегося с академической рутиной и заблаговременно провоцирующего животворные скандалы — будущие хэппенинги. Наблюдательный читатель успевает заметить в мелькании кадров, что и здесь все ненастоящее: футуристический академгородок, детище архитектора Джопа Каакинена, ряженые преподаватели, ряженые студенты, пошлость заученных фраз и ужимок, радикальная болтовня вместо учебы, травля инакомыслящих, незатейливый шутовской хоровод.
...Двадцатистраничная интерлюдия, посвященная быстротекущему уикэнду Барбары Кирк в Лондоне с любовником-актером («Возьми другого, чем он не я?» — советует тот, разлучаясь с нею) и стремительному совращению мисс Каллендар: зачем ей, в самом деле, быть не такой, как другие? Говард испытанным постельным методом доказывает ей (и себе), что она такая же.
Наконец, еще одна вечеринка у Кирков — 15-го декабря 1972 года, в последний день семестра. Те же люди, те же слова, те же жесты, тот же унылый, запрограммированный разгул. И конец почти тот же, только более эффектный: высаживает стекло и яростно вспарывает себе руку Барбара Кирк «в своем яркосеребряном платье» — и, никем не замеченная, остается истекать кровью в одной из укромных спален. А вечеринка продолжается своим чередом: «все заняты по горло».
Конец Барбары Кирк предуказан еще в первой главе книги, где мимоходом рассказано о самоубийце, оставившем краткую записку: «Все это глупо». Еще в XIII веке было сделано предположение, что глупость — это смертный грех, т. е. путь в смерть. Необязательно, и не всякая глупость, да и терминология не наша: но глупость и пошлость повального буржуазно-индивидуалистического бунтарства, подменяющего духовную и эмоциональную жизнь и выдаваемого за революционность, действительно крепко отдает мертвечиной. Это вполне удалось продемонстрировать Малькольму Брэдбери.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва. – 1976. – Вып. 6. – С. 19-22.
Произведения
Критика