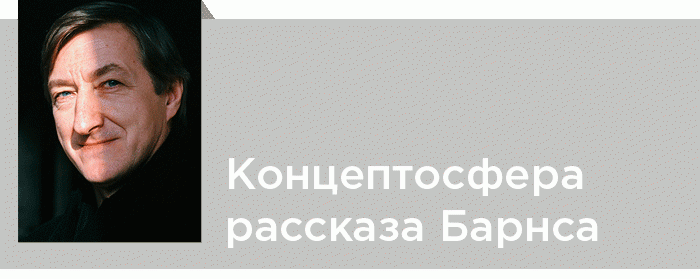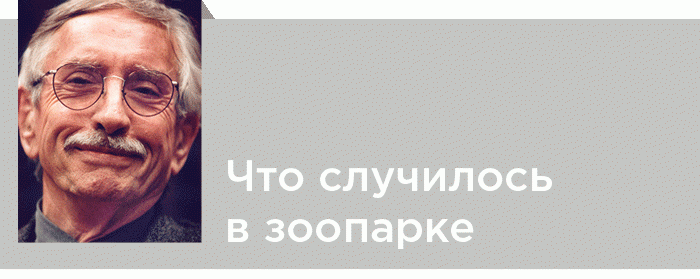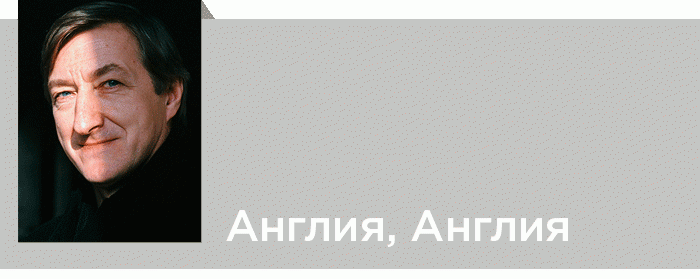О трансформации жанра романа в «Попугае Флобера» Джулиана Барнса

Н.Г. Велигина
Этот вид литературы вызывает пристальное внимание критики в силу ряда причин: неутихающие дискуссии по поводу разрушения и деканонизации традиционной структуры романа вплоть до «исчезновения» последнего и превращения в сеть разрозненных текстов и комментариев; перспектива открытия чего-то нового, заложенная в самой природе эксперимента, и полемичность проблемы новаторства в каждом конкретном случае; наконец, спорность художественной ценности полученного результата - далеко не всегда экспериментирование рождает произведение искусства, а не становится самоцелью. В том, что «Попугай Флобера» (1984) является в этом смысле большой удачей, сомневаться не приходится - в высшей степени экспериментальная книга получила признание как специалистов (ряд престижных литературных премий, в том числе Премия Медичи), так и читателей; о Барнсе же заговорили как об одном из самых перспективных молодых писателей, способных, по словам Д. Хигдона, стать для английского романа 80-х тем, чем были Джон Фаулз и Маргарет Дреббл в 60-х.
Определение «экспериментальный роман» охватывает настолько широкий пласт литературы, что необходимость описания специфики отдельного образца прозы, равно как и выявления неких закономерностей, приводящих к возникновению жанровых сдвигов, возникает неизбежно. В данной статье предпринята попытка анализа наиболее репрезентативных барнсовских новаторских приемов с целью выявления определенной традиции путем сопоставления с не менее смелым романом о Флобере Ж.П. Сартра. Оба произведения интерпретируют жизненные события французского писателя, отсылая нас к жанру литературной биографии, однако биографический компонент здесь существенно трансформирован относительно традиционной романизированной биографии; возможно, речь идет о формировании в настоящий момент некого нового подхода к биографизму в художественной литературе. Это явление пока практически лишено историко-литературного изучения, поэтому варианты воплощения биографического и становятся центральными в нашем исследовании.
При всей условности жанрового определения произведения - зарубежные литературоведы спорят по поводу того, пишет Барнс «романы или нечто иное», - все же можно отметить, что «Попугай Флобера» сочетает в себе черты биографии, философского романа, затрагивающего проблемы отражения реальности искусством, влияния искусства на действительность и невозможности адекватного описания или даже осмысления прошлого, психологического и, в некоторой степени, детективного романов. Кроме того, в романе органично переплетаются на первый взгляд совершенно несовместимые виды прозы - научное исследование и беллетристика, литературоведческие эпизоды оказываются «мелодраматическими» и наоборот. Автор преследует далеко не новую цель: реконструировать для читателя, максимально «оживить» прошлое. Название книги кажется несколько неожиданным, но речь действительно идет о попугае Флобера, будь то настоящая птица или центральная метафора всего произведения.
Повествование ведется от лица врача-пенсионера по имени Джефри Брайтвайт, страстного почитателя Флобера, занимающегося любительскими исследованиями жизни и творчества писателя. Роман представляет собой своеобразный отчет рассказчика о поездке во Францию с целью найти чучело того самого попугая, который использовался Флобером во время работы над новеллой «Простое сердце» для создания образа попугая Лулу. Рассказом о поисках попугая книга начинается и завершается, составляя рамку или внешнюю историю произведения: в музее Руана Брайтвайт действительно находит чучело амазонского попугая, по всем признакам соответствующего описанному в новелле, однако в Круассе оказывается еще один «точно такой же», а в конце книги «Лулу» превращается в целую стаю попугаев. Правда, весь ход повествования заранее предполагает нечто подобное: внутреннее пространство книги заполнено разнообразными текстами, так или иначе иллюстрирующими невероятную сложность, а то и невозможность успешного поиска объективной информации о некогда жившем человеке вследствие ненадежности любых источников, - и в результате читатель получает эксцентричную подачу эксцентричных фактов, домыслов и их сопоставлений, связанных с личностью и творчеством Флобера.
Так, вторая глава предлагает читателю три различные хронологии жизни Флобера, в зависимости от выбранного угла зрения и от того, какие события считаются центральными; в третьей речь идет о якобы существовавшей любовной переписке Флобера с Джулией Херберт, которую находит друг Брайтвайта, но сжигает, поскольку в письмах Флобера сказано поступить именно так; повествование четвертой главы строится вокруг животных, так или иначе имевших отношение к писателю, в частности, есть пункт, касающийся попугаев - рассказчик Барнса утверждает, что Фелисите и ее попугай действительно существовали, но тут же замечает: «это не дает ответа на главный вопрос: как и когда простая (хоть и причудливая) живая птица 1830-х превратилась в усложненный, трансцендентный символ в 1870-х». Далее герой пытается проследить историю этого превращения, анализируя случаи появления попугаев в прозе Флобера. Следующая глава - философское исследование на тему случайностей и совпадений в жизни и в литературе, завершающееся оригинальным выводом: «Я бы запретил совпадения, если бы был диктатором от литературы. <...> Правда, существует способ их легитимации - называть ирониями». Позже Брайтвайт действительно становится «диктатором», предлагая запретить публикацию некоторых романов - например, в которых главный герой обозначен лишь заглавной буквой, или «посвященных маленьким, полузабытым войнам в отдаленных частях Британской Империи».
Шестая глава, носящая название «Глаза Эммы Бовари», содержит иронические рассуждения о некоторых профессиональных критиках. Нарратор упоминает оксфордского профессора, даму, которая строила исследования вокруг поиска ошибок и неточностей в литературном произведении и утверждала, что персонажи у Флобера недостаточно проработаны - даже цвет глаз у Эммы постоянно меняется (то они карие, то черные, то синие), однако обложку своей работы доктор Старки украсила портретом Флобера, в действительности изображающим друга писателя Луи Булье. Далее находим, в частности, составленную Брайтвайтом библиографию апокрифических книг Флобера, историю любви Флобера и Луизы Коле в интерпретации Луизы, сочиненную Брайтвайтом, и даже «Словарь принятых суждений Брайтвайта», составленный по аналогии со «Словарем прописных истин» Флобера, где есть, например, статья «РЕАЛИЗМ»: «Был ли Густав новым реалистом? Он всегда отвергал этот ярлык: «Именно потому, что ненавидел реализм, я и написал «Мадам Бовари». Галилей публично отрицал, что земля вертится вокруг солнца». Все это - тексты, абсолютно разные, хоть каждый и сконструирован из рассуждений о процессе литературного творчества, случаев из жизни Флобера и цитат, но объединяет их не только это.
Со временем становится ясно, что записки эксцентричного исследователя пронизаны чем-то очень личным, несмотря на то, что Брайтвайт практически не говорит о себе. Это, с одной стороны, удивительно свободное обращение с фактами, касающимися Флобера, комментирование событий прошлого одновременно с позиции XIX века и нашего времени: создается впечатление, что рассказчик был другом писателя, он даже якобы понимает Флобера, как никто из современников, а с другой стороны, читателя не покидает ощущение, что все эти исследования ведутся не просто из любви к литературе, здесь скрывается нечто совсем иное. Кажется, что для Брайтвайта жизнь Флобера - скорее предлог выговориться, открыть какую-то тайну, но мы остаемся практически в неведении вплоть до последних глав романа. Порой рассказ о Флобере прерывается упоминанием об Эллен, жене Брайтвайта, однако он тут же, как бы опомнившись, возвращается к предмету своего исследования; лишь в седьмой главе, имитирующей исповедь человека, сидящего в баре и заказывающего себе один за другим виски, предмет рассказа постепенно смещается в сторону самого Брайтвайта: «Три истории заперты во мне. Одна о Флобере, вторая - об Эллен, третья обо мне. Моя - самая простая из них, она вряд ли претендует на нечто большее, чем доказательство моего существования, но тем не менее, начать ее мне труднее всего. История моей жены сложнее, но и ее я пока попридержу. <...> Книги это не жизнь, как бы сильно мы ни хотели обратного. История Эллен настоящая, может, как раз поэтому, я и рассказываю о Флобере взамен». В результате и предлагаемый читателю биографический материал оказывается подчеркнуто маргинального характера: рассказчик либо рассчитывает на осведомленность читателя в основных вопросах, касающихся жизни и творчества Флобера, либо, что представляется нам наиболее вероятным, в лице Брайтвайта Барнс создает образ повествователя, максимально реалистический в условиях существующей для него реальности. Нарратор думает о читателе ровно столько, сколько необходимо для «поддерживания контакта», на самом деле реалии жизни Флобера давно стали реалиями его собственной жизни, переплелись с нею. Рассказывая якобы исключительно о Флобере, повествователь рассуждает о любви и верности, о неудовлетворенности жизнью, растерянности человека в мире и его желании найти некую опору. Становится очевидным, что для Брайтвайта такой опорой являются любительские исследования, то, что он называет «преданностью умершему иностранцу».
К моменту, когда в главе 13 все выяснится, у читателя уже имеется достаточно намеков: семейная жизнь Брайтвайтов не была счастливой, Эллен умерла, может быть, ее убил сам рассказчик. Эта глава называется «Настоящая история» - оказывается, исследуя супружескую измену на примере «Мадам Бовари», Брайтвайт говорил о себе: Эллен изменяла ему всю их семейную жизнь, он любил ее и был верен, понимал ее или старается заставить читателя поверить в это, а когда после попытки самоубийства Эллен оказалась в коме, без малейшей надежды на выздоровление, просто отключил питание аппарата искусственного поддерживания жизни. Но эту информацию читатель должен собирать буквально по крупицам, сопоставляя недосказанности, «случайные» фразы и намеки. Д. Хигдон так описывает эту особенность: «История Брайтвайта втиснута в промежутки той литературной структуры, которую рассказчик создал, чтобы защитить себя. <...> Джефри перекладывает свои сомнения на Флобера, пытаясь избежать собственных страхов. <...> Это самая неохотная исповедь, рассказанная окольным путем человеком, оправдывающим свою нерешительность типично английской скрытной натурой, смущением, а также страхом признать себя рогоносцем, особенно после того, как заслужил уважение читателя своей эрудицией, искренней любовью к Флоберу и умелыми любительскими исследованиями».
Круг проблем внутренней истории замкнулся: Брайтвайт, пишущий о Флобере, более того, старающийся, по утверждению А. Гансерека, писать как Флобер, «имитируя ироничный тон Флобера, подражая его недосказанностям», превращается в персонаж Флобера - в Шарля Бовари, выступая в романе своеобразным эпитипом последнего (мы рискнули ввести этот термин по контрасту с прототипом). Два женских образа - Луиза Коле и оставшаяся загадочной незнакомкой Эллен, в свою очередь, восходят к Эмме Бовари, только в Луизе воплощена Эмма, разочарованная любовница, а в Эллен - Эмма, разочарованная жена. Таким образом, прототекст существует в романе Барнса на двух взаимодополняющих уровнях: в виде самостоятельных элементов, интерпретируемых Брайтвайтом и в виде ключа к тем или иным сюжетным ходам (термин «сюжетным» здесь, конечно, совершенно условен).
Что касается попугая, поиски которого в начале книги символизируют поиск объективной истины, которая ускользает тем дальше, чем больше преследуется, он становится центральной метафорой произведения: попугай как символ слова (А. Гансерек считает, что здесь скрыта пародия на французский постструктурализм), попугай как символ ускользающего прошлого: «Потерянные, напуганные мы следуем, глядя на знаки, оставленные нам, мы читаем названия улиц, но не знаем, где находимся. Мы заглядываем в какое-то окно. <...> Наше внимание привлекает жердочка для попугая. Мы ищем попугая. Где он? Мы все еще слышим его голос, но все, что мы можем увидеть, это деревянная жердочка. Птица улетела». Позволим себе предложить и такое толкование: попугай как символ смысла литературного произведения, будь-то «Госпожа Бовари» или «Попугай Флобера». Птица, повторяющая услышанное в разных комбинациях, до бесконечности - это еще и эмблема постмодернистской эпохи. Барнс (как и любой постмодернистский автор, склонный обсуждать с читателем процесс создания своего произведения и расшифровывать законы внутреннего построения текста), с одной стороны, помогает читателю: кажется, все предельно ясно; но, с другой стороны, каждое найденное решение порождает новые вопросы, в результате смыслы множатся, как стая попугаев.
Все вышесказанное характеризует «Попугая Флобера» как книгу весьма необычную даже для постмодернистской практики. Конечно, у Барнса можно найти немало параллелей с произведениями других современных авторов, особенно это касается нового подхода к биографизму (романы П. Акройда и М. Каннингема), однако это сходство проявляется лишь на уровне отдельных структурных компонентов. Но существует и произведение, вплотную связанное с «Попугаем Флобера», хотя и относящееся к совершенно иному роду литературы. Это созданный вначале 1970-х многотомный «Идиот в семье. Гюстав Флобер с 1821 до 1857 года» Ж.П. Сартра, фундаментальное исследование жизни и творчества писателя.
Жанр книги определить сложно. В. Плеханов называет «Идиота в семье» научным романом, «со всей его строгостью и всей свободой», где «читателю самому выбирать свой путь, самому проливать свет на книгу», и приводит слова Сартра о его произведении: «Мне бы хотелось, чтобы моя работа читалась, как роман. <...> В то же время, мне хотелось бы, чтобы читатель не расставался с мыслью, что все это правда, что это правдивый роман». Пожалуй, то же можно сказать и о барнсовском произведении, вернее, о произведении, «написанном» рассказчиком. Разграничение реального и фиктивного авторов в данном случае очень важно, так как речь идет о высказывании определенных взглядов, «озвученных» нарратором, но далеко не всегда принадлежащих Барнсу. Попробуем сравнить книги на уровне замысла, а также проследить отношение к «Идиоту в семье» у Барнса и Брайтвайта.
Обе книги посвящены проблеме поиска правды о прошлом, в частности, о некогда жившем человеке, и в обоих случаях этим человеком является Флобер. Сартр в предисловии к своей работе так определяет предмет книги: «Что можно знать сегодня о человеке? Мне показалось, что ответить на этот вопрос можно лишь через рассмотрение конкретного случая: что мы знаем, например, о Гюставе Флобере? Этот вопрос сводится к суммированию информации, которой мы о нем располагаем. Ничто не доказывает, что такое суммирование возможно и что истина о каком-либо человеке не является множественной; сведения очень различны по природе. <...> Почему Флобер? По трем причинам. Первая, целиком личная, давно уже не играет никакой роли, хотя лежит в источнике этого выбора: в 1943 году [во время перечитывания его «Писем»] <...> у меня возникло ощущение, что я должен свести с ним счеты и, потому, получше его узнать. ... С другой стороны, он объективизировал себя в своих книгах. <...> Какова же связь человека с произведением? До сих пор я никогда не говорил об этом. Как и никто другой, насколько мне известно. <...> Добавлю, что Флобер, творец «современного» романа, на перекрестке всех наших сегодняшних литературных споров». Итак, ключевым здесь, скорее всего, является вопрос «что можно знать о человеке сегодня»; ту же задачу поставил перед собой и Джулиан Барнс - что можно знать сегодня о Флобере и Луизе Коле, о неком враче или о его супруге? Но, хотя обе книги имеют немало общего в области метода «антропологического исследования» (эссеистический стиль, факты перемежаются домыслами, из смеси правды и вымысла рождаются гипотезы), можно даже предположить, что многое Барнс позаимствовал именно у Сартра, «Попугай Флобера» не столько перекликается с «Идиотом в семье», сколько написан как противопоставление последнему.
Приведем несколько примеров. Сартр считает, что должен «свести счеты» с Флобером, а о намерениях Барнса говорит использование в качестве эпиграфа к своему роману такой цитаты из письма Флобера: «Когда вы пишете биографию друга, должны это делать так, будто хотите за него отомстить», и, вполне возможно, Барнс пытается отомстить именно Сартру! Ведь для Сартра непреодолимость разночтений о чем-либо «лишь кажущаяся, и всякая поставленная на свое место информация становится частью некоего общего целого», и мы находим у него упоминание о Флобере как об «объекте доступном, раскрывающемся легко и не догадывающемся об этом»; Сартр, при всех оговорках, находит, что открытие истины возможно: «не лиризмом по поводу некоторых аспектов Флобера я занимаюсь, а описанием истины о нем». Задача Барнса именно в связи с таким «открытием истины» - «защитить» Флобера от подобного анатомирования и оправдать его желание сказать о себе потомкам ровно столько, сколько можно почерпнуть из его произведений.
В этом свете непоследовательным кажется создание образа Брайтвайта, любопытного и неутомимого собирателя мельчайших обрывков информации о Флобере, того, что дало бы ему ключ к «правде», к верному пониманию автора: ведь соответственно и читатель становится получателем некого очередного, заведомо искаженного представления о писателе. Однако именно здесь и проявляется парадоксальное свойство барнсовской прозы и его позиции - чем больше мы благодаря Брайтвайту узнаем, тем более загадочной кажется личность Флобера. Рассказчик достаточно скептичен, чтобы понимать всю нелепость поиска «подлинного прошлого», но тем более романтическим выглядит этот поиск: «Почему написанное заставляет нас преследовать автора? Почему мы не можем без этого обойтись? Неужели книг не достаточно? Флобер хотел, чтобы было достаточно: лишь немногие писатели верили в объективность написанного текста и незначительность личности автора больше него; однако мы, непослушные, продолжаем искать. Образ, лицо, подпись, <...> клочок одежды и локон волос». Поэтому финал романа читатель может предугадать, слишком часто нарратор сравнивает прошлое с чем-либо ускользающим - «когда я был студентом-медиком и мы отмечали окончание семестра, какие-то проказники выпустили в зал с танцующими поросенка, перепачканного в грязи. Он путался под ногами, не желая быть пойманным, и пронзительно визжал. Люди падали на пол, стараясь схватить его, и выглядели при этом очень смешно. Похоже, прошлое часто ведет себя в точности, как этот поросенок».
Роман заканчивается визитом Брайтвайта к ученому, много лет занимавшемуся Флобером. Оказывается, он знает о том, что попугаев два, более того, рассказывает своему гостю о целой коллекции амазонских попугаев в Музее национальной истории, где Флобер брал птицу в долг и где впоследствии приобрели свои экземпляры оба музея, руководствуясь описанием Лулу в «Простом сердце». Ученый говорит, что вначале попугаев было пятьдесят, но сейчас, видимо, меньше: «Они могли испортиться, как и попугай Фелисите, вы понимаете». Брайтвайт отправляется в музей, в хранилище, где в комнате, полной птиц, стоят три Амазонских попугая, смотрит на них и уходит. Таков итог расследования Брайтвайта и книги в целом: «Возможно, это был один из них». Истина была совсем рядом, но снова ускользнула.
Итак, мы имеем дело с трансформацией романного жанра, в которой участвует биографизм. Если у Сартра исследование сближается с романом, сохраняя при этом и научность и претензию на истинность, то у Барнса - наоборот, роман притворяется исследованием, и в обоих случаях перед нами новые формы преображения и жанровых сдвигов. Перспективы развития этого нового вида прозы очевидны (Сартр, Акройд, Барнс, Каннингем...), а перспективы теоретического изучения включают не только соотнесение его с романом постмодернистской эпохи, но и с классическим «романом художника», с неоромантической и модернистской литературой.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 166-171.
Произведения
Критика