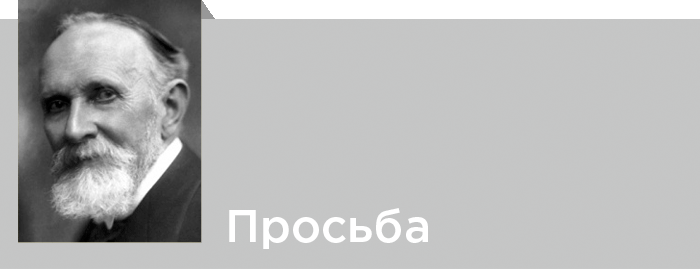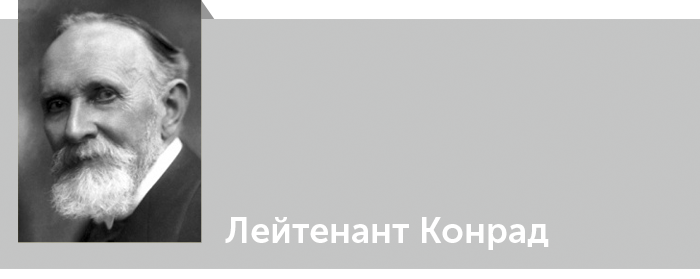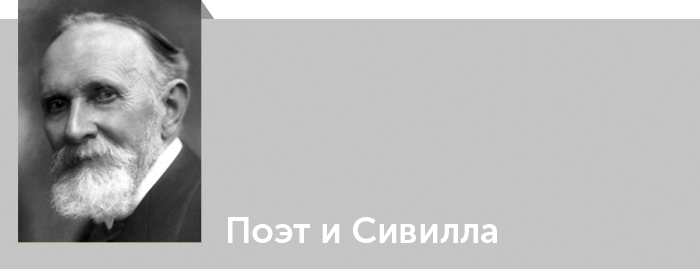Имаго. Часть первая. Карл Шпиттелер
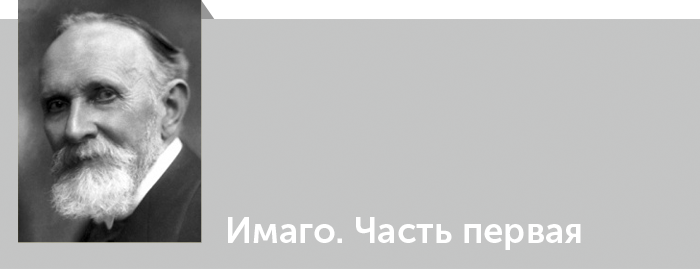
Часть первая
ВЗВРАЩЕНИЕ СУДЬИ
— Не торопитесь выходить! Подождите, пока не остановится поезд!
— Носильщика, пожалуйста! Носильщик!
Значит, это и есть родина, по которой так тосковала душа! По виду сельского жандарма, что торчит без дела на крытом перроне, этого не скажешь. Сдается мне, он зевает. Родина и зевки!
— У вас есть еще крупные вещи?
Вокзал как вокзал; стылые дома, серые и неприветливые, как и повсюду; нет и намека на сияние пурпура и блеск золота. Неужто эти улочки и раньше были такими пустынными и так же продувались ветром? Фу, сколько тут пыли! И какой ледяной ветер, хотя только начало сентября! В одном, Виктор, ты можешь быть уверен посреди этой холодной рассудительности: соблазны любви тебе здесь не грозят. О, никакой опасности с этой стороны!
Вот только этот увалень-носильщик с его навязчивой болтовней мешает погрузиться в свои мысли.
— Не окажете ли вы мне большую услугу? — попросил его Виктор. — В таком случае медленно, очень медленно обойдите вокруг этой колонны и точно сосчитайте шаги... Сколько? Шесть? Хорошо, благодарю вас. А теперь, если вы не против, отправимся дальше.
От удивления у малого отвисла нижняя челюсть, и до конца пути он не произнес больше ни слова.
Остановившись в гостинице, Виктор тут же потребовал адресную книгу. Какая теперь у нее фамилия, у этой неверной, выскочившей замуж? Кажется, Вюсс, фрау директор Вюсс. Но директор чего? Есть директора железных дорог, банков, газовых и цементных компаний, фабрик, изготавливающих резиновые изделия, директора чего угодно. Ну что же, сейчас узнаем. Точно, вот и она; конечно же, предусмотрительно спряталась за спиной мужа. Д-р Тройготт Вюсс, профессор, директор городского музея и школы искусств, председатель правления кантональной библиотеки, член комиссии по сиротским приютам, Мюнстергассе, 6.
Ого, сколько мудрости! И какая куча всяких званий! Странное чувство, я, пожалуй, предпочел бы директора банка. Во всяком случае, господин этот весьма и весьма образован. И все же — не знаю, почему, тут нет моей вины — этого бравого супруга я не представляю себе иначе, как маленького роста, человека невзрачного, немного беспомощного, если не сказать комичного.
Итак, завтра в первой половине дня, Мюнстергассе, дом шесть. Признайся, прекрасная госпожа, ты и не догадываешься, что завтра явится к тебе твой судья?
И на следующее утро в приемные часы он отправился на Мюнстергассе.
Выдержит ли она мой взгляд? Тут два варианта. Она или побледнеет и выйдет, пошатнувшись, из комнаты, или же покраснеет, возьмет себя в руки, заупрямится и дерзко взглянет мне в глаза. В этом случае я напомню ей взглядом о том, что было, и заставлю опустить глаза. Затем я повернусь к нему, бравому супругу. «Высокочтимый господин, загадочная пантомима, которую мы, ваша жена и я, только что разыграли перед вашим изумленным взором, нуждается в объяснении. Разумеется, я готов дать вам его, но полагаю, что будет по-рыцарски благороднее предоставить слово вашей жене. Ибо хотя она и виновата передо мной, я не хочу выступать в роли ее судьи. Итак, пусть она поведает вам, как и почему я являюсь истинным собственником вашей супруги, а вы, господин директор, всего лишь исполняющий обязанности и, с моего позволения, мой верный наместник. Гоните прочь все ваши тревоги; согласившись признать в вас своего наместника в браке, я сознательно взял на себя обязанность никоим образом не нарушать ваше супружество, ваш покой, ваше счастье. Ваш очаг свят для меня, и я хочу только одного — раскланяться и исчезнуть; на моем примере, господин директор, вы научитесь ценить добродетель невидимости. Порог вашего дома я переступил в первый и последний раз; и если я сегодня здесь, то только потому, чтобы единственный раз в жизни, один-единственный раз и никогда более нижайше выразить вашей дражайшей супруге свое неуважение. Она для меня — воплощенное признание вины. Мне этого достаточно. А если недостаточно вам, то я живу там-то и там-то и в любое время, с утра до вечера, к вашим услугам». Так примерно я буду говорить с ним... Дом номер четырнадцать; задумавшись, я прошел мимо. Поворачиваем назад. Дом двенадцать, десять; теперь мы приближаемся; дом восемь — значит, следующий. А домик ничего себе; чистый, уютный, на окнах белые кружевные занавески, далеко выступающий эркер; кто бы мог подумать, что за этими стенами поселилась фальшь? Слышно, как поет канарейка; и детский смех. Ребенок? Какой может быть ребенок? Не ошибся ли я номером? Нет, все верно, дом шесть. Ну и что, в доме могут жить несколько семей.
Когда он прочитал на двери фамилию Вюсс, сердце его вдруг словно с цепи сорвалось. «Тише, ты там!» — приказал он. — «Волноваться пристало ей, а не мне, судье!» Он дернул за звонок и торопливо, перепрыгивая через ступеньки, взбежал по лестнице.
— Мне очень жаль, — притворно сладким голосом пропела служанка, — господина директора и госпожи нет дома.
В нем шевельнулась досада. Он ждал любого приема, только не такого. И вообще он не любил, когда того, кому он наносил визит, не оказывалось на месте. «Нет дома!» Она, значит, среди бела дня с этим своим муженьком идет куда-то в гости? Вообще-то у нее есть на это право, но помимо права есть же еще и приличия.
— Вот моя визитная карточка, я снова зайду после обеда, часа в три.
— Фрау директор вряд ли будут сегодня после обеда Дома, — робко проговорила служанка.
— Она будет дома! — повелительным тоном произнес Виктор, повернулся и ушел.
Ну и зловредное создание эта служанка! Сколько яда вкладывает она в слова «фрау директор», они звучат прямо-таки как издевательство. На лестнице навстречу ему попался почтальон.
— Почтовая открытка для госпожи Вюсс, — объявил он, подняв голову кверху. И этот тоже! Трусы! Рабы обстоятельств! Женись на ней я, и они сегодня называли бы ее моим именем.
На улице он вынул часы. «Половина двенадцатого; хватит, чтобы заглянуть перед обедом к госпоже Штайнбах. Далековато, правда, от Мюнстергассе до Розенталя, но если слегка поторопиться...» И перед его мысленным взором предстал знакомый садик с астрами в лучах осеннего солнца. Он бодро зашагал по улице, радуясь предстоящей встрече с подругой. И чем дальше он шел, тем сильнее было в нем желание встречи. Но перед садовой калиткой он задержался. «Ну конечно же, должно быть, и ее нет дома, одна неудача тянет за собой другую». Но нет, смотри-ка! Сверху из окна донеслось радостное восклицание, и она, сияя дружеским участием, поспешила ему навстречу, вниз по лестнице. Они едва не бросились друг другу на шею. Взяв его за обе руки, она потащила его с собой.
— Да вы ли это в самом деле? Скажите же, милый друг, как ваши дела?
— Откуда мне знать?
Она громко рассмеялась от удовольствия.
— Я снова узнаю вас! Итак, говорите же, рассказывайте о чем хотите! Только бы слышать ваш голос! И совершенно точно знать, что это вы, собственной персоной, а не какая-нибудь красивая сказка. Ибо у вас, мой дорогой, фантазия и действительность до такой степени переплетены, что я не удивлюсь, если вы вдруг снова исчезнете прямо у меня на глазах.
— Ход мыслей не совсем верен, — пошутил он, — связь между ними не совсем безупречна. Так прикажите мне повернуться перед вами, чтобы вы могли убедиться, что я не фантом!
— Нет, дайте-ка лучше снова вашу руку... Вот так! Теперь я крепко держу вас... нет, какой сюрприз! Когда же вы приехали?
— Вчера вечером... А знаете ли вы, что вы становитесь все моложе и красивее? И одеты, как всегда, с изысканным вкусом!
О ля-ля! Замолчите! Старая вдова тридцати трех лет. А вы — вы стали сильнее и мужественнее, мне кажется, чем были четыре года тому назад; я бы даже сказала — увереннее, отважнее!
— Более того — заносчивее, предприимчивее, агрессивнее!
— Да будет так. Значит, скоро от вас можно ждать чего-то великого и прекрасного? Вы же знаете, как я на это рассчитываю.
— Ах, Господи, что до этого... — вздохнул он и с озабоченным видом погрузился в свои мысли.
— Если вы еще раз сделаете такое озабоченное лицо, — засмеялась она, — у меня не останется к вам ни малейшего сочувствия. Муки совершенства, мечты о триумфе!
Издали, с собора донесся низкий звук колокола: пробило полдень.
— Знаете что, — ласково сказала она, когда Виктор поднялся, — приходите сегодня после обеда на чашку чая, посидим вдвоем.
Он хотел было уже с радостью согласиться, но опомнился.
— К сожалению, уже обещал быть в другом месте, — огорченно сказал он.
— Вот те на! Только вчера вечером прибыл — и сегодня уже занят? Впрочем, я не хочу вторгаться в ваши тайны.
Он не позволял себе малодушных уловок, и потому неохотно признался:
— Тут нет никакой тайны для кого бы то ни было, не говоря уже о вас. В три часа пополудни я должен быть у госпожи Вюсс, директорши.
Она отчужденно взглянула на него.
— Что вы потеряли в этом демократическом храме доб-родетелей? Вы разве знакомы с господином директором?
— С ним нет, зато с ней.
Теперь выражение ее лица изменилось и стало холодным.
— Знаю, знаю, — сказала она, отворачиваясь от него, — года четыре назад на курорте вы бегло познакомились с ней. Кажется, провели вместе день или два.
— Бегло! — возмущенно воскликнул он. — Бегло? И это говорите вы, разбирающаяся в таких делах? Что значит «день или два»? Разве ценность жизни измеряется календарем? Мне кажется, есть часы, которые значат больше, чем тридцать лет обыденной жизни; часы, которые живут в вечности, как какое-нибудь произведение искусства, ибо художник, сотворивший его, — это священный мировой дух красоты!
— Это, однако, не мешает тому, что произведения искусства гибнут и забываются.
— Мне неведомо забвение, я не терплю прошлого.
— Вам с вашим воображением неведомо, зато ведомо другим; особенно когда настоящее удовлетворяет все их желания. Вы и впрямь полагаете, что госпожа Вюсс ждет вашего визита и будет особенно переживать, когда он не состоится?
— Ничего такого я не полагаю и вовсе не стремлюсь своим визитом доставить ей удовольствие.
Госпожа Штайнбах немного помолчала, затем заговорила словно бы про себя, но громко и отчетливо:
— Прекрасная Тевда Нойком сейчас для вас — отрезанный ломоть; она довольна и счастлива в браке. Образованный, уважаемый и почтенный муж, которого она любит и который достоин ее любви; очаровательный ребенок — не мальчик, а просто ангел, скажу я вам, дерзкий упрямец с черными, как у матери, локонами, и уже начинает говорить... Что ж, делайте вид, будто пожимаете плечами. Для вас это пустяк, но только не для матери!.. Добавьте сюда широкий и благословенный круг друзей и родственников, в котором она блаженствует; тут прежде всего надо назвать ее брата Курта, это удивительный человек, настоящий гений, она обожает его. — Госпожа Штайнбах на мгновение замолчала и чуть заметно улыбнулась про себя. — Кстати, я вспомнила, что сегодня после обеда ее не будет дома; она уезжает с хором за город.
— Простите, но она будет дома!
— Ну, раз вы в этом так уверены, мне нечего возразить. — И вдруг, окинув его серьезным взглядом, спросила: — Милый друг, скажите откровенно, чего вы хотите от госпожи Вюсс?
— Ничего! — недовольно отрезал он.
— Тем лучше, в противном случае вас ждет чувствительное разочарование... Ну что ж, тогда в другой раз. Заходите, когда будет желание. Вы же знаете, вы у меня в любой день и в любой час желанный гость. — И, провожая его к выходу, она еще раз настойчиво повторила: — Прекрасная Тевда теперь — отрезанный ломоть.
До чего же настырно повторяет она поговорку об отрезанном ломте! Не думает же она?.. О нет, дражайшая, жених возвышенной Имаго неуязвим для директорши Вюс… Так вот, значит, каково ее последнее увлечение: производить на свет детей! Пожалуйста, милостивая государыня, не буду вам мешать. Делайте вид, что меня не существует на свете, продолжайте рожать двойняшек, тройняшек, по мне хоть дюжину сразу... Однако же я сказал, что мне ничего от нее не надо, это неверно, ошибку следует исправить. И тут же с мальчиком-посыльным отправил госпоже Штайнбах записку: «Дорогой друг, небольшое уточнение. Не «ничего» хочу я от нее, а чтобы она опустила передо мной глаза, вот чего хочу я от нее. Ваш Виктор».
В столовой гости со скучающим видом ходили туда-сюда, то выглядывая в окно в ожидании обеда, то рассеянно разглядывали картины на стене.
Виктор остановился перед портретом в раме, изображавшим государственного деятеля (его фамилия, разумеется, была написана неразборчиво). Мужественное лицо с грубыми, энергичными чертами, словно на гравюре по дереву. Выражение бескорыстия и целеустремленности, поза глубоко убежденного человека, ничего не выражающие глаза, привыкшие не спорить с конкретным человеком, а бездумно скользить над толпой. Виктору удалось разобрать крылатое выражение этого человека: «Все благодаря народной школе!» Да, именно таким и был этот неестественно напрягшийся человек. Весь мир для него — воспитательное учреждение; смысл жизни в том, чтобы учиться, затем учить других; нет истины, которая бы не отдавала мудростью, и нет мудрости без запаха поучения. Много бед натворил бы этот заключенный в квадратную рамку образец убежденности, если бы судьба не бросила его в безобидный плебисцитарный регион, а поставила у руля мировой истории!
Пока он упражнялся в красноречии перед портретом государственного деятеля, к нему незаметно присоединился еще кто-то и стал через его плечо тоже разглядывать картину.
— Не правда ли, какая выразительная голова! — восхищенно произнес незнакомец. Подошли и другие гости, слетелись, как мухи на мед, и в толпе снова прозвучал почтительный возглас:
— Какая великолепная, выразительная голова!
Должно быть, голова эта была важной персоной, любимцем народа; разговор продолжал вращаться вокруг него даже тогда, когда все уже сидели за столом. Вскользь прозвучала и его фамилия — Нойком. Стоп, ты слышал? Нойком? Точно так же звали и ее. Не исключено, что это ее дальний родственник.
— У него были дети? — негромко прозвучал вопрос.
— Двое, — послышалось в ответ. — Сын и дочь. Сын не представляет из себя ничего особенного, он сочинитель; напротив, дочь вышла замуж за известного господина Вюсса, директора. Великолепная женщина, скажу я вам; на улице все оборачиваются, встретив ее. Высокая, с гордой осанкой, черноволосая и смуглая, как южанка (ее бабушка была итальянкой), не женщина — огонь, черт побери! И к тому же скромная и целомудренная; никто слова дурного о ней не скажет. И такая же убежденная патриотка, как и ее покойный отец.
Так это ее отец! Проснись же, мой здравый рассудок, да пошевеливайся, ибо отсюда следует масса важных наблюдений. Рассудок его лениво зашевелился, слегка поднял голову, но снова равнодушно опустил ее, как лежащая на улице дворняга, когда мимо проходит разносчик молока. «Этот факт для меня ничего не значит», — заявил рассудок.
После обеда Виктор осведомился у официанта, где тут можно почитать газеты.
— Лучше всего сходить в кафе Шерца у вокзала; любой ребенок покажет вам дорогу.
В заполненном зале ему удалось найти столик у окна с двумя свободными местами. Люди уходили, приходили, оглядывались; но никто не подсаживался к нему. «Здесь, как и везде! В тебе, Виктор, нет решительно ничего располагающего, с тобой «неуютно». Забавная мысль: а что, если среди всех этих людей сидит и мой верный наместник? Почему бы и нет? Вероятно, и ему хочется почитать газеты. Должно быть, он похож вон на того, что сидит сзади, белобрысый, в очках с толстыми стеклами на глупом лице. Адонисом его при всем желании не назовешь; и, похоже, одухотворенности в нем ничуть не больше, чем положено профессору. Наместник, наместник, советую тебе не полагаться особенно на свою ученость, не то в один отнюдь не прекрасный день твоя Юнона, о которой ты столь высокого мнения, окрестит тебя «доктором Докукой». Собственно, надо бы из приличия подойти к нему и слегка подразнить его. Вот только бы знать точно, что это он! Ну, это мы скоро выясним. Десять минут третьего; еще три четверти часа. Как быстро летит время!.. Смотри-ка, какой видный из себя господин заглянул в кафе! Брр! Предмет девических мечтаний. К такому можно «прислониться», «обвиться вокруг него», не мужчина, а «опора на всю жизнь»! Будь у меня голос, я бы сейчас запел: «О ты, прекраснейший из всех!» И кудри, как у Юпитера! Кого напоминает мне этот смазливый Геркулес?.. Точно, короля червей на картах... Горе вам, девы, восплачьте! Взгляните на обручальное кольцо! И уже папаша, ибо выступать так самодовольно может только тот, кому знакомо отцовское чувство... Как аккуратно складывает он свой плащ! Какое тонкое, безукоризненное белье на нем! А это еще что? Сдается, он и впрямь направляется ко мне. Добро пожаловать, прекраснейший из всех!»
Вежливо поклонившись, король червей сел за столик и вытащил портсигар.
— Позвольте предложить?
— Благодарю, — ответил Виктор. — Я не курю.
А ты заметил, какая у него на портсигаре искусная вышивка? Наверняка подарок жены.
— Вы разрешите? — король червей взял иллюстрированную газету и не очень внимательно, с благосклонным, почти снисходительным видом стал просматривать ее; при этом он барабанил пальцами по столу. Какие ухоженные ногти!
Однако королю червей хотелось не столько читать газету, сколько поболтать; судя по всему, он вкусно пообедал.
— Вы, как иностранец, — начал он осторожно разговор, и гортанные звуки его голоса вблизи зазвучали громче, должно быть, не очень любите беседовать на нашем грубом диалекте?
— Я не иностранец, — уточнил Виктор, подкрепив свои слова коротким жестом, — я здесь родился и вырос, но четыре года провел на чужбине.
— А, тем лучше; я, значит, имею удовольствие приветствовать в вас земляка.
После этого он снова уткнулся в газету, чему-то ухмыляясь про себя.
«Он наслаждается своим супружеским счастьем, как ребенок леденцом», — подумал Виктор.
Когда леденец окончательно растаял во рту, король червей показал на рисунок Вертера в газете.
— Как вы полагаете, — немного поколебавшись, спросил он, — возможна ли, по-вашему, сегодня такая страстная, мечтательная любовь?
— Природа всегда берет свое, — ответил Виктор.
Король червей ухмыльнулся.
— Неплохо сказано. Все дело, однако, в том, как понимать природу — в узком или широком смысле. Вы, следовательно, всерьез полагаете, что в наш реалистический век...
— Реалистических веков не существует.
— Ну хорошо, пусть так. Но вы же не станете отрицать, что существуют столетия с разным настроением; к примеру, такие, в которых просто немыслимы душевные состояния, наблюдавшиеся ранее. Или вы могли бы представить себе, например, Иоанна Крестителя, Франциска Ассизского или нашего Вертера в высоком накрахмаленном воротничке?.. Простите, я говорю это без какого бы то ни было намека. Нет, право, поверьте мне, это было сказано вполне безобидно.
Виктор с улыбкой успокоил собеседника:
— Я не претендую на звание Крестителя или святого, хотя сомневаюсь, что святой дух связан с употреблением в пищу кузнечиков, а состояние экстаза зависит от воротничка. Кстати, если я не ошибаюсь, создатель Вертера имел обыкновение одеваться очень тщательно, даже изысканно.
Поскольку пауза затянулась, Виктору пришла в голову мысль, от которой он никак не мог отвязаться.
— Вы, может быть, знаете, — робким голосом решился он, наконец, спросить... — вы, может быть, случайно знаете господина директора Вюсса?
Едва он закончил фразу, как почувствовал, что густо покраснел.
Король червей удивленно поднял голову:
— Знаю. А что?
— Что он за человек? Я хочу сказать — как он выглядит? Высокого роста или низкого? Молодой или старый? Уродлив или приятной наружности? Во всяком случае, если судить по званиям и должностям, человек он высокообразованный, не так ли?
Король червей сделал хитрую мину и весело ухмыльнулся.
— Как у всякого человека, у него есть свои недостатки; вместе с тем лыщу себя надеждой, что он обладает и вполне сносными качествами... Но позвольте представиться, я директор Вюсс.
Он произнес это так обходительно, с такой милой иронией, что Виктор, превыше всего ценивший утонченность чувства, сразу проникся к нему симпатией, вскочил и протянул ему руку, которую тот тут же схватил и пожал. Между ними возникло нечто похожее на дружеский союз.
Когда же Виктор назвал и свое имя, директор радостно воскликнул:
— Так вы, очевидно, тот самый господин, который сегодня утром оказал нам честь своим визитом. Мы искренне сожалеем, что не могли вас принять; особенно моя жена, с которой вы, если не ошибаюсь, однажды встречались на морском пляже.
— Не на морском пляже, а на горном курорте, — недовольно уточнил Виктор.
— К сожалению, и сегодня после обеда ей пришлось отказаться от удовольствия принять вас, так как она уже договорилась с дамами из певческого союза о поездке; я только что вернулся с вокзала. Надеюсь, это вас все же не смутит, и если вы не сочтете меня навязчивым, я хотел бы предложить вам пойти в «Идеалию»; там не нужно никаких формальностей; просто сошлетесь на меня. К тому же моя супруга — почетный президент.
— «Идеалии?..»
— Ах да, я по рассеянности забыл, вы, конечно же, не в курсе дела... — И он, начав издалека, стал рассказывать об «Идеалии». Учреждена его покойным тестем ... скромные встречи без принуждения и торжественности... без изысканности в одежде и еде... ради общения на более высоком содержательном уровне, где можно поговорить о возвышенном и в то же время отдохнуть (одно, как известно, не исключает другого), для этой цели годится прежде всего музыка... ну и тому подобное, с перечислением участников, сведений о собраниях и о том, как они проходят; как правило, по средам, пятницам и воскресеньям.
Виктор делал вид, что внимательно слушает, а сам незаметно разглядывал собеседника. Наместник! Король червей! Прекраснейший из всех! А я-то полагал, что он совсем не Адонис! С чего я взял, что наместник — человек комичный, по меньшей мере неуклюжий? О, король червей отнюдь не комичен! Отнюдь! Виктор не сводил с него озадаченных, почти испуганных глаз... Ну что ж, возрадуйся Виктор! Разве не льстит твоей гордости, что наместник видный из себя мужчина? И то, что она любит его, тоже по-моему, в порядке вещей. Или же мне хотелось иного? Боже сохрани, совсем напротив; меня бы огорчило, будь все по-другому... Но вот она! Какое вызывающее поведение! Отправиться в поездку с хором, когда я предупредил о своем визите! Без сомнения, дама лишена чувства стыда.
— Вы, я полагаю, тоже человек музыкальный? — прервал его мысли вопрос наместника. — Или по крайней мере любите музыку?
— Мне кажется, да; точно сказать не могу, смотря по обстоятельствам.
С соборной башни долетели удары колокола.
— Три часа! — ужаснулся наместник и испуганно вскочил. — Заболтался я с вами, мне надо бежать в музей... Итак, я рассчитываю на то, что смогу приветствовать вас в «Идеалии», не так ли?
Он торопливо пожал Виктору руку и быстро вышел.
Виктор в растерянности бродил по улицам. Сколько бы он ни говорил себе: «Виктор, радуйся», ничего не помогало, он был угнетен, подавлен, обескуражен.
Какое несчастье постигло его? Да никакого. И все же он был удручен. Он шел и шел, пока, усталый, не оказался за городом. Потом, в гостинице, когда он растянулся на кровати, ему стало легче. «Гуляй на здоровье», — пожелало ему его тело.
— Спасибо, Конрад, — приветливо ответил он. Он имел обыкновение свое тело, с которым он так хорошо уживался, называть Конрадом.
Отдохнув как следует, он заметил на столе письмецо, которое, судя по всему, пролежало там уже довольно долго. От госпожи Штайнбах.
«Злой вы человек! Госпожа Вюсс ни перед кем не обязана опускать глаза. Немедленно приходите ко мне, я хочу вас отругать».
Спокойно, непреклонный в своем решении, он последовал приглашению.
— Вот не знала, что вы можете быть таким неприятным! — набросилась она на него. — Садитесь-ка вот сюда, на скамью подсудимых, и отвечайте на мои вопросы. В чем вы обвиняете госпожу Вюсс?
— В нарушении супружеской верности.
— Что сие значит в переводе на нормальный язык?
— На нормальном языке, без всякого перевода, это значит, что она нарушила супружескую верность.
— А сейчас, мой дорогой, я буду говорить с вами серьезно и строго, ибо речь идет о чести женщины с безупречной репутацией. Я взываю к вашей правдивости, в которой глубоко уверена, и прошу ответить по совести: вы были помолвлены с Тевдой Нойком?
— Еще чего! — решительно возразил он.
— Или было еще что-то, равнозначное помолвке и дающее вам право так говорить — признание в любви? Обязывающее слово или знак? Поцелуй? Что-нибудь подобное?
— Нет, нет, нет! — снова горячо возразил он. — Вы на ложном пути; мы обменялись только немногими, совершенно незначительными словами. Я сидел за столом рядом с ней, мы несколько раз прогулялись вместе по саду, затем она спела для меня в зале песню. Вот и все.
— Значит, были письма.
— Почему бы и нет! Но я относился к ней слишком благоговейно, слишком добросовестно; она, в свою очередь, была чересчур осторожна. Женщины в письмах не забываются, вам это хорошо известно.
— Тогда в чем дело? Помогите же моему бедному рассудку.
Лицо его вдруг обрело отчужденное, очень серьезное выражение, словно перед его глазами предстал призрак.
— Личная встреча в далеком городе. — Голос его дрожал.
— Простите, что возражаю вам: госпожа Вюсс утверждала прямо противоположное, а она не лжет.
— Я тоже не лгу! Когда я говорю о свидании, я не имею в виду физическую близость.
Она непроизвольно дернулась на стуле и уставилась на него.
— Не физическая близость? Надеюсь, вы не станете утверждать... или как прикажете вас понимать?
— Вы правильно поняли, речь идет о свидании души с душой... Успокойтесь; я в своем уме и воспринимаю внешние явления столь же четко, как и любой другой человек. Отчего вы делаете такое недоверчивое лицо? Быть может вы думаете, что из обставленного мебелью дома видно лучше, чем из пустого? Когда я говорю о видении...
— Вы верите в видения? — жалобно спросила она.
— Как и любой человек, как вы, например. Назовите это мечтой, воспоминанием, отблеском любимого лица, образом, сверкнувшим в душе художника. Разве это не видения?
— Прошу вас, только без софистических штучек! Будем говорить серьезно. Когда речь идет о воспоминании или художническом озарении, отдаешь себе отчет в том, что это всего лишь фантазии.
— Я тоже отдаю себе в этом отчет.
— Слава Богу, вы успокоили меня; можно вздохнуть с облегчением. Перед этим вы выразились таким образом, что я на мгновение подумала, будто вы позволяете вашим так называемым видениям оказывать решающее воздействие на вашу настоящую жизнь.
— Именно так я и поступаю.
— Нет, вы не можете так поступать! — воскликнула она запрещающим тоном. — Не можете!
— Простите меня, но я позволяю себе поступать именно так.
— Но это же безумие! — крикнула она.
Он улыбнулся.
— Где тут безумие, скажите? В чем оно? В том, что внутренние переживания я ставлю столь же высоко, как и внешние? Или, скорее, бесконечно выше внешних? Или в том, что я руководствуюсь ими в жизни? А совесть? А Бог? Разве это безумие, если в своих поступках ты руководствуешься совестью или Богом?
Она на минуту смешалась, озадаченная, не зная, что ответить. А он продолжал:
— Единственная разница заключается в том, что другие удовлетворяются смутными видениями, тогда как я стараюсь все видеть четко, как художник вознесение Марии на небеса. «Перст Божий», «Око Господне», «голос природы»» «знак судьбы» — какое мне дело до этого анатомического музея? Я хочу всегда видеть все лицо, целиком.
Она уныло вздохнула.
— Изворотливостью мысли вы, конечно же, в сто раз превосходите мой слабый женский ум; я не хочу пускаться в подобные рассуждения. Мне остается только сожалеть и горевать.
Он положил ей руку на плечо.
— Благородная подруга, не правда ли, вы так и не поняли, почему я оставил без внимания ваш благожелательный намек на мою помолвку с Тевдой? Признайтесь, вы придерживались и продолжаете придерживаться мнения, что я по глупости и легкомыслию упустил свое счастье из страха перед брачными узами. Вот видите, вы кивнули головой.
— Скажем, из нерешительности, — подыскала она более мягкое выражение.
— Нет, из страха; ибо нерешительность — это та же трусость — трусость воли. Мне, однако, невыносимо знать, что вы видите все в ложном свете. Поэтому я хочу высказать вам свои соображения. Вы готовы слушать?
— Я готова ко всему, — прошептала она, опустив голову, — хотя не скрою от вас, что тема эта для меня мучительна и что я не понимаю, какой смысл ворошить старые истории. Впрочем, если вам угодно...
— Не угодно, — поправил он, — я должен высказаться!
— И изменившимся голосом начал торжественно. — Нет, не из трусливой нерешительности, не из глупости я промедлил, когда великое счастье легкими шагами приблизилось ко мне, взирая на меня ясными очами и шепча: «Возьми меня!», а зная, что делаю, понимая, от чего отказываюсь, после трудных и зрелых раздумий принял я это мужественное решение. И сейчас я хочу рассказать вам об этом решительном часе моей жизни.
После этих слов он сделал паузу, как бы переводя дыхание. Но когда пауза слишком затянулась, она взглянула на него. Он стоял перед ней, весь дрожа, сотрясаемый внутренней бурей, крепко сжав губы.
— Я не могу рассказать вам об этом, — с трудом вымолвил он, — это самое сокровенное. — И он оперся о рояль.
Она быстро вскочила, чтобы поддержать его, если понадобится.
Но он уже снова выпрямился.
— Я принял верное решение! — воскликнул он. — Я Знаю, что принял верное решение! И если бы мне приелось выбирать еще раз, я не сделал бы иного выбора! —
Он взял шляпу, поклонился и поцеловал ей руку. — Я опишу вам все это, — сказал он. Глубоко потрясенная, она проводила его к выходу.
— Ладно, — сказала она, чтобы только сказать что-нибудь, стараясь говорить непринужденным тоном. — Ладно, опишите мне все это. Вы же знаете, мне интересно все, что волнует и тревожит вас. И поверьте мне: хотя я не всегда понимала вас, да и сейчас не понимаю, но я никогда ни на мгновение не сомневалась в честности и благородстве ваших мотивов.
— Благодарю, верный великодушный друг! — пылко воскликнул он, бурно обняв ее обеими руками. — Вы утешили меня; мне больно, невыносимо больно, когда кто-нибудь сомневается в благородстве моего характера.
— Кто-нибудь усомнился? — резко, почти сердито спросила она.
Он удивился.
— Все, — ответил он, помедлив. — Это значит — никто конкретно.
Тем временем она освободилась из его объятий и отступила, поднявшись на несколько ступенек.
— И еще одно: вы не поступите несправедливо, не так ли? Не причините ей зла?
Он улыбнулся.
— Я никому не причиняю зла, кроме разве что себе самому.
С этими словами он ушел.
— Вы опасный, несносный человек! — вздохнула она ему вслед и обессиленно бросилась в кресло, чтобы отдохнуть от напряжения.
Он же поспешил в свою комнату, чтобы описать то, что не сумел высказать устно. И надо же, хотя писание обычно было ему до крайности противно, теперь, растревоженный после разговора воспоминаниями, он ощутил страстное желание запечатлеть на бумаге решающий час своей жизни, чтобы возвышенная тайна могла жить и вне его, независимо от его памяти, как непоколебимая истина.
Он писал со скрежетом зубовным, гневно протестуя против трезвых законов мышления, но в едином порыве, в лихорадочной спешке.
Госпоже Марте Штайнбах
Позор и проклятие голой прозе, ибо она оскверняет!
Итак, я рассказываю и оскверняю:
МОЙ РЕШАЮЩИЙ ЧАС
Утром пришло ваше письмо с фотографией Тевды, то самое письмо, в котором вы намекали, что от меня ждут ясного слова и что на него будет дан благосклонный ответ, но что затянувшееся молчание будет истолковано как отказ. Я принялся разглядывать фотографию; тысяча прелестных достоинств смотрели на меня; чистота редкостной девушки, отмеченной красотой, добродетелью и воспитанностью, память о проведенных вместе часах, хотя и не очень содержательных, но осененных вечной поэзией (такие часы я называю про себя «вторым пришествием»), искренний взгляд одухотворенных глаз, говоривших мне: «Мои надежды связаны с тобой», обещание бесконечного блаженства тому, кто сумеет завоевать ее. Под фотографией невидимыми письменами было начертано: «Вот высшая награда», а слова вашего письма шептали: «Награда принадлежит тебе».
Пока мысли мои были заняты тревогами этого дня, я прятал фотографию, лишь изредка наслаждаясь ее лицезрением — чтобы погрузиться в удивительную загадку ее задумчивых глаз или чтобы упиться неисчерпаемым чудом женской красоты. Так скрытно тешил я свое сердце милым ликом.
Но поздним вечером, когда я в одиночестве сидел в темной комнате, я поставил фотографию перед собой на стол, благоговейно всматриваясь в нее, пытаясь в сумерках разглядеть лицо Тевды. Молчание просторной квартиры, все двери которой были распахнуты настежь, нарушали мелодичные звуки: нежное воркование парочки горлиц в темной столовой и мечтательные трели канарейки в освещенной люстрой зале, из тех, что поют при искусственном освещении.
Так я сидел и размышлял о своей судьбе. Как два разных воздушных потока из противоположных направлений овевала она меня, а посредине грозно вставал вопрос: «Имеешь ли ты право? Выдержит ли величие сравнение со счастьем?» Печально воспринял я этот вопрос, догадываясь, что ответ будет отрицательным, иначе и вопроса не прозвучало бы. Но сердце мое, чувствуя угрозу, начало бушевать. «Где оно, это твое величие, которому ты хочешь принести меня в жертву? — кричало оно. — Покажи его, выложи свои творения!.. Будущее величие? Ах, кто поручится, что оно суждено тебе, будущее? На свете существуют болезни и смерть. Или ты воображаешь, что законы природы не для тебя писаны? Но даже если допустить, что ты останешься жив, откуда возьмется твое мнимое величие? Скажи, откуда? Из твоей уверенности в себе? О, горе! О комедия! Не сердись на меня, дай от души посмеяться. Их десятки тысяч, юношей, высокопарно мечтающих о славных свершениях; и с такой уверенностью в себе, которая раздувается до размеров земного шара. И что из них выходит потом? Ни на что не годные бедолаги, круглые нули, полные горечи и воюющие со всем миром. Или ты полагаешь, что твоя самоуверенность высшего свойства? Почему? С какой стати? Оттого, что она больше, чем у других? Тем хуже для тебя, тем очевиднее, что ты глупец! Мания величия, мой дорогой! Банальная германская мания величия, которой страдают школьники! С той только разницей, что другие, не столь нескромные и взбалмошные, избавляются от мальчишеских мечтаний вместе с выпускными экзаменами. Виктор, говорю тебе, твоя так называемая «профессия» вместе с воображаемым будущим величием — тщеславное желание и вздор; напротив, драгоценный подарок, который предлагается тебе сегодня по милости судьбы, — это надежное, истинное блаженство. Смешон ты будешь, всю жизнь будешь страшно раскаиваться, если ради обманчивого блуждающего огонька тщеславия лишишься своей любви, счастья своей жизни. Ты не заслужишь даже сожаления, когда подохнешь, как собака, и вместо ожидаемой хвалы над твоей могилой появится предостерегающая надпись: «Здесь лопнул мыльный пузырь».
Тогда-то впервые в своей жизни я узнал, что такое сомнение. «Ты же знаешь, о сердце, что свое призвание, свою веру, свою уверенность в себе я черпаю не из себя, а из...» «А из чего же? — насмешливо заметило сердце. — Что же ты замолчал? Стесняешься своего разума, боишься признаться в своей глупости? Потому что в глубине души, даже не признаваясь себе в этом, ты чувствуешь, что поклоняешься идолу, созданному ребяческим воображением, молишься не настоящему, признанному Богу, сотворившему мир, а пустому, тобой же выдуманному призраку, сотканному из воздуха и света отражению собственной души, которое ты с помощью ловких измышлений поставил вне себя в дурацкой надежде возвыситься над собой подобно барону Мюнхгаузену, который вытащил себя из болота за собственные волосы. Ты даже не решаешься, не покраснев, произнести вслух имя своего идола. Кто она такая, «Повелительница твоей жизни», «Строгая госпожа», которой ты служишь с фанатической преданностью, как пророк своему Богу? Я скажу тебе, кто твоя «Строгая госпожа»! Каждый студент знает ее, каждый бумагомаратель, каждый горластый рифмоплет, каждый сочинитель слащавых романов. Это муза, старая пошлая тетка-аллегория, крестная мать безжизненности, покровительница бездарей. И ты, дурень, хочешь принести меня в жертву такому затасканному, подобранному на улице понятию? Хочешь променять меня, мое блаженство на это школьное старье? С чего ты бесишься, с чего возмущаешься? Что я называю твою «Строгую госпожу» музой?.. Если бы она была ею! Но она даже не муза! Муза учит гимназиста слепить кое-как пару стихов. Ты же и этого не можешь! Что же ты можешь, тридцатилетний ребенок? Ничего, не можешь даже правильно написать на бумаге предложение! Ты был, есть и останешься ничтожеством; так же, как и другие, только еще ничтожнее. Другие довольствуются тем, что есть, и в награду за это могут быть счастливы. Удовольствуйся и ты, и тоже обретешь счастье!»
В горести я бежал к ней, Повелительнице моей жизни, Строгой госпоже: «Гляди, мое сердце искушает меня, слабое дитя человеческое; грозит мне раскаянием, отрицает твое священное происхождение, обзывает тебя банальной музой. А посему слушай: я, безропотно отдавший тебе на расправу все сомнения своего сердца, прошу у тебя сегодня, перед тем как принести последнюю, самую тяжелую жертву, дать мне знак, что ты не обманчивый призрак, поручиться, что есть в тебе силы, способные привести меня к цели. Поручись, дай знак, и я повинуюсь. А не дашь, тогда не требуй от слабого человека, чтобы он свое блаженство и счастье обменял на ничем не подтвержденное нашептывание.
— Я не даю ни ручательств, ни знаков, — пришел строгий ответ. — Если хочешь служить мне, служи слепо до конца!
— Тогда, по крайней мере, отдай мне ясный приказ. Прикажи отречься, и я отрекусь. Только прикажи ясно избавь меня от сомнений.
— Я не отдаю приказаний, — последовал строгий ответ.
— Сомнения останутся с тобой, и выбор делать тебе! Правильный выбор на перекрестке судьбы — свидетельство величия; но взвесь все как следует, ибо, сделав неверный выбор, ты заслужишь мое проклятие!
С одной стороны, раскаяние, с другой — проклятие! Печально взирало мое сомнение на стрелку скверных весов. В глубине моей испуганной души что-то зашевелилось, и сквозь горести настоящего проросло воспоминание о торжественном часе, когда я впервые услышал легкий шепот Строгой госпожи и узрел полные высокого смысла образы ее неземной легенды: призыв к недужной твари аки лев выбраться через ущелья из земной юдоли, наводя страх на ангелов и выгоняя творца из гордых палат его блистательного дворца... ну, и все остальное, что приключилось в небесном царстве со львом. Я снова узрел этот час, и страстная тоска укрепила мою веру. «Да будет так! Прими же и эту последнюю, величайшую жертву. Я нищ на этой земле, у меня нет ничего, кроме тебя и обещания, нашептываемого твоим дыханием». Так воскликнул я и призвал всю свою волю для окончательного отказа.
И тогда мое сердце предприняло последнюю отчаянную атаку. «А как же та, что надеется на тебя и ждет? Ты и ее хочешь принести в жертву? Разрешит ли, допустит ли это твоя человечность? Позволит ли твоя совесть?» Я снова малодушно расслабился. Но сердце ретиво продолжало: «Что она почувствует? Что подумает о тебе? Каков будет ее приговор, если ты пренебрежешь ею? Она сочтет тебя нерешительным, слабовольным человеком и к тому же обыкновенным глупцом, неспособным оценить ее достоинства. Вот что она будет думать о тебе, и, думая так, тебя презирать».
Невыносимая для меня мысль! Жертву я мог принести, но вынести постыдные кривотолки по поводу этой жертвы, принять на себя ее презрение был не в состоянии. Я не находил выхода из положения, спасительная мысль не приходила в мою усталую голову.
И тут мне было видение. Она сама предстала передо мной, Тевда, ее душа. Такой же, какой она явилась мне тогда в часы «второго пришествия», но более зрелой и серьезной, с задумчивым, как на новой фотографии, взглядом. Она выступила из мрака столовой, оттуда, где ворковали горлицы, остановилась на пороге и с укором взглянула на меня печальными глазами. «Почему ты недооцениваешь меня?» — спросила она.
— Я! Недооцениваю тебя? — вскричал я. — О, если бы ты знала!
— И все же ты недооцениваешь меня, — сказала она. — Полагая, будто я настолько мелочна, что способна быть препятствием между тобой и твоим возвышенным призванием. Не думаешь же ты, что только ты один способен на возвышенные чувства? Что только ты столь благороден, что можешь принести в жертву свое сердце? Ты думаешь, я не чувствую так же, как и ты, дыхание твоей Строгой госпожи? Что я не в состоянии отдать должное гордому отличию — быть возвышенной до символа? Не понимаю и не чувствую, что бесконечно почетнее и радостнее быть твоей верной спутницей на крутых горных тропах славы, чем заботливой супругой и матерью твоих детей? Давай вместе положим наши сердечные желания к ногам Строгой госпожи, заключив перед ее лицом союз более благородный, нежели союз полов пред алтарем людей, — союз красоты и величия! Я буду твоей верой, твоей любовью и твоим утешением, ты же будешь моей гордостью и славой, которая преобразит меня, жалкое и бренное существо, в символ, дарует мне бессмертие. — Так говорила она, и, полный ликующей благодарности, приветствовал я благородство ее величия.
Как мы решили, так и поступили. Мы сложили наши сердечные желания к нашим ногам, затем я снял с ее головы венец, а она с моего пальца — обручальное кольцо, и это мы тоже сложили к ногам. И когда мы стояли вот так, опустошенные и нищие, словно два дерева с облетевшими листьями, не имея иных украшений, кроме наших возвышенных душ, я воскликнул:
— Повелительница моей жизни, Строгая госпожа, это свершилось! Жертва, которую ты требовала, принесена.
Я ощутил ее дыхание, и перед священным трепетом ее тени возлюбленная моя опустилась на колени и робко спрятала свое лицо в моих ладонях.
— Благо тебе, — начала Строгая госпожа, — о верный мой предводитель, ты принял правильное решение; прими в награду мое благословение. Вот оно: отныне ты отмечен пафосом и величием; отличен от всех тех, кто влачит свои дни без черной печати моего призвания. Я повелеваю тебе иметь чувство собственного достоинства, которое не оставит тебя ни в заблуждениях и сумасбродствах, ни в позоре и презрении, и я запрещаю тебе быть несчастным. Ибо не себя, а меня отныне будешь ты чувствовать в себе; следовательно, ты оскорбишь меня, если в тебе не останется чувства высокомерия... Но кто это стоит на коленях рядом с тобой?
Я ответил:
— Это моя благородная подруга, твоя верная служанка, которая, как и я, принесла в жертву желания своего сердца. Прими ее, как ты приняла меня.
— Встань, — приказала моей подруге Строгая госпожа, — и покажи мне свое лицо! Лицо твое прекрасно и правдиво, я принимаю тебя, ты будешь мне не служанкой, а сестрой. Наклони голову, дочь моя, я окрещу тебя!
Моя подруга склонила голову, и повелительница дала ей имя Имаго1
— А теперь, — заключила Строгая госпожа, — протяните друг другу руки, и я благословлю ваш союз. — Мы протянули руки, и она произнесла: «Во имя духа, который выше природы, во имя вечности, которая священнее преходящего человеческого закона, я объявляю вас женихом и невестой, неразрывно связанными на всю жизнь счастьем и невзгодами; пусть ваши души живут в нескончаемом брачном единении. Будь ее славой и ее великолепием, а она пусть будет твоим блаженством и твоей усладой». С этими словами Строгая госпожа исчезла, и мы снова остались вдвоем.
— Тяжело далась тебе жертва? — улыбнулась Имаго.
«О, венец моей жизни, — ликующе воскликнул я, — о,
расточительство милости!»
На этом Имаго со мной рассталась. «Ты устал, — сказала она на прощание, — а мне предстоит долгая дорога; но завтра я вернусь, и мы будем каждый день вместе в вечном брачном единении».
Расставание было возвышенным и блаженным. Но долго еще я, прислушиваясь к отзвуку случившегося, сидел у темного письменного стола; в голове у меня шумело, как шумит, волнуясь, океан, вокруг меня раздавалось пение, как бывает после богослужения.
А на следующее утро и в самом деле началась, как и было обещано, наша совместная жизнь. Свадьба-полет, ликующий дуэт, в унисон исполняемый голосами победителей. Но ее голос звучал выше, чем мой, и я чаще умолкал, чтобы прислушаться к ее пению. Когда вместе с ней я взмывал над земными холмами к царству моей Строгой госпожи, которое чище царства действительности, но реальнее царства грез, ибо действительность относится к нему, как животное к человеку, а греза — как запах к цветку, и которое простирается до сфер памяти и смутных предчувствий, Имаго возликовала: «О мой возлюбленный, в какие новые бескрайние миры вводишь ты меня? Они неведомы моему изумленному взгляду, но мое счастливое сердце называет их «родиной». — И добрые обитатели этого царства, приветливее, чем земные жители, по-братски приглашали нас в свои долины.
Когда после трудной работы, во время которой Имаго ничем не выдавала своего присутствия, я иногда решал отдохнуть и со вздохом поднимал глаза, мой взгляд встречался с ее благоговейным взором. «Как я горда и счастлива, зная, что меня любит такой человек». Когда после трудов праведных я спускался вместе с ней отдохнуть в царство внешней жизни, шутил с ней, как с земной женщиной, называл ее дурашливыми ласкательными именами, за едой ставил перед ней тарелку и прибор, как будто она во плоти сидела передо мной, Имаго довольно улыбалась: «Какие же мы дети! Каким образом удается тебе это чудо, что я смеюсь так весело, как никогда до этого не смеялась?»
От этого я становился щедрее и приветливее, и люди удивленно говорили мне: «Ты изменился в лучшую сторону; это приятно». Я был как дерево на просторной солнечной лужайке, которое раскинуло свою крону во все стороны и на котором вызревают все плоды.
И это нескончаемое блаженство, блаженство вне времени и пространства, тянулось до того дня, когда в наше упоение ворвалось, как свинья в квартиру, предательство.
Отпечатанное объявление о помолвке с чужим человеком; и ни дружеского слова, ни намека на память о прошлом; один только голый факт. Ничего, кроме бессловесной наглости!
С презрением отбросил я листок в угол. Я не чувствовал ни малейшей боли, было только возмущение предательством, смешанное с печалью по поводу внезапно обнаружившейся мелочности. Как если бы перед тобой, в упоении играющим великолепную фортепьянную пьесу, вдруг вместо нот оказалась жаба. Значит, возможно такое, когда женщина, которой судьба благосклонно позволила вдыхать в роли сердечной подруги избранного воздух вечности, предпочитает броситься с первым встречным в болото семейных забот. Ошеломленный, дивился я странному проявлению мелочности — с таким же чувством я однажды в детстве разглядывал рака. «Как можно быть раком!» — воскликнул я тогда. Сегодня я восклицаю: «Как может кто-то отречься от величия!»
И из-за ее позорной измены я лишусь теперь своего волшебного блаженства? Вдруг я громко рассмеялся. Ну уж дудки! Ты всего лишь сочинил все это — судьбоносный час помолвки, высоту и величие ее духа, благородство души, ее любовь, ее дружбу. Имаго живет только в тебе самом; земная, телесная Тевда совсем не такая, это чужая безымянная женщина, и к тому же ничего собой не представляющая птичка, сотни таких чирикают в каждом городе. Я поднял с пола бесстыдное объявление и понюхал его. Никаких сомнений, оно пахло заурядностью. Как и все другие, она просто решила выйти замуж (должно быть, после несчастной любви — ведь путь к алтарю у большинства женщин ведет через разбитое сердце), окруженная роем надоевших поклонников она видит во мне, незнакомце, избавителя, находит, что я вполне приемлем для нее, не получает меня, что ж, тем хуже, она выходит, не долго думая, за другого. Так обычно бывает, так случилось и с ней, обыкновенной женщиной. Прочь от нее! Девушка без имени, тебя для меня больше не существует! В доказательство этого смотри, что я с тобой сделаю. Вот что я сделаю с тобой! Разорвав объявление, я бросил клочки в корзину для бумаг. А теперь поступим так же и с твоей лживой личиной. Я взял снимок, чтобы разорвать его на кусочки. Но на прощание мне захотелось еще раз разглядеть его. Значит, эти умные печальные глаза лгут; и все благородство этой весенней красоты всего лишь приманка молодости! И тогда снимок вдруг горько зарыдал. «Нет, я не лгу, — жалобно говорил он, — ибо тогда, когда этот снимок запечатлел меня, душа моя и впрямь жаждала величия; эти глаза, что смотрят на тебя, когда-то отыскивали тебя, к тебе стремились мои желания, с тобой была моя надежда. Тебя предала другая женщина, появившаяся позже, с ее делами я не имею ничего общего. Но не из низких побуждений, а из тщеславия, по слабости и мелочности. И кто знает, быть может, позже настанет час, когда она одумается, опомнится, устыдится своей измены и вернется к тебе, сняв грех с моего лица, чтобы оно, заклейменное красотой, не смотрело на мир порочными глазами, словно падший ангел».
Тогда я сжалился над снимком и благоговейно поднял его, точно портрет усопшей. Другую же, новую, неверную, я лишил милого имени Тевды и отныне стал звать ее Псевдой, то есть двуличной.
Вечером, когда я по обыкновению выехал на прогулку (само собой разумеется, на настоящей, живой лошади), я услышал, что позади меня кто-то едет. Я знал, кто это, ибо ждал ее.
— Имаго, — позвал я ее, — почему ты едешь позади меня? Почему не едешь рядом?
— Потому что теперь я недостойна тебя, — ответила она, — потому что похожа лицом на неверную.
— Имаго, невеста моя, — сказал я, — не ты похожа на нее, а она по ошибке походит на тебя. А потому будь рядом со мной, твое лицо для меня благословенно!
Она подъехала ко мне, но спрятала лицо в ладонях. Я мягко отвел ее руки от лица.
— Как ты прекрасна, величава и великодушна! Смотри мне прямо в глаза и не думай о твоем недостойном прообразе, как я не думаю о нем.
Она взглянула мне прямо в глаза, поблагодарив меня взглядом, и мы снова запели вместе, как раньше. Голос ее звучал лучше прежнего; но в нем появились печальные нотки — так жалуются на судьбу без вины виноватые; от ее песни хотелось заплакать. Внезапно она оборвала песню на полуслове, гортанно вскрикнула, сжала губы, подобно умирающему ангелу, и зашаталась в седле.
Горе мне, — запричитала она, — кто-то грубо толкнул меня, мне стало плохо, мой голос больше не подчиняется мне. Отступись от меня, Виктор, найди себе новую Имаго, здоровую, сильную и с незапятнанным лицом, чтобы она могла ликовать и петь с тобой, тебе в усладу и заслуженную награду.
— Имаго, невеста моя суженая, — воскликнул я, — разве отступаются от подруги из-за того, что она заболела? Я заключил союз с тобой перед лицом моей Строгой госпожи, а потому твое лицо для меня — воплощение благородства и возвышенности. Внемли же, что я тебе скажу: оттого что ты больна и печальна, моя любовь к тебе стала во много крат больше, чем тогда, когда ты радостно и блаженно ликовала рядом со мной.
— Горе тебе, Виктор, если ты не отступишься от меня! — сказала она. — Ибо не принесу я тебе ничего, кроме кручины.
— Принеси же мне горе и кручину, — ответил я. — Но от тебя я не отступлюсь.
И я возобновил союз с больной Имаго; и все было, как раньше, только голос ее умолк и в глазах затаилась боль...
Так все и шло вплоть до сегодняшнего дня. Она моя невеста, и я не отступлюсь от нее, она мне дороже всех сокровищ мира, даже онемевшая и больная... Гей! Мужество, упорство и свобода! Мне принадлежит Строгая госпожа, мне принадлежит Имаго; первая нужна мне для творчества, вторая — для нежной любви; все остальное — вздор. Земные женщины забавляют меня; они как глоток воды в пути: выпил, поблагодарил и забыл. Я знаю кое-кого из них, блондинок и брюнеток. Как аппетитны блондинки, как сладострастны брюнетки! Но их имен я не различаю. Одно-единственное имя осталось в моей памяти: Псевда, мелкая изменщица, повергнувшая в печаль Тевду, обидевшая Имаго. Месть ниже моего достоинства! Одного лишь возмездия жажду я от нее: еще один только раз увидеть ее, чтобы узнать, как неверная чувствует себя, чтобы заставить ее опустить передо мной глаза. Я имею на это полное право, она заслужила наказание. Довольно об этом; да пойдет ей впрок мещанское болото, благослови Господь ее брак.
Ну вот я все сказал, и на этом кончаю.
Преданный вам
Виктор.
Эту исповедь он той же ночью собственноручно опустил в почтовый ящик. И уже на следующее утро спешной почтой получил ответ:
Высокочтимый друг! Вашу исповедь, присылку которой я рассматриваю как знак особого ко мне доверия, я прочитала с надлежащим благоговейным вниманием. Но прежде чем я перейду к ее содержанию, позвольте сначала устранить то, что меня смущает; у меня язык чешется высказать вам кое-что; не может же такого быть, чтобы вы всерьез верили, будто обязали к чему-то женщину благодаря процедуре, о которой она ничего не знала и знать не могла; процедуре, которая всего лишь плод вашей фантазии. Одним словом, обязали благодаря пригрезившейся вам помолвке. Такого не может быть, вы не могли это сделать, ибо это и неразумно, и несправедливо. Дорогой друг, госпожа Вюсс не заслужила отвратительного имени Псевда, ибо если и есть на земле искренняя и правдивая женщина, то эта женщина — она. Вы требуете от нее величия? Не знаю, способны ли женщины вообще на величие — нам свойственны другие качества, — но даже если допустить, что они на него способны, разве можно от них величия требовать? Превратись величие в обязанность, и человечество будет заслуживать сожаления. Госпожа Вюсс, как и любая другая женщина, не исключая меня, призвана быть верной супругой порядочного человека, и это свое призвание она исполняет наилучшим образом, себе в успокоение, своим близким на счастье, другим в назидание. Во всем городе я не знаю более благородной, верной, самоотверженной женщины и лучшей матери. Повторяю еще раз: я и мысли не допускаю, чтобы она перед кем бы то ни было опускала глаза. Она не обязана этого делать и, кстати сказать, не будет этого делать, можете не сомневаться. Допускаю, что какая-то другая женщина могла бы вместе с вами почувствовать магическое действие «второго пришествия», — правда, эта женщина должна была бы обладать редкостными качествами и любить вас всеми фибрами своей души. Но госпожа Вюсс не почувствовала этого «пришествия» и вовсе не должна была его чувствовать. Предпослав своему письму это замечание, я снова возвращаюсь к началу.
Да, вашу исповедь я прочитала с благоговением; я была тронута и смущена, испугана и исполнена возвышенных чувств. Я не обладаю ни соответствующим даром здравого смысла, ни должной мерой безрассудства, чтобы приходить в возбуждение от чудовищной смеси фантазии и реальности. И все же! Что такое — «Тевда», «Псевда», «Имаго», три личности с одним лицом? Одна не существует, другая умерла, третьей нет в наличии, и та, что не существует, больна! Попробуй разберись! У меня просто дух захватывает, не пойму только, от страха или от благоговения. Вы — простите, я знаю, вы ненавидите это имя, но не называть же мне вас рабби, — вы поэт, хотя и не любите, чтобы вас так называли, вам больше по душе быть ясновидящим пророком. Вашу Песнь Песней об Имаго я читала с радостным изумлением, так внимают великому поэтическому творению; в глубине души я убеждена, что демон, которым вы одержимы, называйте его, как хотите, «Имаго», «Строгая госпожа» или еще как-нибудь (он наверняка должен быть близким родственником гения), имеет священное происхождение. Ибо в одном я твердо убеждена: то, чему вы, человек взрослый, умный и смышленый, принесли в жертву свою любовь, не может быть фантомом. Короче, я верю в вашу «Строгую госпожу» и в вас, мой дорогой друг, в ваше призвание, в ваше будущее величие, на которое я до сих пор только надеялась и о котором смутно догадывалась. Настолько верю, что ваша повесть, словно бессмертное произведение искусства, наполнила бы мою душу чистейшей радостью, если бы я не была подругой госпожи Вюсс, если бы мое сердечное участие в ней не принуждало меня думать о вашем благополучии или неблагополучии. Но меня охватывает ужас при мысли о страданиях, которые принесет вам столкновение вашего прекрасного мира грез (простите женщине это банальное выражение) с грубой действительностью (к сожалению, мне не приходит в голову другое выражение); одно только удивляет меня — что это ужасное столкновение до сих пор не произошло. Должно быть, вы жили на чужбине среди людей редкостных, с чрезвычайно тонкой душевной организацией, раз вам удалось без помех и безнаказанно погрузиться в вымышленный мир, тем более в толчее большого города! Я вряд ли ошибусь, предположив, что тут замешана необыкновенная женщина благородного образа мыслей, которая заботливо следила за вашим развитием. Я бы ни за что не поверила, что среди людей вообще возможно столь длительное вымышленное счастье, если бы ваша исповедь не доказала мне это.
Я поражаюсь вашей силе воли и той уверенности, с какой вы под водительством «Строгой госпожи» находите свой путь в до крайности запутанных жизненных дебрях; и все же, простите, тут есть одно недоразумение. Вы здесь, и вас вроде бы здесь нет. (Не правда ли, вы правильно меня поняли? Я думаю при этом не о себе, а о вас.) Позвольте мне не поверить обманчивым причудам вашего сердца: вы просто хотите снова увидеть госпожу Вюсс. А почему вы этого хотите? Потому что не можете ее забыть. Об этом можно только пожалеть; я бы пожелала вам забыть ее. Ибо всматривание в то, что потерял окончательно — вы видите, я подчеркнула слово «окончательно», — приносит только бесполезную резь в глазах. Но не дело женщины упрекать вас за это; ибо сердцу ведь не прикажешь, кому лучше нас знать об этом? Но я все же хочу вас предостеречь: тщетные надежды повлекут за собой глубокие разочарования. Примете ли вы это доброжелательное предостережение старой подруги?.. Пользы вам от него не будет, и все же я хочу его сделать, так как не смогу себе простить, если не сделаю этого: не встречайтесь с ней больше; как можно скорее оставьте эту опасную почву, продолжайте ваш восхитительный дуэт с Имаго, но только вдали отсюда. Имаго со временем выздоровеет и снова обретет голос, в этом я совершенно уверена. Напротив, здесь вы не найдете ничего, кроме душевной смуты. Запомните хорошенько, что я скажу, я, хорошо знающая госпожу Вюсс — в известном смысле она была моей ученицей (хотя и непродолжительное время) и довольно долго дарила меня своим доверием, — так вот, запомните хорошенько, что я вам скажу: все уголки ее сердца заняты. Вы ведь ищете у нее не любви, правда? Для этого вы слишком порядочны; дружбы ее вы тоже не добьетесь, ибо для простой дружбы (встречи на концертах, домашние приемы) вы появились слишком поздно, а для возвышенной душевной близости, которую вы и имеете в виду, — слишком рано. Для этого она слишком юна, слишком наивна, слишком счастлива. И не полагайтесь на ее духовные качества! Она человек совсем другого склада. Кто не ощущал благоухания «второго пришествия», тот не почувствует ни легкого дыхания «Строгой госпожи», ни бега льва, штурмующего небеса. Я говорю это, не принижая достоинства той дамы, я и впрямь довольно высоко ценю ее, так как полагала, что она призвана быть вашей супругой. Но считая, что она достойна быть вашей женой, я отнюдь не думаю, что она способна быть вашей подругой, ибо это совершенно разные вещи. Итак, еще раз: оставьте эту опасную почву, так как мне кажется, что вы готовы наделать много глупостей; в тягость другим и себе на горькое разочарование.
Ну вот, я излила наконец свою душу. А теперь делайте что хотите, или, точнее, что должны делать; судьба знает, куда вас вести. Я слабая женщина и могу высказать вам на прощание только одно искреннее пожелание: не идите ради высокой цели, которой вы наверняка добьетесь, на слишком большие жертвы. Надеюсь вас больше не увидеть. Передавайте от меня привет вашей замечательной Имаго.
Преданная вам в дружбе и почитании
Марта Штайнбах
Постскриптум. И смотрите, как бы земные женщины не «позабавились» вами!
— Пользы не будет? — повторил Виктор, прочитав письмо. — Почему же не будет? Человек тем и отличается от животного, что принимает умный совет. Дорогая моя подруга, вы совершенно правы. Что я здесь делаю? Какое мне дело до этой испорченной замужней дамочки? Хватит! Решено окончательно: я буду ее избегать, я уеду отсюда. Разумеется, как только нанесу визиты своим старым друзьям и школьным товарищам. Да, я буду избегать ее, но пугливо убегать от нее, как набожный юноша от искушения, нет уж, не стану; для этого у меня и впрямь нет оснований. Если же представится случай и я без всяких усилий, со своей стороны, встречусь с ней — тем хуже для нее.
Но в самой глубине его души теплилось крохотное, съежившееся желаньице, чтобы такой случай все же представился.
ГОРЬКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
И ловко же они поустраивались на государственной службе, его старые школьные товарищи! Один профессор, другой капитан Генерального штаба, третий фабрикант газовых труб, четвертый кантональный лесничий, и так далее; помимо того, многие из них женились и живут-поживают в свое удовольствие; все без исключения полезные члены общества, все пользуются уважением. А он в свои тридцать четыре года! Ни профессии, ни положения в обществе, ни имени, ни своего дома, ни заслуг и произведений, ничего. А какие ужасные муки он испытывает, когда они напоминают ему о прежних богатствах — его врожденных талантах! «Ты еще можешь так же чудесно рисовать, как когда-то?» «А что поделывает твоя музыка?» Ах, бедные мои дарования! Они увяли, захирели на службе у Строгой госпожи! И ради чего? Ради векселя на будущее. Снова и снова будущее, никогда настоящее! Пора бы ему и наступить, этому будущему, в тридцать четыре-то года!
— Ты помнишь еще, Виктор, нашего доброго Фрицли, учителя немецкого языка? — спросил Виталь, лейтенант полиции. — Теперь о нем пишут много всякого, из-за его книг. Ах, Господи, бедняге уже ничем не поможешь, такому старому и больному!
Виктор все еще хранил в душе признательность Фрицли за то, что тот на учительском собрании спас его от исключения — «за плохое поведение», то есть за строптивый характер. Сердце подсказывало ему, что учителя надо проведать.
Он нашел его, жалкое, стонущее, скрюченное болезнью существо, лежащим в постели. Больной с трудом повернул голову к посетителю, окинул его равнодушным, страдальческим взглядом. Но постепенно он стал пристально всматриваться в Виктора, изучая его лицо; без враждебности, внимательно и удивленно, как естествоиспытатель, разглядывающий редкую гусеницу. Когда Виктор выражал ему свою признательность — запинаясь, так как был никудышным оратором, — Фрицли его не слушал, а продолжал вглядываться в его лицо.
— Так это вы! — печально произнес он. — Не знаю, пожелать вам удачи или пожалеть вас? Как, говорите, ваше имя? Надо научиться его выговаривать... — И он, повысив голос и четко выговаривая слова, одарил Виктора загадочным изречением: — Не старики, они в это не верят; не современники, они этого терпеть не могут; не женщины, они гонятся за успехом; а единственно группа избранных из грядущего поколения. А теперь уходите, друг мой, вам не место у бренного тела уродливого старика, вам бы справиться с собственными бедами; да сопутствует вам удача. Спасибо, что навестили меня, это было мне большим утешением; я ведь сказал вам: только группа избранных из грядущего поколения. А сейчас уходите, оставьте меня, прошу вас.
Когда Виктор хотел зайти к нему еще раз, его не пустили.
До сих пор ему ни разу не встретилась Псевда, осталось нанести всего только один визит: госпоже Келлер, жене кантонального советника. После этого можно и уезжать, скажем, в понедельник, ну, самое позднее, во вторник. Дважды уже являлся он к ней с визитом, но не заставал дома; сегодня он предпринял третью попытку — и снова неудача. Кажется, не судьба. Что ж, тогда еду в понедельник. Но тут от нее пришла записка: в следующую среду, после обеда, его приглашали на чай. «В среду после обеда у меня собирается «Идеалия», вы встретите у нас несколько интересных людей, возможно, будет даже музыка». Даже музыка, — повторил он, — музыка как венец развлечений! Интересные люди, «Идеалия»! В программе не было ничего привлекательного, к тому же самое позднее во вторник он собирался уехать. Но ему не хотелось отказывать уважаемой даме, которой он был многим обязан. «Быть по-вашему! В конце концов, что я теряю?» И он согласился, правда, без особой охоты.
Советница приняла его с прежней сердечностью, но была слегка тороплива и рассеянна.
— Мы ждем Курта, — сияя счастьем, объявила она вполголоса, словно выдавая ему секрет.
— Курта? Где-то я уже слышал это имя.
— Быть не может, — горячо заговорила она, — чтобы вы не знали Курта! Впрочем, это простительно для того, кто только что приехал из-за границы. — И она начала превозносить Курта, как это умеют делать женщины, подчиняющиеся голосу сердца. Он-де наделен всевозможными добродетелями и талантами. Одним словом, гений! Да еще какой! И при этом отличается поистине трогательной скромностью... А какая изысканность! Он сама любезность!.. — Ну и тому подобное.
Виктор улыбнулся. Она все такая же, госпожа советница, все тот же восторг в голосе, когда она говорит о понравившемся ей человеке. Он понял, что ему здесь отводится роль одного из восторженных почитателей Курта, это его слегка расстроило, он едва не пожалел, что пришел.
Совсем другим тоном, как оперная певица, переходящая на речитатив, она снисходительно добавила:
— Его сестра тоже здесь; мне кажется, вы ее уже когда-то встречали, это госпожа Вюсс.
А, наконец-то! Глубоко вздохнув, он приготовился к мщению. «Только не перепутать! Отличать одну от другой, наказать не Имаго, не Тевду, а только Псевду, предательницу! И не стучи так громко, ты там, в груди!» Собравшись с духом, он вошел.
Верно, так и есть! Там сидела она, двуличная, склонившись над нотной тетрадью, в сиянии украденной красоты, красоты Тевды, овеянная поэзией преданных ею воспоминаний. Но как же она похожа на Имаго! Просто до невозможности. При виде ее кровь его заметалась в жилах, в ушах шумело и звенело так, словно с ночного столика свалился и затарабанил будильник. «Все добрые духи, придите ко мне на помощь», — испуганно молился он. Но где же, о горе, где они? Никто не пришел на помощь.
Он кое-как перенес процедуру представления, приветствия и поклоны. Как-то она поздоровается с ним? Смотри, вот она скользнула по нему взглядом! Равнодушным, словно по постороннему. Из вежливости приподнялась чуть-чуть и снова спокойно воткнулась в свои ноты.
— И это все? — спросил он, оцепенев.
Нет, это было не все. Рядом с ней стояла чашка со взбитыми сливками; она поглядывала на нее с нежностью, несколько раз оглянулась, убеждаясь, что никто за ней не наблюдает, и стыдливо позволила себе откушать пол-ложечки; наконец, осмелев, съела две или три полных ложки.
Вот так прием! Оказанный ею ему! Стыд и срам! Он гневно сверлил ее лицо осуждающим взглядом, пока рассудок не одернул его: «Послушай, Виктор, не воображай, что она замечает, как ты напускаешь на себя возвышенный вид». Он успокоился и уставился на нее бессмысленным взглядом, растерянный, словно больной на операционном столе в ожидании того, что врач возьмет в руки — ножницы или скальпель.
Пока он сидел как в дурмане, до него против воли долетал шум разговоров, бессвязные обрывки фраз: «Протестантские сельские дороги в лучшем состоянии, чем католические»... «В третьем акте герой становится без вины виноватым»... «Курт тоже там был?» «Гений всегда пробьет себе дорогу»... «У Курта был удачный день?»
А что сейчас изречет она? Как тогда, с задушевными нотками ласкового голоса? Долгое время он ждал напрасно. Но тише, тише! Вот она прислушивается к разговору. Она хмурит брови, ее черные глаза сверкают, она открывает рот. «Да что вы! — восклицает она. — Все вежливые люди в той или иной мере двуличны!»
Это прозвучало столь неожиданно, что он звонко рассмеялся.
Она медленно повернула голову в его сторону и искоса взглянула на него. «А что до тебя, — говорил ее взгляд, — то с тобой все кончено!» И, отворачивая от него голову, она мысленно послала ему еще несколько фраз, которые он понял быстрее, чем ему хотелось бы. «Что вы хотите от меня? Почему вы взираете на меня с такой миной, будто хотите напомнить о чем-то очень важном и существенном? Если вас волнуют воспоминания о прошлом, тем хуже для вас; пеняйте на себя, а меня оставьте, пожалуйста, в покое, а не то смотрите! Сегодня имеет цену настоящее, завтра будет иметь будущее; мой муж и мое дитя для меня все, вы же — ничто».
Это были не ножницы и не скальпель, это была ужасная пила. Боль и гнев принялись вместе расшатывать его с таким трудом сохраняемое самообладание. «Как она смеет? Вместе с дурацкими привесками ее никому не нужного брака — мужем, ребенком и прочей домашней утварью — она хочет изгладить из памяти бессмертную картину «второго пришествия»?!
И снова в его ушах зазвучали обрывки разговоров. Слева: «Вы в самом деле думаете, что Курт еще придет?» — «Уже четыре часа! Все, он опять не придет!» — «А я утверждаю: придет». Справа: «Льстивые придворные». «Безотрадная семейная жизнь в больших городах». «Бездуховные развлечения так называемого высшего света». «Чопорные, смехотворные церемонии во дворцах вельмож». Ему казалось, что и за десять лет он не услышал столько банальностей, сколько услышал за эту четверть часа. К его смущению все больше и больше добавлялась досада. Почему никто не заботится о нем? Сколько еще он будет в одиночестве сидеть на стуле, как Робинзон на своем острове?
Внезапно все собрание охватило радостное возбуждение, сопровождаемое шепотом и подавленными криками восхищения, как при приближении торжественного шествия. Когда он равнодушно — ибо что значило для него окружение? — обернулся, чтобы узнать причину внезапной радости, в комнату вбежал, не поздоровавшись и не представившись, мужчина; пробегая мимо Виктора, он задел его рукавом, не извинился, тут же сел за рояль и раскрыл ноты. Неужели же он будет?.. Да, Боже правый, он начал петь, хотя его не просили об этом и не давали разрешения, словно какой-нибудь пьянчуга в трактире. Раз — и Виктор уже около него, захлопывает нотную тетрадь и бросает ее ему на колени, после чего непрошеный гость молча выскочил из комнаты. Все произошло так быстро, как если бы летучая мышь влетела в окно и тут же вылетела обратно.
— Что это за тип? — весело спросил Виктор, обращаясь к советнице в надежде, что заслужил за свои быстрые действия ее благодарность.
Но гляди-ка: повсюду замешательство и возмущение, на всех лицах оцепенение. «Никакой это не тип», — прошипела Псевда с покрасневшим от гнева лицом, сердито сверкнув глазами. А кантональная советница со слезами на глазах упрекнула его свистящим шепотом:
— Это же был ее брат, Курт!
С насмешливой почтительностью Виктор склонился перед Псевдой:
— Сударыня, примите мои искренние и глубокие сожаления!
— Сожаления неуместны! — властно отрезала она. — Я горжусь и буду гордиться своим братом!
Она молча покинула комнату, и вслед за ней все стали расходиться.
— Ах, мой чудесный музыкальный вечер! — с безутешным видом причитала кантональная советница. Когда Виктор принялся усиленно извиняться перед ней, уверяя, что никак не мог предположить в этом невоспитанном человеке, который ворвался в собрание без приветствия и представления, расталкивая локтями гостей...
— Дались вам эти церемонии! — горько прервала его советница. — Он же оригинал, гений!
Она отошла от него с расстроенным видом.
— Виктор, Виктор, — похлопал его по плечу, смеясь, лесничий Леман, школьный товарищ. — Ты совершил большую ошибку.
— Извини, дорогой друг, это была не ошибка, я наказал ее.
— Называй это как хочешь, но отношения с госпожой Вюсс ты испортил навсегда.
— Это мы еще посмотрим! — бесстрашно возразил Виктор.
На улице у него было такое ощущение, словно он побывал на каком-то дурацком представлении. Так, значит, это и был хваленый Курт! «Утонченный, любезный, скромный!» Неужели слова родного языка означают не одно и то же в разных местах? Этот тип — гений?! Один из десятков тысяч доморощенных гениев, такие есть в каждой семье, превозносимые до небес родными сестрицами, увенчанные изнывающими от тоски тетушками... И вообще, в какую дыру я попал! А разговоры, разговоры! Избитые общие фразы, в другом месте их постеснялись бы произнести вслух; уродливые суждения, которые следовало бы заспиртовать, чтобы не протухли. «Чопорные, смехотворные церемонии во дворцах вельмож!» Они, верно, полагают, что во «дворцах вельмож» царит такая же атмосфера, как на выставке племенных быков. «Льстивые придворные!» Каким они представляют себе придворного? Вероятно, в образе заклейменного властями интригана, который с утра до вечера ошивается вокруг трона, как сценический злодей вокруг суфлерской будки. «Безрадостная семейная жизнь в больших городах!» Надо полагать, потому безрадостная, что там не порют своих детей! «Бездуховные развлечения так называемого высшего света!» Там, по крайней мере, не болтают о «без вины виноватых»... А что до духовного горизонта, то и здесь он не ахти... Оно и неудивительно, в такой-то дыре! У отца «выразительная голова», братец — гений! «Вежливые люди все более или менее двуличны». Из какого демократического корыта она выудила это убогое изречение? Но произнесла его славно, уверенно и твердо, как историческую дату на экзамене. «Битва при Саламине?» — «Я знаю», — торжествующе поднимается вверх указательный палец. Хочешь, Виктор, я скажу тебе, кто она такая? Незрелый ребенок, прежде времени выскочивший замуж; вчера еще играла в куклы, и вдруг откуда ни возьмись на руках оказывается младенец. Он для нее как бы продолжение куклы. Ты заметил, как она лакомилась взбитыми сливками? Еще чуть-чуть (жаль, что взрослым это непозволительно), и она бы, как клоун в цирке, погладила себе живот. Но красива, ничего не скажешь! Из-за нее так и хочется поставить Создателю более высокую отметку за его творение; она стала еще прекраснее, чем была тогда в пору «второго пришествия». Ничего не утратила, но многое приобрела; «расцвела», говоря языком романистов. А как храбро она защищала своего брата, этого паяца! Псевда, ты мне нравишься. Она, правда, еще слегка лягается, как дикая кобылка; тем лучше, это говорит о породистости; мне даже нравится, когда она пышет гневом; напротив, ей это к лицу, как нельзя лучше подходит к ее черноволосому облику. Псевда, мы еще станем добрыми друзьями... И, весело напевая, он зашагал по улице.
Но вся его веселость была только детским утренником на палубе корабля; внизу, в каюте, стонал уязвленный мужчина, и это был капитан. Вернувшись в гостиницу, Виктор сразу отбросил напускную веселость и погрузился в свои мысли. «Виктор, ты узнал истину, а у истины вряд ли что можно выторговать. Истина гласит: из твоего царственного появления — прийти и поразить — ничего не вышло; твой вид, твой взгляд, твое праведное возмущение не произвели впечатления, а если и произвели, то оно было жалким. В чем причина неудачи, как после этого сложатся отношения между тобой и Псевдой? Подумай и ответь».
Виктор подумал и ответил: «Причина неудачи в следующем: эта дамочка счастлива и довольна; поэтому она ни в чем не нуждается, ей ничего не надо, и меньше всего от меня; я ей просто не нужен. Прошлое она забыла и вряд ли вспомнит о нем. В этом причина моей неудачи. А что касается будущих отношений между нами, то дело обстоит следующим образом: мое духовное превосходство здесь мне ничуть не поможет, так как она не способна даже измерить его. Оно мне даже мешает, так как моя духовность вступает в противоречие с ее убеждениями, которые позаимствованы ею у окружающих и потому непоколебимы. Одним словом, пользуясь выражением госпожи Штайнбах, «она не из того теста сделана». Кто почитает «выразительную голову», кто восхищается Куртом, тот никогда не оценит по достоинству Виктора; это неестественно, ибо одно исключает другое. Но «выразительная голова» — ее отец, а Курт — ее брат. Следовательно, мне пришлось бы начинать борьбу с ее родственными чувствами и с ее высшей добродетелью — почитанием старших. И, значит...» На этом месте, однако, мысль его остановилась, противясь окончательному выводу.
Вместо вывода фразу закончил тихий голос, идущий из темных глубин его чувства. «Безнадежно», — пробормотал этот голос. И будто слово это было сигналом, со всех сторон вдруг зазвучали сотни голосов, произнося хором слово «безнадежно», пронзительно выкрикивая его, крики становились все сильнее и громче, нарастали лавинообразно, как аплодисменты зрителей в антракте, когда слишком долго не поднимается занавес.
Виктор остался при своем мнении, но безвольно повесил голову.
Рассудок похлопал его по плечу:
— Виктор, ты слышишь мнение народа, оно соответствует моему, да, собственно, и твоему тоже. Короче, здесь для тебя неподходящий климат.
— И что же?
— Собирай вещи и уезжай.
— Если ты полагаешь, что моему чувству собственного достоинства понравится, когда я малодушно сбегу отсюда, после того как явился сюда в образе разгневанного Одиссея, то ты ошибаешься.
— А твоему чувству собственного достоинства понравится больше, если ты позже уедешь отсюда униженный, поруганный, с кровоточащими ранами и с горечью в сердце?
— Должна же судьба отплатить мне хоть каким-то удовлетворением, хоть каким-то триумфом над предательницей.
— Судьба — плохой плательщик. Послушай, будь умницей и не стучись головой в стенку.
Виктор вздохнул и помолчал некоторое время. Затем ответил:
— Ты, может быть, и прав; да я и не говорю, что в конце концов не прислушаюсь к тебе; но сначала мне хочется сделать еще парочку глупостей; это так приятно, к тому же я нуждаюсь в некотором утешении. Завтра утром я сообщу тебе о своем решении, а пока дай мне поспать.
Когда он уже лежал в мягкой постели и, предвкушая скорый отъезд и уже как бы находясь далеко отсюда, с легкой грустью размышлял о своем неудавшемся визите — визите судьи и мстителя, сердце решило воспользоваться податливым настроением. «Жаль, — прошептало оно, — мне казалось, ты достоин лучшего расставания. Не пойми меня превратно, я отнюдь не собираюсь повлиять на твое решение, следуй послушно своему рассудку, он самый умный из всех нас, но все же жаль, что ты уедешь от нее не помирившись, и в памяти твоей на всю жизнь останется Псевда, полная вражды к тебе. Ибо ты, я думаю, отдаешь себе отчет, что больше не увидишь ее до конца жизни; значит, ее образ в своей памяти ты уже не сможешь изменить; она всегда будет стоять перед твоими глазами такой, какой ты увидел ее в последний раз: чужой и разгневанной. Мне бы хотелось пожелать тебе примирения с ней, сердечного взгляда, доброго слова, короче, чего-то хорошего, что можно было бы взять с собой и что помогало бы жить на чужбине. Тебе это пошло бы на пользу (о себе я не говорю, я, судя по всему, ни для чего не гожусь на этом свете), и для больной Имаго это было бы лекарством».
Сердце продолжало шепотом искушать его, пока он не заснул.
А ночью, перед самым рассветом, ему приснился сказочный сон.
На острове посреди пруда он увидел Псевду в образе заколдованной принцессы, она сидела в окружении лягушек и саламандр, и между ними совершал головокружительные прыжки лягушачий король Курт. «Неужели не найдется на земле благородного человека, который спасет меня от лягушек?» — жалобно прозвучал ее голос. А на берегу притаился за ивовым кустом наместник, ритмично, будто во время косьбы, протягивая к жене руки. «Помоги ей», — закатывая глаза, казалось, умолял он. Виктор же, разумеется, не мог пошевельнуться, потому что это был только сон.
Когда утром он проснулся, здоровый и бодрый, со свежей головой, укрепившись в мужестве и чувстве собственного достоинства, он с воинственным видом выскочил из постели. «Утешься, Псевда, — торжественно и растроганно пообещал он, — я освобожу тебя от лягушек». Одевшись, он распахнул окно, душа его взмыла над горами, он сверкнул глазами и топнул ногой: «Почему безнадежно? Кто сказал «безнадежно»? Ведь внутри у нее не пустота, там у нее душа, как и у всякого человека, и внутри нее дремлет ядро, а в ядре, вероятно, сама того не зная, затаилась тоска, и эта тоска жаждет чего-то более высокого, благородного, прекрасного, чем то, что в состоянии предложить ей ничтожное повседневное окружение. Просто она очерствела, покрылась коркой. Если я останусь вблизи нее, то непременно раньше или позже благодаря магии моей личности или, говоря точнее, благодаря горящим взглядам возвышенных нездешних образов, освещающих мой путь, искра из моей души перескочит в ее душу, пробив заскорузлую корку, она проснется, прозреет, осознает мое значение и воздаст должное моему возвышенному, самоотверженному образу мыслей. Душа против заурядности, дух против косности, личность против клана — они теперь поведут схватку друг с другом. Мое оружие — магия, а Строгая госпожа — мой могущественный полководец. Посмотрим, кто из нас сильнее!»
И в то же утро, как бы предвидя, что лечение магией потребует длительного времени, он отправился на поиски частной квартиры.
«Добро пожаловать!» — воскликнул рассудок, когда Виктор поздним вечером въехал в свое новое жилище. И две мысли, оживленно перешептываясь, промелькнули в его мозгу.
Одна из них сказала: «Вот и опять нашелся человек, который, скорее, голову отдаст на отсечение, чем образумится».
Вторая осторожно выждала, когда она окажется вне пределов досягаемости, и, оглянувшись, дерзко и насмешливо заметила: «Да он просто влюбился по уши». И она опрометью скрылась, когда Виктор в сердцах швырнул в нее поленом.
Виктора доверительно отозвала в сторонку фантазия: «Пусть себе болтают. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Она осторожно раздвинула занавес, всего на три пальца, ровно настолько, чтобы можно было заглянуть в щелку. На сцене стояли Псевда и он, Виктор. Взявшись за руки, они проникновенно смотрели друг на друга. «О благородная, добрая, самоотверженная душа, — сказала она, обращаясь к нему, — все, что я могу дать, не впадая в грех, назови это дружбой или любовью, принадлежит тебе».
«Это всего лишь маленький пример, чтобы ты знал, о чем речь, — усмехнулась фантазия, сдвигая занавес, — позже я покажу тебе вещи куда более прекрасные».
В АДУ УЮТА
Чтобы показать себя перед строптивой дамой, ему надо было получить возможность встречаться с ней, причем часто, лучше всего регулярно, ибо личные достоинства — не артиллерия дальнего действия. Но где? Что за вопрос! Проще всего, разумеется, у нее дома! Зачем же тогда существует наместник? Он ведь его пригласил!
Наместник принял его самым сердечным образом, они битый час беседовали о научных проблемах; но его супруга, ради которой и был задуман этот визит, так и не появилась; когда же, уходя, он столкнулся с ней, она одарила его таким ледяным приветствием, что он понял: она не желает видеть его в своем доме.
Этот путь, стало быть, отпадает. Надо попытаться поймать ее в другом месте. Он разузнал, где и с кем она общается; все говорило о том, что круг ее общения ограничивается почти исключительно «Идеалией». Виктор глубоко вздохнул: «Идеалия!» Он уже испытал однажды, что это такое, тогда, у советницы Келлер. «А, — ободрял он самого себя, — в принципе это милые, славные люди; вопреки почерпнутым из школьных учебников догмам, которыми они похваляются, это люди на редкость сердечные и вежливые. Взять хотя бы то, что ни один человек не дал мне почувствовать свою досаду из-за случая с Куртом!.. Итак, возьмем себя в руки...» И Виктор, пренебрегая другими приглашениями, не уделяя внимания госпоже Штайнбах, стал посещать собрания «Идеалии», вознамерившись терпеливо сносить самые худшие испытания мещанским уютом.
«Идеалия» тоже встретила его доброжелательно, но скоро непримиримые противоречия нарушили искусственную гармонию.
Ужас перед любым скоплением людей, как бы это скопление ни называлось, ему внушала прежде всего его врожденная (или благоприобретенная?) мания обособленности; а тут целый «союз», да еще под названием «Идеалия»! Они же, в свою очередь, требовали от человека два главных качества, которыми он не обладал: неослабевающего желания повышать свою образованность и ненасытной жажды музыки. Без музыки эти люди выглядели столь же беспомощными, как бедуины, от которых сбежали верблюды. «Не хотите ли сыграть нам что-нибудь?» — спрашивали они друг друга. Это «что-нибудь» сгоняло его со стула. Разве можно спрашивать, «не хотите ли сказать нам что-нибудь?»
Что до образования, то контраст был еще резче: они интересовались всем, он — ничем. (Потому ничем, что его переполненная образами и стихами душа вообще отказывалась воспринимать что-либо извне.)
Главное же заключалось вот в чем: у него отсутствовали предпосылки к тому, что определяло их невзыскательный стиль общения: твердая профессия с ее обязанностями и хлопотами, семейная жизнь с ее заботами, короче, потребность в отдыхе и расслаблении. Другими словами, древнее и почтенное противоречие между цыганским духом бродяжничества и благодатью семейной жизни. Кроме того, его огорчало и расстраивало уже одно то, что он пассивно чего-то ждал (а именно, момента, когда Псевда преобразится); дух человеческий не выносит праздности.
Вместо ожидаемого сближения вышло взаимное недовольство. Он их раздражал, они нагоняли на него тоску. Он, правда, изо всех сил старался скрыть свои чувства, чтобы не портить им игру. Тебе не по себе? Постарайся и сделай вид, что все хорошо. «Вам нравится у нас? Понемногу привыкаете?» — «О да! Разумеется!» — усердно заверял он, а сам стонал, как загарпуненный кит.
Тогда они начинали его утешать. Утешать, как принято в этой стране и как поется в народной песне: «Сам во всем виноват». За каждым словом утешения таилось увещевание; это напоминало двойные чашки с бульоном: из верхнего носика льется жир, из нижнего — соль. Непрекращающееся спряжение его личности с вспомогательными глаголами: «вы должны», «вам следует» или, наоборот, «вы не должны», «вам не следует». Давай посмотрим, что он, по их мнению, должен и чего не должен был делать? Он не должен был: «распускаться», «уединяться», «погружаться в свои мысли». Он должен был: «преодолевать себя», «стать общительным», «пробудиться от летаргического сна» (обрати внимание, Виктор, ты спишь летаргическим сном), «со временем жениться, почему бы и нет, и желательно на задорной, грубоватой даме, которая бы силой вырвала его из летаргии» (вот уж и впрямь это слово пришлось им по душе). А пока ему следовало бы использовать все те многочисленные возможности, которые предоставляет этот город; или у него напрочь отсутствует чувство возвышенного? В четверг, например, состоится лекция на тему о любви у древних германцев, в воскресенье выступает семилетний скрипач; само собой, не какой-нибудь там неестественный, достойный сожаления вундеркинд, им бы и в голову не пришло приветствовать подобное искусственное, тепличное создание, а на сей раз настоящий художник божьей милостью. Неужели он действительно совсем не поет или хотя бы не играет на каком-либо инструменте? Да, кстати: четвертого декабря, в годовщину основания «Идеалии», будет поставлена пьеса Курта. «Не могли бы вы взять на себя какую-либо роль, например, сыграть водяного или одного из горных духов?» И почему бы ему просто не стать членом «Идеалии»? И не было бы естественнее и приятнее, если бы он, как и все остальные, перешел с мужчинами на «ты»?
Или же они пытались его «развеселить». Если затевались танцы или какая-нибудь игра, в «колечко», в «тарелочку» и тому подобное, они тут же решительно брали его под руку: «Пойдемте! Не делайте такое отчаянное лицо, поиграйте с нами! Ни к чему быть все время таким серьезным». Когда ничего не помогало, когда он чем дальше, тем больше проявлял себя как «эгоист», который впадал в минорное настроение, в то время как другие настраивались на мажор, более того, как закоренелый «реалист», не интересующийся абсолютно ничем, и к тому же страдающий неслыханным, прямо-таки возмутительным невежеством (он, к примеру, не читал трагедии Гёте «Тассо»!), тон их становился немного резче, и к советам и предостережениям присоединялось порицание. Тон, разумеется, всегда был дружеским; разве упрек не является неопровержимым доказательством дружбы? Они с самыми добрыми намерениями старались сделать его лучше, исключительно для того, чтобы он соответствовал «Идеалии»; примерно так, как на семейном совете перед путешествием решается вопрос, как уложить фрак в чемодан: один считает, что рукава нужно сложить так, другой, что этак, третий поднимает вверх воротник, четвертый переворачивает фалды; двое последних осторожно придавливают фрак кулаками и коленями, а сверху на него садится маленькая Виргиния.
Это делалось так неловко, что Виктор питал неодолимое отвращение к попыткам его усовершенствовать, прежде всего потому, что сам их вызывал. Нетерпимее всего относился он к придиркам касательно его внешности. Его беспрерывно теребили и посмеивались над тем, как он выглядит! Весь он, от головы до пят, их не устраивал! Язык и произношение, прическа и усы, одежда и обувь — все в нем никуда не годилось; особенно расстраивались они по поводу его воротничков. Робкие попытки встречной критики понимания не встречали.
А тут еще тысячи мелких обид! Они наталкивались на его неимоверную чувствительность, чувствительность фантазера (обратная сторона деликатности), которая беспрерывным ковырянием превращала иголочный укол в воспаленную гнойную рану, а мелкую бестактность — в смертельное оскорбление! Обе стороны вносили свой вклад в то мучительное состояние, которое принято обозначать мягким, щадящим словом «недоразумение». Правда, по их мнению, «недоразумения» мало что значили. Бог ты мой! Что могли значить «недоразумения» в этой мирной «Идеалии», где из года в год каждый был в ссоре с каждым, а в праздничные дни — все со всеми! Они обижались на все, но не таили друг на друга зла. Напротив, он со своей сверхчувствительностью и страстью к преувеличению, со своей чудовищной памятью, которая абсолютно ничего не отдавала спасительному забвению, со своим метафизическим жизнеощущением, которое малейшему происшествию придавало патетическую энергию, со своим искусством суммировать и обобщать, которое приписывало всем то зло, что причинил ему кто-то один (так проще всего), он постепенно оказался в положении медведя, подвергшегося нападению пчел. Он, разумеется, готов был согласиться, что все питают к нему дружеские чувства; вот только дружба в этих краях чертовски напоминала зубную боль. И пчелы, питаемые его буйной фантазией, неожиданно вырастали до чудовищных размеров, они следили за ним злобными взглядами. От этого он становился подозрительным, как цепной пес в сумерках. Ему всюду чудился подвох, и он у всех подряд просил объяснений, требовал извинений и при этом иногда вел себя, как ребенок. Госпожа Веренфельс, супруга священника, здороваясь, подала ему левую руку. «Она сделала это нарочно, чтобы унизить меня?» Проведя ночь без сна, он с миной оскорбленного офицера потребовал у нее объяснения. «С вами невозможно иметь дело», — в сердцах воскликнула госпожа Рихард, докторша, после его очередной глупой выходки. Упрек этот снова наполнил горькими, мучительными сомнениями его впечатлительную душу, которую он в любой момент хотел иметь чистой, готовой предстать перед Страшным судом. «А если она права? Почему бы и нет? Вполне возможно. Только как помочь беде? Я могу стать лучше, но стать другим не могу». И совершенно униженный, он написал подруге, которая жила за границей: «Скажите честно, невзирая ни на что: можно ли со мной ужиться?» Ответ гласил:
«Мне смешон ваш вопрос. Нет ничего легче. Надо только любить вас как следует и время от времени говорить вам об этом».
Глупее всего было то, что женщина, встречи с которой он искал, ради которой подверг себя неприятностям непрошеной дружбы, только изредка появлялась в «Идеалии». «Госпожа Вюсс ужасная домоседка, — объяснили ему, — она всю себя отдает мужу и ребенку». Он, однако, догадывался, что это не единственная причина: она не приходила главным образом потому, чтобы избежать встречи с ним.
Но в этом и заключалось самое худшее, что могло с ним случиться. Когда он появлялся и не находил ее, то с отсутствующим видом смотрел на стул, где она могла бы сидеть, если бы пришла, не говорил ни слова и не слушал, что ему говорили другие. К злополучному ожиданию добавлялся еще и позор обманутой надежды. И каждый раз после такого разочарования он на следующий день растерянно бродил по городу — как привидение, забывшее обратную дорогу на кладбище.
В тех редких случаях, когда Псевда приходила, она, как верная сестра, мстила ему за оскорбление брата, мстила с высоко поднятой головой, искренне и смело, используя Виктора как мишень, в которую она пускала свои ядовитые замечания, все равно по какому поводу, ибо точность ее мало заботила. Едва он открывал рот, как тут же встревала она. И, случалось, наносила глубокие раны его обостренному чувству чести. «Не люблю льстецов», — величественно бросила она ему, когда у него вырвалось восклицание: «Как вы прекрасны!» В другой раз, когда он оспорил утверждение, что вся знать Европы глупа и уродлива, она обозвала его снобом. Естественно, это было лишь выражением женского настроения, но он, как неразумный юноша, воспринял слово буквально, а поскольку он воспринял его буквально, то и отнесся к нему с полной серьезностью. Три ночи терзался он из-за этого мнимого ругательства. Он клал рядом с собой розги, огонь и скорпиона и допрашивал свою душу, проникая в самые сокровенные уголки, чтобы при необходимости покаяться, не жалея себя; в конце концов он пришел к утешительной мысли, что ругательное слово не имеет к нему никакого отношения. Нет, не может быть снобом тот, кто снимает шляпу перед нищим, протягивая ему подаяние, кто, подобно евангелическому священнику, не отказывается пожать руку изобличенному вору, кто осмеливается среди бела дня поздороваться с женщиной легкого поведения. И не может быть льстецом тот, кто всю жизнь с презрением отказывался воспользоваться трюком и добиться благосклонности женщины, унижая ее соперницу. «Тогда зачем же мне говорят такое!» — возмутился он про себя и с тех пор сидел перед Псевдой с таким видом, будто она выбила ему глаз, а он простил ей это.
Кантональная советница не могла больше на это смотреть; ее миролюбивая натура не терпела глубоких раздоров среди ближайшего окружения. И так как она была сердечно привязана и к Виктору, и к госпоже Вюсс, то по милой логике женского сердца, которое считает, что если я люблю А и Б, то А и Б тоже должны любить друг друга, она все свела к простому «недоразумению» между ними. А раз так, то она взяла на себя роль посредницы и расписывала Виктору добродетели госпожи Вюсс, а ей, в свою очередь, достоинства Виктора. В соответствии со своей честной и простой натурой, добродетели которой проступали ясно и четко, как на фреске, госпожа Вюсс великодушно согласилась забыть историю с Куртом, разумеется, при условии, что Виктор в будущем постарается быть более уживчивым. Но похвалам в его адрес она внимала с недоверчивой миной. И пока госпожа Келлер изо всех сил старалась выставить своего протеже в благоприятном свете, она из своих впечатлений о нем пыталась обрисовать для себя характер Виктора, правда, без особой охоты, так как даже думать о нем ей было неприятно.
Ей не надо было выспрашивать себя, она ясно чувствовала, что этот человек ей неприятен, и чем дальше, тем больше (независимо от того, что он оскорбил брата). Чего стоит его свободный образ жизни, который он даже не пытается скрывать! «Но будем к нему справедливы, постараемся найти у него и хорошее качество». Однако с какой бы стороны ни рассматривала она его характер, хорошие качества не проступали нигде, и перечень его характерных черт напоминал, скорее, список прегрешений.
Его какая-то не мужская, излишне мягкая, почти слащавая манера поведения, лишенная внутреннего стержня, силы и характера, его тихий голос, чрезмерная вежливость, привычка крикливо одеваться, неестественный, странный для этих мест язык, его неоднозначная, двусмысленная натура, замкнутая и скрытная, когда не знаешь, что у него на уме, его меняющееся каждый день лицо («я люблю простых, открытых, искренних людей»), его насмешливый, фривольный образ мыслей, его привычка с помощью дешевых парадоксов издеваться над всем, что свято, — над родиной и отечеством, моралью и религией, поэзией и искусством, — чего все это стоит? Ни серьезности, ни глубины, ни принципов, ни идеалов; полное отсутствие душевных порывов, тепла, чувства (как можно, например, не любить музыку? Разве что у человека нет сердца!). «Душевным его во сяком случае никак не назовешь; с кем он сблизился в эти три недели? Ни с кем». И потом эта его надменная самоуверенность, дурацкая бестактность, его сумасбродства, временами граничащие с оскорблением! С каким трудом, к примеру, ей удалось отучить его называть ее «фрейлейн».
Нет, как бы ни нахваливали его госпожа Келлер и ее супруг, ее отвращение имело под собой основание. Да и ее отец осудил бы его; он заклеймил бы его тремя словами: «Его нельзя понять». Она даже представила себе, каким бы тоном он это произнес. И так как госпожа Келлер в этот момент превозносила таланты Виктора, Тевда громко спросила: «Да где же вы их видите, эти таланты? Покажите мне хотя бы один из них! Что он умеет? Или что знает? Везде я вижу не таланты, а просто их отсутствие».
Но в уме, по крайней мере, вы ему не откажете, — заметила госпожа Келлер.
Туг госпожу директоршу и вовсе оставило самообладание.
— Ум? — негодующе взвилась она. — Я тоже люблю и ценю в людях ум; но ум уму рознь. По-моему, ум должен содействовать проявлению чего-то достойного, истины или красоты, поступков или дел; ум почитает то, что заслуживает почитания, отдает должное заслугам, восхищается всем возвышенным и благородным; там, где речь идет о вещах серьезных, ум и должен прежде всего быть серьезным. А тут? Легкомысленная, забавная игра словами. Если в этом сказывается ум, то должна признаться: такой ум я не ставлю ни во что. Такой ум я ненавижу. Вместо «природа» сказать «мадам лошадиная сила» — много ли ума надо? «Психологи хуже всех разбираются в психологии» — что бы это значило? Если в этом ум, то пусть уж лучше я буду дурой. Курт, согласитесь, тоже наделен умом, но это же совсем другое дело!
И так как госпожа Келлер без колебаний с ней согласилась, то затеянное ею превозношение Виктора вылилось в восхваление Курта.
Когда обе вволю потешили себя перечислением достоинств Курта, госпожа директорша наконец изъявила готовность быть к этому сумасброду снисходительнее: обходительность еще никому не повредила, этим она не уронит себя в глазах других.
Но Виктор упрямо отказался от примирения. Разумеется, он считал, что «Псевда», то есть реальная, земная госпожа директорша, по-своему права. Но до тех пор, пока она не «преобразится», пока не вернет себе душу девы Тевды, никаких переговоров с ней быть не должно.
Потерпев поражение здесь, кантональная советница попыталась подойти к делу с другой стороны — примирить с Виктором Курта. «Нельзя же, чтобы все ограничилось только простым знакомством». В результате вышла одна из тех неудачных попыток достичь согласия, которые еще более усугубляют ситуацию. И снова в роли строптивца выступил Виктор. Он, правда, согласился на встречу и воздержался, насколько было в его силах, от недружелюбных высказываний, зато его взгляд и выражение лица были столь надменны, что воспринимались как худшее из оскорблений. На сей раз ему не простили, оскорбительный умысел был очевиден. «И зачем я унижаю этого человека, — после всего случившегося удивленно спрашивал он самого себя, — хотя он не сделал мне ничего плохого, хотя я знаю, что так поступать неумно, что учтивым поведением я мог бы заслужить расположение Псевды?» Ответа он не находил; он поступил так, как поступает собака, увидев кошку; удержавшись от броска на нее, собака тем не менее пожирает ее глазами.
«Природное явление! — в растерянности подумал он. — Необъяснимая и неодолимая идеосинкразия!» Но он ошибался; это была ссора на профессиональной основе: пророк истинный гневался на лжепророка, настоящий наследник возмущался тем, кто пытался получить наследство обманным путем; короче, на этого поддельного гения его натравливало горячее дыхание Строгой госпожи.
Кантональная советница оставила свои попытки примирения. Разумеется, отношения с Псевдой зашли в глубокий тупик. «Ко всему прочему это еще и злой человек, из тщеславной зависти к гению моего брата он нарочно задирает его». Таким был теперь ее приговор; и она постаралась, чтобы он не остался в неведении относительно этого приговора. Разве не для этого существуют брошенные вскользь замечания и намеки?
Эта очередная «несправедливость» снова вызвала в нем смешанное чувство возмущения и удивления. «Какое вообще ей дело до брата? Он же не имеет никакого отношения к сюжету. Уже одно его существование означает, что в пьесу вкралась ошибка». То, что его отношения с Псевдой продвигались не вперед, а назад, противоречило всякому смыслу. Не раз уже он сердито задавался вопросом: «Почему она медлит? Когда она наконец проснется? Или она думает, что у меня есть желание и время десятки лет ждать ее преображения?» А тут еще дело движется вспять.
Эта мысль была ему невыносима. Но куда направить свои усилия? Он не знал другого средства, кроме своей «магии», той самой магии, которая до сих пор давала осечку. Как случилось, что она не срабатывала? Что его блестящие качества не действовали на нее, не зажигали ей душу? Предположение: быть может, искра возникает только в состоянии экстаза, и воздействия не возникало только потому, что он приближался к даме, упав духом, расслабившись? Когда однажды вечером после творческой работы воображения его душа до такой степени переполнилась образами, что, как ему казалось, вокруг него возник некий ореол, он собрал все свое мужество и навестил ее дома в тайной надежде, что сконцентрированная в нем магия на этот раз подействует на нее, как при коротком замыкании. Итак, своего рода психологический эксперимент, но отнюдь не легкомысленный, ибо речь шла о его душевном здоровье.
Случаю было угодно, чтобы в тот вечер она принимала у себя школьную подругу; вспоминая прошлое, на часок сбросив с себя достоинство новоиспеченной мамаши, она от души наслаждалась невинными детскими проказами; не правда ли, так приятно иногда для разнообразия всей душой отдаться глупостям? Одна из них надела на голову детский чепчик, другая — цилиндр, и они с блаженным видом носились по комнате. Виктор в ее глазах был таким ничтожеством, что она при его появлении даже не сочла нужным прервать свои забавы. Вот и пришлось ему сидеть и наблюдать за игрой. Высидев четверть часа, он на всю жизнь понял, чего стоит его душевная магия. На него не обратили внимания ни когда он пришел, ни когда удалился и уныло побрел домой.
Впервые он потерял уверенность в себе. Его охватил страх; казалось, в колеснице победителя отвалились задние колеса, и ось резкими рывками волочилась по земле. А когда он послал свой дух на поиски утешения, то обнаружил перед своими глазами черный занавес, правда, еще поднятый, но зловеще колеблющийся, словно готовый в любой момент неожиданно, не дожидаясь звонка, опуститься.
Что оставалось ему делать, когда его магия не подействовала? Сердце его сдавил страх, и он раньше времени прибег к последнему козырю, который приберегал на тот момент, когда ее сердце будет потрясено: к своему преображению благодаря ее собственному портрету, сделанному раньше, в благородную пору девичества. Он рассчитывал, что прежний, девический, облик пробудит у нее воспоминания и Тевда накажет Псевду; так преступник, которому неожиданно показывают его портрет времен неиспорченного детства, внезапно разражается слезами, раскаивается в своих злодеяниях и дает клятву впредь стать таким же порядочным человеком, каким он был раньше. Итак, трепетной рукой достал он портрет Тевды (свою икону), который три года назад прислала ему госпожа Штайнбах, пугливо избегая смотреть на него, так как боялся, что не сможет выдержать наплыва воспоминаний. Вооруженный этим портретом, точно заряженным револьвером, он на следующий день снова потащился к ней, почти сожалея, что приходится пускать в ход такое опасное оружие. Едва войдя в комнату, он поставил портрет на фортепьяно и с бьющимся сердцем стал ждать результата.
Не успела она появиться в дверях, как ее острый взгляд тут же обнаружил снимок. «Кто вам его дал? — спросила она резким, не терпящим возражений тоном следователя. — Какое право имела госпожа Штайнбах посылать вам мою фотографию?» Затем она пожала плечами: «Вообще-то никудышный снимок; мне он никогда не нравился». Таким было действие иконы.
Теперь его положение стало серьезным; козырей у него на руках больше не было. Он, правда, еще цеплялся за свою надежду, так как нуждался в ней, цеплялся судорожно сжатыми пальцами, но у надежды не было разумного оправдания, ибо он вынужден был признать, что то, на что он надеялся, теперь для него недостижимо, и что сбыться оно может только в том случае, если на помощь ему извне придет что-то непредвиденное. Оттого в глубине его души копилась печаль. В один прекрасный день она вылилась в чувство и причинила ему боль.
Это случилось во время разговора о «Тассо». Речь зашла о том, что на женщин якобы воздействует притягательная сила гения. Сердце женщины инстинктивно и безошибочно тянется к поистине значительному, неординарному мужчине. Произнеся это, она вздохнула и задумалась.
— Вы уверены в истинности вашего утверждения? — осмелился он возразить.
— Совершенно уверена, как и в том, что мы безошибочно чувствуем, когда перед нами человек незначительный, заурядный.
И чтобы он не усомнился, кому адресовано язвительное замечание, она одарила его насмешливым взглядом.
Его пронзила глубокая боль; от возмущения кровь ударила ему в голову. «Скажи то, что ты должен сказать», — повелел ему голос Строгой госпожи.
Он нехотя повиновался, так как стыдливость и скромность в нем яростно протестовали, и сказал:
— Кто может утверждать, что я незначительный, невыдающийся человек? — Эти слова, произнесенные его нерешительным голосом в стенах залитой дневным светом комнаты, прозвучали так невыносимо мерзко, что он сам устыдился их, а все присутствующие от смущения опустили глаза, точно произошло что-то неприличное.
Священник Веренфельс нашел спасительные слова.
— Тому, кто хочет высказаться по этому вопросу, не мешало бы сперва прочитать «Тассо», — с мягким укором обратился он к Виктору.
— Отлично сказано! — засияли у всех глаза.
К печали по поводу утраченной надежды примешивалось, вроде бы вне всякой связи с «Идеалией», какое-то странное общее расстройство, он не мог понять, то ли телесного, то ли душевного свойства, то ли того и другого вместе; его так больше и не покидало чувство безысходности, первые признаки которого он ощутил сразу по прибытии сюда. Теперь, в состоянии общей подавленности, в нем вспыхнула какая-то изнуряющая болезнь, ибо то, что с ним происходило, и впрямь было болезнью. Что бы это могло быть? Отвратительное чувство пустоты, безотрадное, с мерзким привкусом ощущение, будто он проглотил кусок глины. Ностальгия? Да, нечто похожее. Но ностальгия без поэзии, без блеска и красок, разлитая повсюду безутешность, тоска по дальней дороге. Однажды вечером, когда он темными улочками возвращался из «Идеалии», а свет и жизнь были только в трактирах, откуда доносились крики, вопли и запах алкоголя, он вдруг понял причину своей болезни: безысходность жителя большого города, оказавшегося в захолустном городке. На ступеньках церкви выл брошенный пес. Виктор понимал его; ему хотелось завыть вместе с ним.
И все же его отношения с «Идеалией» оставались вопреки всему дружественными. Они, правда, кое за что его корили, точнее, корили за все, но продолжали видеть в нем одного из своих; он, в свою очередь, держался в ожидании лучших времен как можно тише, казался себе смиренным страдальцем и сам умилялся своей невероятной кротостью. Но из-за пустого разговора, начавшегося совершенно безобидно, даже приятно, вспыхнула глубокая вражда; не с их стороны, на вражду эти милые люди не были способны, а в нем, одержимом идеями, яростном борце за правду. Все произошло из-за гротескной сцены, которую он позже назвал «битвой амазонок». Придя к госпоже Рихард, он неожиданно оказался единственным мужчиной среди небольшой группы красивых дам, в числе которых была и Псевда. Подстегиваемый видом хорошеньких лиц, он, как это обычно бывает, начал поддразнивать дам, добродушно отпуская на их счет разного рода колкости, которых у него было немало в запасе; он делал это исключительно из любви к женскому полу. Но он не знал или же забыл на чужбине, что здешние женщины поклонялись догмату о мистической сути германской женщины; в отличие от того, что принято в центральной Европе, они прощали грубые выпады в свой собственный адрес, но малейшее сомнение в священном предназначении женщины осуждали как осквернение алтаря. Очень скоро он вызвал многочисленные возгласы возмущения (боевой клич амазонок), с которыми ничего не мог поделать. В разгаре спора, когда он принялся оправдывать женщин, курящих сигареты, они увлеклись и стали громко ликовать по поводу мучительной смерти одной русской студентки, которая сгорела в огне, вспыхнувшем от сигареты. «Я рада», «так ей и надо», «вот так бы случилось с каждой, кто курит». И тут чувство справедливости в нем вдруг возмутилось и выплеснулось в диком гневе; это был воистину пророческий гнев, Виктор был готов призвать на головы кровожадных проповедниц хорошего тона огонь и серу. Он живо представил себе, как несчастная студентка мечется в горящем платье, крича и извиваясь, то высоко подпрыгивая от боли, то пригибаясь к земле, а вокруг нее стоят, злорадно ухмыляясь и хлопая в ладоши, эти фарисейки. «Убийцы!» — кричал им его исполненный ненависти взгляд. И с этого момента ему вдруг стала ясна та вражда, которая разделяет пророков и женщин.
В то время как прелестные спорщицы, едва закончив горячее препирательство, тут же забыли о Викторе — чашка чаю, бутерброд с ветчиной, и все осталось в прошлом, — в его памяти застряла жуткая картина пляски смерти в окружении ликующих фарисеек. Дюжину провинившихся дам, которые в действительности и муху не могли бы обидеть, его фантазия наделила каиновой печатью на лбу, и вся «Идеалия», солидарная с каждым из своих членов, отныне казалась ему способной на месть эриний и виделась в мрачном свете Атридов. «Ничего, что полиция и суд не могут привлечь вас к ответу, ничего, что вы все еще благовоспитанно передвигаетесь по комнате и с умильным видом затягиваете песни Шумана, в моих глазах вы преступницы, убийцы, и ими останетесь!» И он чувствовал, как в нем нарастает лютая злоба мстителя. Объятая пламенем студентка все время указывала обугленным пальцем на «Идеалию», подстегивая его, как призрак Гамлета.
Пока еще его вражда бродила в глубине; она погромыхивала, но не сверкала молнией; он жаждал перейти в атаку, но пока откладывал ее. И вот несколько дней спустя после «битвы с амазонками» до него дошли припозднившиеся письма из дальних краев. Совсем другой тон! «В кругу милых земляков, которые любят вас и осыпают почестями, вы, надеемся, не забыли своих старых друзей...» Любят и осыпают почестями, какая ирония! В кругу милых земляков, о Господи! «Они вряд ли смогут не заметить ваших исключительных качеств, ваших знаний, вашей душевной доброты...» Вот так новости! Давно забытые вещи! Он — и исключительные качества! Он — и знания! Славные были времена, когда его не только укоряли, но и находили повод для похвалы. Письма подействовали на него, как будильник. Чувство собственного достоинства в нем, ежедневно унижаемое окружающими, постепенно притупилось, его незаметно окружил новый, более узкий здешний горизонт, и он уже начал было воспринимать как нечто само собой разумеющееся то, что раньше выводило его из себя: что он лошадка с изъяном и никому не возбраняется пройтись по его недостаткам. Теперь он проснулся, узкий горизонт раздвинулся, он вспомнил о своей гордости и принялся сравнивать. Какой контраст! И какая насмешка в этом контрасте! Там, на чужбине, распростертые объятия, теплый прием, доброжелательная терпимость к его странностям, снисходительность к его заблуждениям; здесь, на родине, мелочные придирки, спесивая самоуверенность, отрицание всей его личности. Это сравнение растревожило всю горечь, которая накопилась в нем за шесть долгих недель, и порывистый по натуре Виктор загорелся воинственным гневом. Нельзя больше терпеть и молчать! Пора переходить в нападение! Я приду к вам, сорву с вас фарисейские маски, растреплю ваш лицемерный хвастливый словарь. Замрите и внимайте тому, что я скажу, ибо я хочу нарисовать ваш портрет. Вы готовы? Хорошо, я начинаю. Вот что хочу я вам сказать. Ваша «добродетельность»? Длинный язык, чтобы оклеветать ближнего. Ваша «прямота»? Самовольно присвоенная привилегия обвинять ближнего в дерзких выходках, не вынося при этом ни малейшей критики в свой адрес. Ваша «искренность»? Выданное самим себе разрешение говорить за спиной человека куда более худшие вещи, чем то, что вы говорите ему в глаза. Ваша «правдивость»? Благодаря мелочной точности в делах второстепенных вы выторговали себе право в виде исключения лгать в жизненно важных случаях. Доведись мне заключать сделку с таким фанатиком правды, я бы заставил негодяя подписать документ в присутствии четырех свидетелей! Ваша «душевная отзывчивость»? Стадный эгоизм, обогрев верхнего слоя кожи шерстяными вещами; почувствовав беду, никто не поможет другому. Ваше семейное счастье, ваша любовь к родственникам? Брось им маленькое наследство и посмотри, что это за любовь! Ваша музыка? О, ледяные сосульки, издающие ликующие возгласы! Ваше образование, ваше наслаждение искусством и литературой? Если вам справа открыть дверь в рай, а слева объявить доклад на тему рая, вы все скопом мимо рая ринетесь на доклад. «Интересно, интересно!»
Так буду я говорить с вами; приготовьтесь внимательно слушать. Он с сожалением обнаружил, что в комнатах «Идеалии» нет кафедр, с которых можно было бы песочить этих людей, как готовую к покаянию паству в дни поста. «Успокойтесь, в таком случае я разделаюсь с каждым по отдельности. Первый из вас, кто изобразит на лице благонравие, получит от меня полной мерой. Ну, кто на очереди?» И он, точно бык, опустил рога в ожидании противника. Но, бросив вокруг себя воинственный взгляд, он его нигде не обнаружил. Все противостояли ему — и никто в отдельности; хотя никто его особенно не любил, никто не желал ему зла. И словно нарочно именно сейчас случилось так, что хотя он изготовился к схватке, все, казалось, дали слово вести себя с ним дружелюбно; тем самым они, разумеется, его тут же обезоруживали. Можно ли поднимать на рога того, кто вдет тебе навстречу с чистосердечным приветствием? «Ну, как ваши дела? Надеюсь, вы в эту «неестественную» погоду не подхватили простуду?» Он жадно, но безрезультатно выискивал себе врага. Курт? Человек беззащитный, он в страхе бежал, едва увидев в передней шляпу Виктора; к тому же у Курта, надо отдать ему справедливость, были красивые, добрые глаза; что тут поделаешь? Сопя от гнева, Виктор просто не знал, на кого наброситься. До поры до времени, в отсутствие врага и повода для ссоры, его беспомощная ярость проявлялась в убийственном настроении. Взгляд его стал угрожающим, выражение лица насмешливым, голос звучал вызывающе, тон высказываний был деспотичен, любое возражение отвергалось с порога. И без того-то он, истый приверженец правды, с трудом выносил возражения заученной мудрости («я не люблю, когда на истину замахиваются вилами взятой напрокат мысли»), теперь же в его голосе отчетливо звучало предостережение: «Ну-ка, негодяй, попробуй мне возразить!» Ему недоставало только телохранителей, чтобы приказать им схватить противника за воротник.
Но ему все же никак не удавалось развязать желанную схватку; отныне все избегали встречи с ним, как избегают встречи с невменяемым животным, от которого можно ждать чего угодно. Когда заходила речь о Викторе, священник теперь называл его тронувшимся умом Непомуком; доктор сравнивал его со стигматизированной монахиней, лесничий — с добродушным и кротким, но внезапно неизвестно почему озверевшим слоном. Иногда он мог целый вечер просидеть незаметно, не говоря ни слова, уставясь перед собой мрачным, печальным взглядом; но ни у кого не было уверенности, что он чего-нибудь не выкинет; и так как никому не хотелось оказаться ни с того ни с сего в неприятной ситуации, Виктора оставляли наедине с его тихим гневом.
Доктор Рихард, к примеру, похвалил только что вышедший научный труд. «Вы непременно должны прочитать эту книгу», — заключил он, обращаясь к сидевшему с безучастным видом Виктору. Тот подскочил, как ужаленный. «Как вы смеете отдавать мне приказы?» И весь вечер не отставал от него. «Господин доктор, вы должны непременно взять в рот этот карандаш», «господин доктор, вы должны непременно достать из кармана пальто мой носовой платок», «господин доктор, а сейчас вы непременно должны уйти домой». Нет уж, иметь дело с таким человеком не хотелось никому.
Когда директор и его супруга устроили небольшой ужин, на который по настоятельному желанию наместника был приглашен и Виктор, в последний момент посыпались отказы, и в конце концов перед ужасно разочарованной хозяйкой сидел только один гость — этот урод Виктор, на которого она смотрела, как смотрят на пуговицу в пустом церковном сосуде для подношений. «Что ж, — утешал себя Виктор, — хуже, чем сейчас, мне все равно не будет». Но госпожа Вюсс отныне без всяких обиняков называла Виктора «чудовищем».
«Виктор стал просто невыносим», — гласил всеобщий приговор. «Виктор болен», — отвечали, оправдывая его, другие.
Оправдание соответствовало действительности: бык стоял, широко расставив ноги, из носа у него текла кровь. «Господи, что у вас за вид», — в ужасе воскликнула госпожа Штайнбах, столкнувшись однажды с ним на улице. В тот же день он получил особенно настойчивое приглашение зайти к ней. Но ее ожидание было тщетно; ибо он боялся своей подруги — живого воплощения разума.