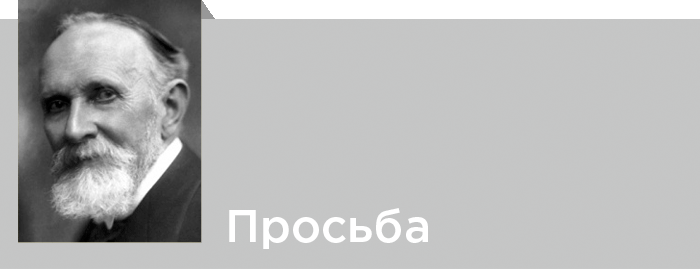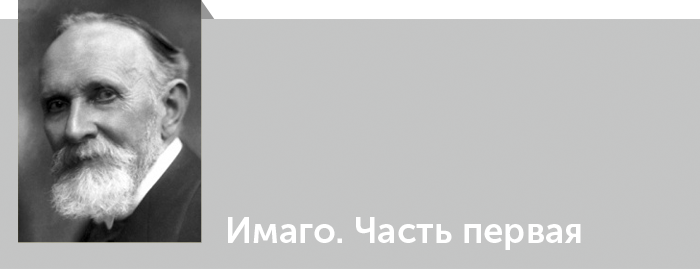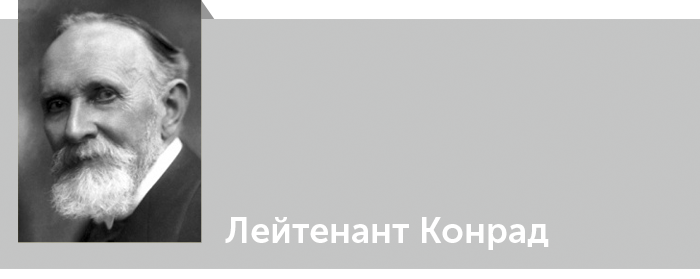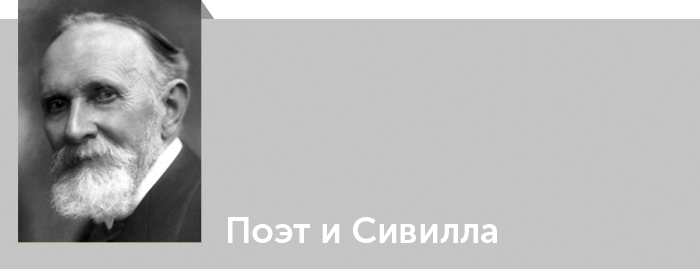Имаго. Часть вторая. Карл Шпиттелер
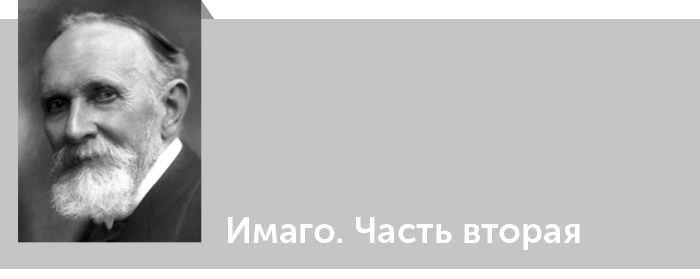
Часть вторая
ПОЕДИНОК ВИКТОРА С ПСЕВДОЙ
«Хуже, чем сейчас, мне уже не будет», — решил он. И зря! Настоящая беда свалилась на него только теперь. Однажды директорша Вюсс в его присутствии обрушилась на галантные манеры (галантность для «Идеалии» была как красная тряпка для быка). «Гм, гм, — ухмыльнулся Виктор, — вы, госпожа Вюсс, изрядно рассердитесь, когда какой-нибудь мужчина откажет вам в галантном обхождении». Когда она заносчиво оспорила его слова, утверждая, что не требует и не желает никакой обходительности и что она была бы признательна, если бы ее избавили от нее, он решил во имя истины преподать ей урок. Для этого он нарочно встал в передней, когда все расходились, прямо перед ней и скрестил за спиной руки; ей пришлось самой снимать с вешалки и надевать меховую шубку. Рукава были узкие, и она изрядно помучилась. В его глазах светилась веселая насмешка. «Теперь вы понимаете, девушка, зачем нужна обходительность?» В это трудно поверить, но она, похоже, ничего не заметила. Опровергать с помощью ребуса, соотносить действие со словами, сказанными накануне, — этот род поучения она не понимала; должно быть, с ней еще ни разу не случалось ничего подобного. С другой стороны, она, разумеется, отлично понимала, что он нарочно отказывается помочь ей, так как он делал это с вызывающим видом и так как ко всему прочему он пользовался дурной славой чрезмерно обходительного, церемонного человека. Поэтому она восприняла его поведение как грубое оскорбление. Какой взгляд бросила она на него! Вместо глаз — белый студень с чернильным пятном посередке... Что прикажете делать? Просвещать ее? Бесполезно, она ему все равно не поверит. Извиниться? Существо женского пола не принимает извинений. «Приплюсуем это к остальному; это ведь не первая несправедливость, выпавшая тебе на долю. И кто знает, быть может, все не так уж и плохо, как кажется».
Однако все было так плохо, как и казалось. Где бы и когда бы она его ни увидела, из нее вырывался непритворный возглас ненависти, нечто похожее на шипение молодой пантеры: «Ррр! Шипи!», и она элегантным движением поворачивалась к нему спиной.
В первый и во второй раз он воспринял это с чувством спокойного превосходства и даже позволил себе полюбоваться ее гибкой спиной. Но в третий раз в него вдруг словно бес вселился: «Ах ты наивная обезьянка в наряде Туснельды! — возмутился он, — стоит мне только захотеть! Перестать беречь тебя! Я бы мигом превратил твое детское «Ррр! Шшш!» в томное воркование. «Теперь вы будете меня презирать» (вздох), «Как я буду смотреть в глаза мужу и ребенку» (слезы), «Но ты и впредь будешь меня...» (объятие), и так далее и тому подобное... Но стоп! Руки прочь от нее! Разве ты заслужил ее своим тщеславным важничаньем? Да, супружеская неверность; но пусть это по крайней мере будет неверность здоровая, открытая, любовь за любовь или услада за усладу; но коварно, хитростью и расчетом обмануть женщину, из оскорблённого мужского тщеславия разрушить ни в чем не повинную семью — а без нее семья развалится, в этом нет никакого сомнения, — нет, этого я не сделаю. Во-первых, потому что такими вещами я не занимаюсь, а во-вторых, потому что для моего призвания требуется чистая совесть. А ее муж, который приходится мне другом? Поэтому нет, нет и еще раз нет. Гуляй, малышка, и скажи мне спасибо! Если хочешь ненавидеть меня, так делай это как следует; так и быть, я научу тебя так ненавидеть меня, что от ярости ты начнешь бросаться на стенку. Я же при этом буду абсолютно спокоен. Чем глубже ты будешь ненавидеть меня, тем больше это будет меня радовать. Не веришь? Ладно! Очень скоро я тебе это докажу».
И он принялся изо всех сил дразнить и злить ее — правда, в рамках дозволенного, но на самой грани этих рамок; с этой целью он бесцеремонно приставал к ней, не зная жалости, не отходя от нее ни на шаг. В зависимости от настроения он обрушивался на нее то с иронией, то с сарказмом, действовал то напрямую, то обходными путями.
Если настроение его тяготело к сарказму, он разражался зловещими выпадами, которые оскорбляли ее самые сокровенные чувства. Не заметила ли она, что женщины часто отличаются поразительной душевной черствостью? Не обратила ли она внимание на то, что ни у кого больше не наблюдается такого путающего отсутствия душевности и доброты, как у фанатичных любителей музыки? Или он восхищался безошибочным инстинктом женского сердца, которое с поистине гениальной точностью выбирает из сотни мужчин самого большого осла, чтобы влюбиться в него. Или же оправдывал супружескую измену как средство воспитания мужа — чтобы он был ласковее с женой. Или жаловался на свою жалкую участь — быть в этой убогой дыре «обреченным на благонравие». И почему его и таких, как он, называют беспутниками, правильнее было бы называть их «беспопутниками», ибо все они попутаны бесовской красотой женского тела. И вообще, зря изолгавшиеся фарисеи выступают против чувственности. «Если я нахожу женщину неаппетитной, она чувствует себя оскорбленной, не так ли? Следовательно, если я страстно желаю ее, я тем самым выражаю перед ней свое преклонение, это же ясно как день». Ага, у тебя такое выражение, будто ты проглотила веретеницу. Так тебе и надо, поэтому продолжим в том же духе. «Чего я никогда не мог понять, так это то, что пират церемонится с захваченной в плен девицей. Она же может высказать ему свою ненависть только взглядом, а не ногами; взгляд же в таких случаях — дело второстепенное». Хотите еще в том же духе? Нет? А мы все же продолжим. «Каждый мужчина в любой момент страстно желает красивую женщину; если он это отрицает, то он или не мужчина, или лжец».
Она не опускалась до спора с ним, но глаза ее говорили: «Если с вами случится несчастье и вы попадете под железнодорожный вагон, то я выражу свои искренние соболезнования, но оплакивать вас не стану».
На это его дерзкий взгляд насмешливо отвечал: «Милостивая государыня, если вы собираетесь лопнуть, соблаговолите сказать мне об этом заранее, чтобы я мог выбрать кусок полакомее».
Когда же он был настроен мягче, то ограничивался выпадами против ее убеждений и усвоенных в школе принципов, метя в ее прекраснодушный патриотизм, восхищение пастушеским народом и тому подобное.
Во время прогулок она любила напевать народную песню: «Рано утром, на заре, доят коров в любом дворе». «А вы можете подоить корову, госпожа Вюсс?» — спрашивал он восхищенным тоном... А когда она затягивала другую песню: «Я ко всем обращаюсь на «ты», он радостно хлопал в ладоши: «Я давно уже мечтаю перейти с вами на «ты»... Наряду с братом в ее любимчиках ходил длинноногий кузен Людвиг, который из года в год без устали штурмовал горные вершины; этого беспокойного Людвига он называл скалолазом... И вообще, почему его славные земляки придают так много значения Альпам? «Ведь не они же их создали; а если бы создавать их пришлось им, горы наверняка получились бы не такими крутыми». И без того безжизненную природу, даже не говоря об Альпах, сейчас чересчур переоценивают; мизинчик на ноге красивой женщины ценнее величественной громады глетчера, и я сознаюсь, что в безукоризненно сидящем цилиндре нахожу больше души и духа, чем в восходе солнца; «ибо восходом солнца может восхищаться даже мамонт, оценить же шляпу способен только культурный человек с тонким вкусом»... Или он давал ей непрошеные советы. Когда она пожаловалась на варварское разрушение отечественных памятников старины, он посоветовал: «Выкатить пушки и разнести в щепы всю эту деревянную рухлядь!» Если она жаловалась на исчезновение народных костюмов и говоров, он рекомендовал одевать на улице в эти костюмы преступников, а пользоваться диалектами разрешить только семьям с дурной наследственностью.
В таком настроении его любимым занятием было переиначивать названия. Их гордый родной город он называл Скотоградом; здешнюю политику — периодическим волнением по поводу того, выбирать в совет Франца или Фрица. Вместо слова «жестокость» он употреблял слово «патриотизм», вместо «грубости» — «германизм»; бестактность он называл «диалектным изъяном души».
Иногда он дразнил ее, заходя издали, с ханжеским, невинным видом. Например, анекдотами и важными событиями, которые он для этой цели тут же и сочинял... «Знаете ли вы, госпожа Вюсс, — простодушно начинал он, — анекдот о графине Штепанской, Бетховене и капельмейстере Пфушини?»
— Не знаю и знать не хочу, — отмахивалась она, чувствуя подвох.
— Вы не правы, очень даже не правы, ибо анекдот этот поучителен и забавен в одно и то же время. Когда графиню Штепанскую, пригласившую в гости Бетховена и Пфушини, спросили, кого из двоих она считает более значительной фигурой, она состроила умную мину: «Их нельзя сравнивать; каждый хорош по-своему; они дополняют друг друга».
— Поговорим о музыке и женщинах! Давайте, милостивая государыня, проделаем опыт. Обладающую гениальными способностями к музыке девушку отправим учиться в консерваторию, после этого лишим ее какого бы то ни было мужского общества и через десять лет посмотрим, что получилось. Она забросит рояль и обзаведется кошкой. Забросит рояль, потому что на музыку не останется времени, обзаведется кошкой, потому что не будет знать, куда девать время.
Когда она снова стала твердить о превосходстве женщины над мужчиной, он сказал:
— Я бы с удовольствием согласился с вами, если бы сами женщины в момент, когда за их поведением никто не наблюдает, не твердили о большей ценности мужчин.
— ?
— Точно, точно. Когда женщина, шесть раз подряд неудачно разродившись девочками, производит наконец на свет мальчика, она поднимает такое победное кудахтанье, будто родила мессию. И все особы женского пола в округе торопятся прийти и подобострастно услужить удивительной сверхдевочке. Как будто «мальчик», «малыш», «мальчуган» — одно из чудес света. Из мессии потом, если повезет, вырастет кантональный советник.
Таким образом, он в самом деле без труда достиг того, чего и ожидал достигнуть, а именно: глубочайшего, основательнейшего, искреннейшего отвращения к своей особе. Уже не «Ррр! Шшш!» издавала она, увидев его, а «Ох» и «Ой», как при виде грязного земноводного. А он ликовал, словно одержал над ней бог весть какую победу. «Теперь ты видишь, — смеялся он про себя, — насколько равнодушен я к тому, что ты обо мне думаешь!» И он весело сравнивал: «Ты хотел освободить ее от лягушек, а теперь и сам стал лягушкой».
«Виктор, теперь я и сам начинаю думать, что ты сошел с ума». — «Еще одна причина для сумасшествия», — смеялся он.
Однажды на улице, собираясь повернуть за угол дома, он услышал позади себя голос:
— Лама!
Когда он в ярости обернулся, голос продолжал:
— Тебе незачем оборачиваться; это я, твой рассудок, называю тебя Ламой.
— По какому праву ты называешь меня так?
— Потому, что ты прилагаешь дьявольские усилия, чтобы добиться прямо противоположного тому, к чему стремишься.
— Но я ни к чему не стремлюсь.
— Стремишься, и я могу сказать тебе, к чему. Ты надеешься, не признаваясь себе в этом, так оконфузить и разозлить неопытную дамочку, что она потеряет самообладание и однажды в слепой ярости вдруг бросится тебе на шею, как слепень.
— Предположим, это так; но так ли уж ложен мой расчет? Уже не раз случалось, что женская ненависть внезапно оборачивалась любовью.
— Вздор чистейшей воды, — ответил рассудок, — но поступай как знаешь, я тебе не гувернантка.
Виктор, однако, смутился, охваченный сомнением. Лишившись уверенности в себе, он в замешательстве вернулся домой. Обсудив с невидимым духом свою ситуацию, он испугался, у него пошла кругом голова: он зарвался, вступил на ложный путь. Бесспорно, рассудок прав, ненависть Псевды не из тех, что оборачиваются любовью. Безотрадное открытие. Двигаться в том же направлении не имело смысла; у него была отнята тайная надежда на внезапное
преображение, и теперь не имело смысла разжигать ненависть Псевды, это лишь увеличивало бы дистанцию между ею и им. Да, но что же делать? Вернуться к истокам и начать все сначала? Сперва благонравно и мягко унять ее гнев, затем постепенно преодолеть отвращение, излечить от антипатии и потом терпеливо, шаг за шагом, ступенька за ступенькой добиваться ее милостивого расположения? «Почему бы и нет! Как я об этом не подумал! Но тогда мне придется дать отставку чувству собственного достоинства. Да и времени на это у меня нет. Так далеко мы, слава Богу, еще не зашли!»... Да, но если не это, то что тогда? Выхода не было, как он ни старался найти его. Вдруг он топнул ногой: «Кто заставляет меня думать о ней? Какое мне дело до того, преобразится она или нет? Я ей не исповедник и не духовный пастырь. Или она полагает, что я даю ей частные уроки по психологии? Дразня ее, я оказывал ей слишком много чести. Прежде чем я снова окажу ей внимание, ей придется попросить меня об этом. А пока убирайся прочь, я тебя не знаю. Госпожа Вюсс — кто она такая? Обитает в воде или гнездится на деревьях? Питается зерном или насекомыми? Милостивая государыня, вы когда-нибудь видели, как прыгает блоха с ногтя? Вот так и вам придется выпрыгнуть из моей памяти. Раз — два — три! Готово; ничего больше нет. Псевда, ты не существуешь».
Сказав эти слова, он повернулся на каблуках: ловко же я обвел ее вокруг пальца! О, как легко было теперь у него на душе, когда он забыл это вредное существо! Точно у него вырвали больной зуб! Что же делать со свалившейся на него свободой? Перед ним открывались тысячи возможностей. «А не влюбиться ли в кого-нибудь для разнообразия?» И по возможности в темное, неразвитое создание, чтобы позлить и унизить ее, когда она об этом узнает (а в этой провинциальной дыре она наверняка узнает обо всем). Ну, например, в официантку. С этой целью он, преодолевая свое отвращение к алкоголю и его служительницам, отправился в ближайший трактир. Девушку, которая его обслуживала, звали Памела. Он силком усадил ее рядом с собой и стал осыпать комплиментами, переходя, в соответствии с испытанным приемом, от одной части ее лица к другой. Некоторое время Памела внимала ему, уютно устроившись на стуле, как улитка под теплым майским дождем. Но вдруг, сердито зашипев, как кошка, которой наступили на хвост, нырнула за полку с сыром. «Старый дурак, невежа!» — обругала она его. Ах, вот оно что, он нахваливал ее жемчужные зубки, а зубов-то у нее уже и не было. Он так и не заметил этого.
На третий день к нему, вся сияя дружескими чувствами, подошла на улице госпожа Вюсс. Ай, какое внезапное превращение! Что бы это значило? «Кажется, вас можно поздравить! — лицемерно сказала она. — Когда назначена свадьба с Памелой?»
«Ах ты, лукавая чертовка!»
Он ожидал совсем не такой реакции.
Что ж, с любовью ничего не вышло. Он верно предположил сразу по прибытии сюда: на этой каменистой почве любовь не произрастает. Попробуем, может, получится с дружбой. Для этой цели особенно подходил некий Андреас Виксель, архивариус, потому что его на дух не переносила госпожа Вюсс; она называла его Андреасом в шорах. Вот к этому-то Андреасу он вдруг ни с того ни с сего почувствовал глубокую нежность, не откладывая навестил его и подружился с ним, тронутый его зашоренным видом. Виксель, в свою очередь, был растроган внезапно вспыхнувшими дружескими чувствами Виктора, и, чтобы освятить свой дружеский союз, они договорились совершить в следующее воскресенье после обеда прогулку на Гуггисвайд. Взобравшись на гору, они бесконечно долго, до самого вечера, взирали на город внизу под крики игравших в кегли членов какого-то спортивного союза и заунывную музыку духового оркестра; Виктор молчал, словно воды в рот набрал, Виксель же упрямо нес что-то о различии между Гёте и Шиллером, да таким ужасным языком, что хоть уши затыкай. Ничего не помогало, Псевда могла говорить что угодно, но он действительно был зашоренным Андреасом, этот Виксель.
С мужской дружбой, стало быть, тоже ничего не получилось. Тогда что-нибудь другое. Театр? Фи, какой может быть театр в этом городишке! Да и вообще он не театрал. Может, концерт? Ладно, попробуем. Но, о горе, во втором ряду сидела она, и все инструменты вдруг стали издавать фальшивые звуки. Визиты вызывали в нем отвращение, так как его повсюду спрашивали о некой госпоже Вюсс. «Что новенького у госпожи Вюсс? Когда вы видели ее в последний раз?» И тому подобное. Уставясь взглядом в потолок, он мучительно вспоминал: «Госпожа Вюсс, директорша? Где-то я слышал эту фамилию». Его даже на улице останавливали, спрашивая о самочувствии госпожи Вюсс, которой ведь просто не существовало. Он, разумеется, знал, что есть навязчивые особы женского пола, но он и мысли не допускал, что бывают такие прилипчивые, привязчивые репейники, как эта так называемая директорша Вюсс. О, этот городишко, в котором постоянно спотыкаешься об одних и тех же людей, а если не о людей, то об их имена! Где искать спасения от этой злосчастной, вездесущей супруги директора? Надо бежать за город, подальше отсюда, туда, где ни одна коза о ней не знает.
А что, почему бы и нет? Зачем тогда существует железная дорога? Он вспомнил, что однажды услышал из ее уст восклицание: «Странно, но я еще ни разу в жизни не была в Ленгендорфе». Следовательно, это селение не вызовет в нем воспоминаний, оно свободно от Псевды. И он отправился по железной дороге в Ленгендорф. Прибью туда, он позволил себе, чтобы как следует насладиться сознанием ее несуществования, разыграть маленькую изощренную комедию. Едва выйдя из вагона, он отправился к начальнику вокзала и с изысканной вежливостью попросил его об услуге. Он-де прибыл в Ленгендорф, чтобы навестить некую госпожу Вюсс, директоршу; не будет ли он так любезен и не объяснит ли, как найти эту даму. Начальник вокзала удивился, покачал головой и призвал на помощь кассира, тот позвал сторожа, сторож позвал батрака из Хиршена, батрак — кучера из Шторхена. Никому из них имя госпожи Вюсс, директорши, не было известно. В разговор вмешались дежурный полицейский и стоявшие рядом люди. «В Ленгендорфе, — гласил единодушный сочувствующий приговор, — госпожа Вюсс не живет». При этом на лицах у всех было написано сожаление. Виктор же в душе ликовал. «Теперь ты видишь, заносчивая, назойливая особа, люди здесь даже не знают о твоем существовании; почему же тогда ты важничаешь сверх меры?» Честные ленгендорфцы, не знавшие даже имени госпожи Вюсс, были ему по душе; с обаятельной доброжелательностью, как прибывший инкогнито принц, он очаровывал всех, кто встречался на его пути. Весь день он разыгрывал из себя великодушного императора; причем не просто напоказ, нет, он и в самом деле всей душой любил их, этих добрых, славных, почтенных ленгендорфцев, которые не знали даже имени госпожи Вюсс. А восхитительные окрестности, куда не ступала ее нога! Эти приветливые, заросшие лесом холмы, которые она ни разу не окидывала взглядом! Этим воздухом легко дышать, вы разве не чувствуете? Он так усердно нахваливал климат Ленгендорфа, что владелец трактира в Шторхене, куда он заглянул в надежде заполучить к себе богатого иностранного промышленника, шепотом пообещал ему скидку, если он решит следующим летом подлечить в Ленгендорфе легкие. Виктору с трудом удалось уговорить трактирщика взять плату за обед. Когда он вечером уезжал, все в деревне были его друзьями, от доктора и священника до трактирного слуги и дворового пса. Он ехал домой растроганный и счастливый, ему редко доводилось испытывать такое безоблачное блаженство. Нет, он до сих пор явно недооценивал деревенских жителей.
Еще весь под впечатлением от идиллического дня, он, вернувшись в город, пробирался сквозь толпу на вокзале. Вот досада; опять она собственной персоной, стоит и разговаривает с профессором Пфинингером, и блаженства по поводу ее несуществования как не бывало.
«Ну-ка, законы природы, где вы? Что говорит об этом логика? Если она не существует, значит, я не могу ее видеть; если же я ее вижу, значит, она существует; но она ведь не существует, как же я могу ее видеть? Задачка для софиста!.. Я же знаю только одно средство: запереться у себя в комнате; сквозь замочную скважину она вряд ли сюда доберется!» Он запер за собой дверь, лег на диван и сложил на груди руки. Через некоторое время в комнате возникла светлая туманность; туман стал сгущаться, из него выступило человеческое лицо, оно становилось все отчетливее и красивее, смотри-ка, это же ее лицо.
— А теперь, Псевда, — мягко, но серьезно сказал он, — я обращаюсь к твоему чувству справедливости. Мне нечего возразить против твоего отвращения и ненависти ко мне; я отдаю тебе улицы, город, весь внешний мир; но уважай мой домашний покой; ты не должна навещать меня в моей комнате.
— Но послушай, Виктор, — наставительным тоном заговорил рассудок, — она же не собственной персоной здесь, просто сестрица фантазия показывает фокусы.
— Могла бы придумать что-нибудь поумнее, — недовольно заметил он.
— Я показываю то, что хочу, — капризно заявила фантазия, — голова Псевды мне нравится; если ты другого мнения, можешь не смотреть, никто тебя не заставляет.
И она продолжила свою игру, так что Виктор в своей комнате постоянно, с редкими паузами, видел витающую вокруг голову Псевды, особенно по вечерам, когда наступали сумерки. Что тут было делать? Казалось, он был обречен всегда и везде видеть перед собой эту заносчивую, навязчивую пустоту. В конце концов это еще не самая страшная помеха; у других в комнате бывают комары, у него — Псевда; все дело в том, чтобы не раздражаться по этому поводу. И он поступил мудро — примирился с фактом ее вездесущности.
И вдруг, как взрыв гранаты в доме, до него донеслась весть, что она больна. Это случилось вечером, около семи часов; весть принесла служанка. Придя в себя от потрясения, он ощутил страшное волнение и смятение чувств, точно вдруг оказался посреди муравьиной кучи. Как вести себя в этой ситуации? О сердечном участии, разумеется, не могло быть и речи; нет, ни в коем случае! Она — его злая недоброжелательница! Предательница «второго пришествия»! Отравительница Имаго! С другой стороны, он был просто обязан выразить ей искреннее сочувствие, ведь она, несмотря ни на что, в этот момент была существом страдающим. Где тут четкая разделительная линия? Как найти золотую середину? Трудная задача для чувства, к тому же и опасная; стоит ему выразить Псевде сочувствие чуть горячее, чем следует, и все будет выглядеть так, будто она небезразлична его сердцу; если же сочувствие будет недостаточно искренним, он покажется бездушным, достойным ненависти человеком. Задача была настолько трудна, что он до полуночи ломал себе над ней голову, и не продвинулся вперед ни на шаг. А вдруг, к несчастью, болезнь окажется серьезной? Если, наконец, и вообще... Но нет, это было бы дьявольской шуткой судьбы — заставить его с помощью таких гнусных фокусов отнестись сердечно к этой предательнице. Вторую половину ночи он провел в молитве, робко прося у судьбы исцеления Псевды, чтобы ему не пришлось быть добрым к ней. Из-за этой напряженной душевной работы он на следующее утро был так разбит, что с трудом поднялся с постели.
Отказавшись от завтрака, он поспешил на Мюнстергассе.
— Наместник, как дела у вашей жены? Надеюсь, ничего страшного? — преисполненный страха, спросил он уже с порога.
Наместник удивился.
— С какой стати? Она же не больна. Так, слегка разболелись зубы... Но почему вы называете меня наместником?
— Ничего, ничего, — радостно воскликнул он и с легким сердцем поспешил уйти; судьба, стало быть, услышала его молитву. Но зубная боль хотя и не опасна для жизни, но очень мучительна. «Стоп! Славная мысль, просто великолепная! Вопреки состоянию войны, в котором я нахожусь с Псевдой, в благодарность за то, что она не заболела, я тоже отвечу ей любезностью (ведь и войну можно вести по-рыцарски). Итак, вот что: пока она страдает от зубной боли, я тоже буду страдать, причем от той же самой боли — зубной. Правда, славная мысль? Замечательно! Это ли не учтивое ведение войны?» Он отправился к зубному врачу Эффрингеру, к дому которого он, к сожалению, уже знал дорогу. Позвонив, он попросил удалить ему вот этот и этот зуб.
— Но этот зуб совершенно здоров! Вы, очевидно, имели в виду коренной зуб рядом? Его, во всяком случае, не жалко.
Виктор терзался угрызениями совести: прилично ли делать так, чтобы боль пошла тебе на пользу? В конце концов он все же решился удалить не здоровый, а больной коренной зуб.
Когда Эффрингер подступил к нему с веселящим газом, совесть в Викторе проснулась во второй раз: «Стыдись! Ты пришел сюда, чтобы разделить с ней боль; а сам трусливо хочешь ее избежать».
И Виктор устыдился, но при виде ужасных щипцов он решил, что лучше все же не отказываться от утоляющего боль газа. Чтобы как-то успокоить свою совесть, он попросил вырвать еще один коренной зуб, тоже дуплистый и тоже с помощью веселящего газа.
Потом, по дороге домой, он никак не мог решить, какой поступок он совершил — достойный уважения или нет. С одной стороны, дать вырвать себе два зуба только потому, что другой человек испытывает зубную боль, — дело отнюдь не заурядное, с другой стороны, два больных зуба не такая уж большая жертва, а за то, что он терпел боль с помощью болеутоляющего, его вряд ли отнесут к лику святых мучеников.
Однако он внезапно почувствовал легкую усталость и слабость; ему захотелось куда-нибудь присесть. Как человеку, не привыкшему ходить по ресторанам, мысль заглянуть в один из них не пришла ему в голову, и он не придумал ничего лучшего, как, несмотря на неподходящее время (было чуть больше девяти), воспользоваться гостеприимством одной своей знакомой. Дом госпожи Рихард был по пути. Он попросил извинения и сослался на недомогание. Обеспокоенная его состоянием, она принялась хлопотать вокруг него, уложила на диван, заставила выпить рюмку малаги, которая и впрямь подкрепила его силы, он хотел было уже поблагодарить и удалиться, но она уговорила его остаться. «Вы все еще немного бледны; уверяю вас, вы мне ни капельки не мешаете»... Примерно через полчаса вошла в шляпе и пальто бойкая, излучающая бодрость духа девушка.
— Эта милая девушка должна показаться вам особенно симпатичной... ее все без исключения находят симпатичной, не так ли?., но я говорю особенно симпатичной, потому что когда-то госпожа Вюсс спасла ей жизнь. — И она представила вошедшую:
— Фрейлейн Мария Леона Планита, лучшая пианистка нашего города, и в то же время, как вы могли заметить, очаровательнейшее создание, которое когда-либо сводило с ума мужчин.
— Да, без госпожи Вюсс я бы не стояла перед вами, — подтвердила фрейлейн Планита, и лицо ее осветилось благодарностью, — и не делала так много глупостей в жизни и ошибок в октавах. Да, — засмеялась она, — она моя крестная мать.
Госпожа Рихард коротко рассказала ему о том, что произошло. Это было, когда Мария училась в школе; купаясь, она попала на глубокое место, и красавица Тевда (уже тогда все ее так называли) вытащила ее из воды.
Она прыгнула в воду не раздумывая, прямо в одежде, словно это было для нее самым естественным делом, — добавила фрейлейн Планита. — Я все еще вижу перед собой ее глаза, они смотрели на меня, когда я барахталась в воде и не могла закричать, так как уже набрала полон рот воды. Я еще не успела умереть, как снова оказалась живой. Но как же плохо мне было потом! Ужасно плохо, уж вы поверьте... Да, музыка — вещь замечательная, я первая должна с благодарностью признать это, но вся музыка в мире несравнима со взглядом ее прекрасных глаз в тот момент, когда она крикнула мне: «Держись, Мария Леона, я помогу тебе». Полдюжины девочек купались совсем рядом, им стоило только протянуть мне руку, но ни одна ничего не заметила, я так и ушла бы под воду... А из нас двоих никто не умел плавать, ни я, ни Тевда. Как мы тогда не утонули обе, я и поныне не могу понять.
Когда Виктор слушал эту историю, сердце его напоминало крестьянина, перед плугом которого вдруг упал метеорит. И как это госпоже директорше удается демонстрировать столь благородное самопожертвование? Быть может, всю свою злость она приберегла только для меня одного? Но почему именно для меня? Сотни мыслей стремительно проносились в его голове, но он пока был не в состоянии к ним прислушаться; он только смотрел и смотрел на это юное, бойкое существо, которое, не будь госпожи Вюсс, уже тлело бы в гробу. И когда фрейлейн Планита стала прощаться, он напросился в провожатые, чтобы еще какое-то время побыть с этой осененной чудом девушкой.
— Вы позволите проводить вас домой, фрейлейн Лазарь?
— Да, «фрейлейн Лазарь», именно так и следовало бы меня называть, — засмеялась она.
— О, теперь я спокойна за нашего Виктора, — пошутила госпожа Рихард, — тот, кто вызывается проводить домой красивую девушку, уже здоров.
Проводив фрейлейн Лазарь домой, Виктор продолжал думать о своем. Если бы тонул я, мне она руку не протянула бы! О нет! Она стала бы швырять камни в мою голову! Но стоп! Кто это там идет? Не ошибся ли я? Нет, это и впрямь она — Псевда собственной персоной. Судя по виду, здоровая и веселая, на лице нет и следа болезни. Странно, можно подумать, что, пожертвовав двумя зубами, я смягчил ее страдания. Вздор, конечно, но в принципе тут нет ничего невозможного. Памятуя о своем похвальном жертвоприношении, он приближался к ней чуть увереннее, чем обычно. Он почти ожидал от нее хотя бы маленькой благодарности. Но она окинула его отсутствующим взглядом, сделала вид, что не узнала его, отвернулась и, наклонившись, до тех пор внимательно разглядывала шляпку в витрине модного магазина, пока он не прошел мимо.
«Ладно! Продолжай в том же духе! Теперь она со мной уже и не здоровается! Этого еще не хватало!» — И, царственным жестом протянув вперед руку, добавил: — «Так тебе и надо! Таковы люди! Из-за нее ты ночи напролет мучаешься, не спишь, а она не удостаивает тебя даже приветствием!» И таким низким показалось ему ее поведение, что он с благородным равнодушием выбросил его из памяти. И все же она вела себя возмутительно. Возмущение будоражило его душу, с каждым шагом становилось все сильнее, горестные мысли доставляли ему почти физическую боль, казалось, в его исполненной гнева душе поворачивают острый нож. Вот уж действительно: все злое предназначалось ему, все доброе — другим. Если подумать, то и впрямь нужно быть бесконечно подлым, чтобы бросать камни в утопающего! Эта злая мысль не выходила у него из головы. Но хуже всего было другое: именно теперь, когда он узнал историю фрейлейн Планиты, она показалась ему значительно красивее, чем обычно.
Внезапно при воспоминании о происшедшем в нем возникло сомнение: «А не улыбнулась ли она вероломно, когда окинула меня отчужденным взглядом? Этот взгляд показался мне подозрительным».
Весь день он не мог прийти к тому или иному решению. Но когда вечером в темной комнате ему, как обычно; снова явилась голова Псевды, сияя ярче обычного, он смог окончательно убедиться: за ее отсутствующим взглядом таилась коварная улыбка.
В нем вспыхнул гнев. «Что означает эта улыбка? — с угрозой в голосе воскликнул он. — Улыбка — язык двусмысленностей; я требую честного признания. Псевда, приказываю тебе сказать, почему ты коварно смеешься надо мной?»
Вместо ответа он за лукавой усмешкой увидел язвительную ухмылку, которая становилась все шире и шире.
От этого он впал в неистовство. «Злая женщина! Не насмехайся надо мной! Хватит того, что ты преследуешь меня своей ядовитой ненавистью, преследуешь ежедневно и ежечасно, не давая ни минуты покоя, бросаешь в меня камни, когда я тону; но не насмехайся надо мной, прошу тебя, не насмехайся, я запрещаю тебе это». Но язвительная ухмылка осталась, словно он и не говорил ничего, более того, над сияющим насмешливым лицом появилось, словно поднятое невидимой рукой, маленькое победное знамя.
— Почему ты ликуешь? — закричал он. — Разве ты одержала надо мной победу? Я об этом ничего не знаю! Прошу тебя, во имя хорошего вкуса сделай мне одолжение, опусти вниз этот дурацкий победный клочок материи!
Но все осталось как было, будто он и не просил ни о чем. К маленькому победному знамени добавилась новая злорадная выходка: язвительная ухмылка из ее глаз переместилась к уголкам губ и превратилась в нахальный злорадный оскал. Этот оскал принимал все больше и больше дьявольское выражение. В конце концов человеческое лицо преобразилось в сатанинскую рожу с рогами и клювом, в некоего адского пересмешника, который, однако, сохранял прекрасные черты Псевды.
Для привыкшего к ясности ума Виктора это было уже слишком.
— Сгинь, призрак! — крикнул он и ударил его. Призрак рассыпался на куски и разлетелся во все стороны. Но постепенно отдельные его части стали возвращаться, маленькое победное знамя из одного угла, дьявольская птица-пересмешник с рогами и клювом из другого, прекрасное человеческое лицо Псевды из третьего; все эти части так больше и не соединились. Вместо одного призрака перед Виктором теперь было три. От ужаса у него кровь застыла в жилах. «Виктор, что это? Не сошел ли ты с ума?» Напряжением ума он подверг проверке свое здоровье. «В чем симптом безумия? В том, что призраки принимаешь не за порождения фантазии, а смешиваешь их с реальностью. С тобой происходит то же самое?» — «Ни в коем случае; я прекрасно понимаю, что передо мной всего лишь фантастические видения, только мне никак не удается прогнать их усилием воли, потому что я наделен сверхмощной фантазией».
«Ладно, пусть ими занимается твоя фантазия, а сам забудь о них».
Он успокоился и лег спать.
На следующее утро, когда он открыл глаза в залитой ночным мраком комнате и его сознание начало медленно просыпаться, когда из тумана мыслей проступили воспоминания, он снова увидел перед собой вчерашние видения: маленькое победное знамя, насмешливый оскал дьявольской птицы, прекрасные черты Псевды.
«Неужели так и будет продолжаться?» Да, все так и продолжалось. Смыслом его жизни теперь, секунда за секундой, стала борьба с фантазией, опровержение призраков, пугливая забота о том, чтобы не спутать видения с действительностью. Напряженная, ужасная работа, не допускавшая ни одной посторонней мысли. Но самое безутешное заключалось в том, что работа эта была необходимой и в то же время бесполезной; необходимой, чтобы избежать сумасшествия, бесполезной, потому что все, чего удавалось добиться за час мучительного труда, в следующий час шло прахом. Будто ничего и не было; с утра до вечера его окружало адское трио, не ведая жалости, не давая ни минуты передышки. Оно не исчезало, а, наоборот, вырастало до огромных, чудовищных размеров. Ночью оно скалилось из темных углов комнаты, днем появлялось в окне, на крышах, на холмах, выглядывало отовсюду.
С ума он не сошел, но впал в бешенство. Случалось, он бегал по лесу, вопя от гнева, или же ни с того ни с сего злобно ощеривался на мирно беседовавшего с ним человека, потому что между ним и этим человеком появлялся призрак. В нем, со всех сторон затапливая сознание, безостановочно тек черный поток, в котором плавали красные пятна, будто из раны струились кровавые чернила.
Однажды вечером он почувствовал, что не в силах выносить усталость. «Я просто не могу больше, я не знаю, что мне делать».
Ему вдруг показалось, что рядом с ним возник красивый мужчина и положил ему руку на плечо. «Виктор», — произнес он всего одно слово.
Виктор с озабоченным видом взглянул на красавца, опустил голову и подпер ее руками. «Я буду великодушен, — пробормотал он наконец, — это единственное, что мне остается».
«Да, будь великодушен, — утешил его красавец, — все остальное, будь то безумие или что-то еще, — дело второстепенное».
После этих слов черный, с кровавыми пятнами поток из раны иссяк. Но призраки по-прежнему упорно не отступали.
Это началось в четверг. А в субботу утром он увидел ее на улице, она шагала немного впереди, от него ее отделяли другие люди. «А, наконец-то я нашел тебя! — вздохнул с облегчением он и алчно припустился за ней бегом. И тут он увидел направленный на него взгляд красавца-мужчины: «Не волнуйся! Никаких резких слов и неподобающих замечаний! Только взгляни в глаза коварному врагу, который преследует тебя из невидимой засады».
Догнав ее, он застыл, от изумления потеряв дар речи. «И это она?» Сжавшаяся до жалких размеров, до смешного маленькая, росточком всего-то в метр восемьдесят шагала она впереди; и ничего сверх того, никаких призраков, никакой игры зеркальных отражений, никаких чудовищ. И какая безвкусная шляпка у нее на голове! До чего жалкое явление!
Отныне он нашел талисман против ее дьявольских фантасмагорий. Стоило ему представить ее себе во плоти, как все ее волшебство исчезало. Должно быть, она боялась его: коварство чаще всего сопряжено с трусостью. Поэтому он как можно чаще приходил к ней домой и не отводил от нее угрожающего взгляда, таясь, следил за ее лицом, как кошка за мышиной норкой. «Смотри-ка, ты не уверена в себе!» — наслаждался он ее беспомощностью. Его, собственно говоря, удивляло, каким образом она производит на свет своих призраков, ему хотелось узнать это; не каждый же день можно увидеть, как женская головка превращается в птичью голову. Чтобы захватить ее врасплох, он время от времени, когда она этого меньше всего ожидала, бросал на нее молниеносный взгляд. Но все было напрасно, она действовала еще быстрее.
Но призраки, увидевшие, что их разоблачили, и понявшие, кто их настоящий хозяин, оставили свою забаву, появились еще несколько раз, без особой убедительности, чтобы спасти свое лицо; наконец они исчезли совсем.
Это могло продолжаться еще бесконечно долго.
Но однажды вечером, в присутствии еще одного гостя, но в отсутствие наместника, она, исполнив несколько ненужных, оставивших Виктора равнодушным песен, решила спеть другому гостю и ту песню, которую она когда-то пела для Виктора в часы «второго пришествия». Она сделала это без злого умысла, для нее песня ничем не отличалась от остальных. Он же почувствовал, как сердце его зашлось от безумной боли: предстояло осквернение его святыни. «Запачкать нетленное сокровище «второго пришествия» нелепой подмалевкой! Спеть песню без чувства, со скуки, да еще в моем присутствии. Показать могилу Тевды, моей сестры, моей невесты, чужаку! Что это — дьявольская злоба или потеря человеческого облика?» И без того не отличавшийся красноречием, он в минуты наивысшего возбуждения и вовсе терял голос. С немым ужасом следил он за тем, как она достала и равнодушно положила на пульт нотную тетрадь, ту самую, только теперь немного пожелтевшую по краям. Но когда она приготовилась петь, он, вскочив со своего места, заставил себя заговорить:
— Эту песню вы не станете петь! — Он собирался жалобно умолять ее об этом, но боль и возмущение изменили шедший из глубины души голос, превратили его просьбу в категорическое приказание.
Ее лицо покраснело от негодования.
— Хотела бы я знать, кто осмелится запретить мне петь то, что я хочу?
— Я, — простонал он.
Только теперь ей по-настоящему захотелось спеть эту песню — назло его дерзкому запрету. Она открыла рот и в самом деле запела песню «второго пришествия»; она действительно пела ее, безжалостно, бесконечно долго, от первой ноты до последней. А он вынужден был сидеть и терпеть. Он нашел в себе силы сдержаться и сидел неподвижно. Но едва она кончила петь, как он придал взгляду крайне оскорбительное выражение, встал, подошел к ней и глазами выразил свое презрение.
— Остановись! — пригрозил ему ее взгляд. — Если с ваших уст сорвется одно-единственное непочтительное слово...
Нет, так больше не могло продолжаться; надо было принять какое-то решение. И он с любопытством, но безрезультатно стал спрашивать об этом у своей интуиции.
ВИКТОР СДАЕТСЯ
Снег выпал неожиданно рано, на дворе еще стоял октябрь, и по этому случаю «Идеалия» устроила санную вылазку; на обратном пути завернули в лесной трактир. С удовольствием выпив чаю, Виктор, как и другие гости, пошел искать сани, на которых он ехал; кучер, который вез Виктора вместе с Псевдой и двумя другими господами, показал кнутом вперед:
— Ваша жена сидит теперь в передних санях.
Видимо, потому, что Виктор и Псевда постоянно пререкались, кучер счел их мужем и женой.
— Подождите минутку, — пылко воскликнул Виктор, достал торопливо кошелек и сунул в руку кучера золотой.
Кучер поднес монету к свету фонаря.
— Это же золотой, — изумленно, почти с упреком сказал он.
— Я знаю. Это вам.
— Но за что?
— За то, что среди тысяч жителей этого города вы единственный разумный человек.
С этими словами он сел в сани и до конца поездки не произнес больше ни слова.
Приехав домой, он сразу обратился за советом к своему рассудку.
— В последнее время я уделял тебе слишком мало внимания. Пожалуйста, не сердись на меня и помоги мне.
— Я вообще никогда не сержусь, — ответил рассудок. — Чем могу служить?
— В возбуждении я совершил кое-что неожиданное для себя. Это кажется мне подозрительным. Скажи прямо, что бы это значило?
И он поведал о случае с золотым.
— И ты действительно хочешь услышать правду?
— Правду в любом случае. Только не лгать самому себе, только не это.
— Ладно, тогда садись и слушай. Но подумай как следует, не совершаю ли я ошибку. Итак, я начинаю. Подарив кучеру золотой за то, что он счел Псевду твоей женой, ты хотел вознаградить его, не так ли?
— Само собой.
— Но раз ты хотел вознаградить его, это говорит о том, что его ошибка была тебе приятна.
— Может быть.
— Не «может быть», я требую точного ответа. Да или нет?
— Ну хорошо, пусть будет да.
— Не «пусть будет да», а коротко и ясно: да или нет?
— Да.
— Хорошо. Я продолжаю. Но если ты, бедняга, посчитал, что ошибочное мнение постороннего человека, к тому же совершенно равнодушного, чужого, какого-то кучера, будто Псевда приходится тебе женой, стоит золотого, то это говорит о том, что ты был бы безумно счастлив, будь Псевда и в самом деле твоей женой.
Виктор с проклятиями вскочил со своего места, гневно протестуя против этих слов, но рассудок спокойно заметил:
— Что ж, если хочешь слушать только то, что тебе по нраву, купи себе лакея. Прощай, я ухожу.
— Нет, прошу тебя, останься, я не хотел тебя обидеть. Значит, ты полагаешь, что это возможно? Вздор! Нельзя любить того, о ком ты низкого мнения.
— О ля-ля! Еще как можно! Любить того, о ком ты низкого мнения, — банальный удел мужчины. Кстати, это ведь вовсе не факт, что ты о ней низкого мнения; да, ты этого хочешь, но тебе это не удается. И никогда не удастся, потому что втайне ты восхищаешься ею; да и не можешь не восхищаться, ибо ты не ослеплен и не настолько несправедлив, чтобы не заметить ее достойных восхищения качеств. Но к чему эти разговоры? Покажи мне, в чем я ошибаюсь.
Виктор чувствовал себя как человек, который при отменном здоровье обнаруживает у себя на нижней губе маленький странный гнойничок, и какая-то сатанинская сила нашептывает ему: «Надеюсь, это все же не рак!» — «А почему бы и нет?» И он без промедления отправляется к доктору, чтобы тот как следует высмеял его, но доктор принимает загадочный вид: «Хорошо, что вы пришли вовремя; пока можно обойтись маленькой операцией».
Впав в уныние, он предпринял отчаянную попытку опровергнуть диагноз.
— Такое не случается вдруг, должны же быть и другие признаки, более ранние.
— Они есть, — ответил рассудок. — Вспомни, к примеру, тот вечер у доктора, когда ты, точно вор, прокрался в столовую, чтобы съесть апельсин, который она надкусила.
— Ребячество!
— Согласен. Но именно то, что из-за нее ты впадаешь в ребячество, служит для меня симптомом. Или у нее дома, когда ты замер перед открытой дверью ее спальни — помнишь? — и служанка спросила: «Вам, наверно, плохо, раз вы так вздыхаете? Хотите, я принесу вам стакан воды?»
— Неужели я в самом деле вздохнул? Не помню.
— Охотно верю; вздохи чаще всего вырываются непроизвольно; но мне кажется, служанка вряд ли их выдумала... А однажды ты назвал трубочиста Псевдой, на что он ответил: «Вы, должно быть, ошиблись; меня зовут не Псевда, а Август Хюрлиман».
— Это доказывает, что я был рассеян, только и всего.
— Это доказывает, что ты не способен думать ни о чем другом, кроме Псевды... А носовой платок, который ты у нее стащил и потом лицемерно помогал его искать, почему ты всегда носишь его в кармане? Готов побиться об заклад, что он и сейчас у тебя. Что, покраснел?.. И потом эта дурацкая история с зубной болью!.. И вообще, почему у тебя так мерзко на душе? Куда девалась твоя веселость? Почему у тебя лицо, точно у рыбы на крючке, которую тащат на берег? Почему ты ссоришься со всеми и набрасываешься на людей, точно страдающий ревматизмом майор? Да потому, что тебе чего-то недостает. То, чего тебе недостает, можно назвать одним словом: Псевда. Ну вот, теперь ты знаешь правду, о которой спрашивал.
После этого разговора Виктор несколько часов сидел, ни о чем не думая, ошеломленный обрушившимся на него открытием. Затем он взял себя в руки.
— Пусть придет гордый рыцарь, — приказал он своей душе.
Позвякивая оружием, появился рыцарь, за ним шел лев.
— Явился по вашему приказанию. Слушаю.
— Тревога! Между нами оказался перебежчик; презренный, отрекшийся от служения Имаго, любезничающий с недостойной земной женщиной. Будь настороже, и доставь ко мне первого, кто начнет кокетничать с некой Псевдой, то есть с директоршей Вюсс.
— Слушаю и повинуюсь! — воскликнул гордый рыцарь и, звеня оружием, удалился вместе со львом. Вскоре лев появился снова, держа в зубах лишившегося чувств кролика.
— Вот кто виноват, — прорычал лев, бросил кролика на пол, повернулся и вышел.
— Так я и думал, — сердито сказал Виктор, — конечно же, опять сердце, этот глупый кролик, от которого все мои беды.
И, приподняв кролика за уши, задал ему головомойку:
— Наивное, безмозглое создание, неужели ты не понимаешь, что сам себе готовишь ад? Возьми на заметку и выучи пять параграфов безрассудной любви; они настолько просты, что понять их способен даже дождевой червь.
Параграф первый. Ни одна женщина в мире не потерпит, чтобы ты полюбил ее первым; сначала должна полюбить она, добиваясь твоей ответной любви как неслыханной милости. «Я не могу постичь, поверить», что-нибудь в этом роде. Иначе она будет мучить тебя. Им нравится, когда их мучают, но если ты не мучаешь ее, то она будет мучать тебя. Для этого ей вовсе не надо быть злой, просто она не может по-другому, это закон природы. Ты знаешь, что такое закон природы? Это нечто такое, чего нельзя изменить ни рогами, ни когтями. Понял? Отвечай?
— Пи-и, — пискнул в ответ кролик.
— Вот именно, пи-и. Надо было так и поступать. Параграф второй. Сердце замужней женщины жаждет быть завоеванным снизу, супружеской изменой. Но я этого не хочу; ты тоже не хочешь. Итак, что отсюда следует? Отвечай.
— Пи-и, — ответил кролик.
— Параграф третий. Если ты мог жениться на женщине и не сделал этого, все равно по какой причине, пусть даже и самой благородной, она всю жизнь будет презирать тебя... В-четвертых, вызвать любовь в сердце довольной жены и счастливой мамаши столь же невозможно, как и чувстве голода в сытом желудке. Скажи «пи-и».
— Пи-и.
— В-пятых. Когда дама терпеть тебя не может...
— Пи-и.
— Да подожди ты с твоим дурацким пиканьем, пока я не закончу фразу.
Но тут кролик выскользнул у него из рук и ускакал, вереща от страха.
— Ах ты! — крикнул ему вслед Виктор. — Ну, берегись! Если ты еще хоть раз затянешь свою сентиментальную песню... — И улыбнулся, довольный. — Этому я показал, как следует, больше он и не пикнет.
Желая иметь полную уверенность, он сделал больше, чем требуется: предпринял обход Ноева ковчега своей души, с самого верхнего этажа до подвалов бессознательного, направо и налево раздавая предостережения и указания. Благородных животных он уговаривал, обращаясь к их самосознанию, рассказывая им о будущей славе и триумфах, в отличие от жалкой роли, которую они играли бы в качестве несчастного возлюбленного директорши Вюсс. Животных помельче он заманивал сластями, напоминая о прежних любовных наслаждениях и обещая еще более изысканные, если потерпят еще немножко; под конец он велел льву рыкнуть в глубину ковчега:
— Ну, теперь все согласны?
— Все.
— Хорошо, в таком случае ведите себя прилично и не спускайте глаз друг с друга.
После обхода он успокоился. Но это был покой страшного напряжения, когда над труднодостигнутым равновесием витает страх. Так Атлант, подпирающий спиной свод и страдающий от чудовищного напряжения, сомневается, а не лучше ли было бы, если свод обрушился и мучения прекратились.
Спустя сутки, когда день сменился ночью, а следом за усталостью пришел отдых, он немного привык к напряжению; боль отупляла, мучения уже не казались невыносимыми, одурманенное сознание становилось менее чувствительным к опасности; только какое-то глубинное чувство неблагополучия говорило о грозящей беде, это было похоже на то, как если бы человек спрашивал себя: «Я заболел или это мне только кажется?»
Три последующих дня не принесли ничего, что внушало бы опасения. Напротив, с наместником, который встретился ему по дороге и затащил в пивную, он спокойно, по-деловому, словно это его никак не касается, обсудил вопрос о том, чем античная любовь отличается от чувственной любви нового времени и каковы причины этого отличия. Нет, кто на это способен, тот не болен любовью. Он вспомнил с улыбкой, как у наместника невольно вырвалась фраза: «Факт в том, и я могу вам это подтвердить, что с обладанием, например, в браке, подлинная, настоящая любовь в поэтическом смысле кончается». Ай-ай-ай, наместник! Еще один чересчур разборчивый, пресытившийся паша! Правда, он, одумавшись, в испуге попытался взять назад необдуманные слова. «Я, разумеется, имею в виду только неискреннюю любовь; искренняя, настоящая любовь в поэтическом смысле сохраняется и в браке, — поправился он. — Напротив, в браке она только начинается». Странно, но ему было совершенно все равно, что или кого любит или не любит наместник. Рассудок и впрямь без всякой на то причины охладил его страсть. Жаль только, что из-за этого пришлось пообещать наместнику прийти к ним в пятницу на ужин. Вот так и принимаешь приглашения, когда ты в подавленном состоянии: на три четверти невольно и на четверть по принуждению.
В ночь с четверга на пятницу — он весь день работал и после ужина вышел немного прогуляться — его выдал сон.
Ему приснилось, что Псевда носится по своей спальне, одна нога у нее в чулке, другая голая. «Где мой чулок? — сердито кричит она. — Помоги мне найти чулок, лентяй! А, снимем и этот! Пусть ищет своего собрата». Она села на пол, сняла чулок и подбросила его вверх. Оба чулка летали под потолком, кружась, точно крылья ветряной мельницы. Потом на какое-то время все спуталось. Внезапно она оказалась рядом с его кроватью, на ней была короткая детская рубашка. «Ну-ка, подвинься!» — приказала она, подтолкнула его к стене и легла рядом. Широко раскрыв глаза, он удивленно спросил: «Разве ты не замужем за наместником?» «Я? За наместником? Что за странная мысль взбрела тебе в голову? Хорошенькая вышла бы история! Мне пришлось бы лечь к нему в постель! Фу! Фи!» Он вздохнул с огромным облегчением, как человек, которого помиловали на пути к эшафоту. «Значит, это правда? Ты и в самой деле моя жена, а не жена наместника? О Господи, я все еще не решаюсь поверить в это. Что, если все окажется только сном?» «Что это с тобой сегодня, — недовольно отчитала она его. — Будь это сном, то в колыбели, вон там, спал бы не наш ребенок, а наместника. Это же ясно, как день!» «О Псевда, Псевда, знала бы ты, каким невыразимо несчастным и жалким я был, когда мне приснилось, что ты жена наместника!» «Как можно видеть такие глупые сны! — побранила она его. — Да к тому же еще и неприличные! Тьфу! Стыдись!» — Она толкнула его ногой и похлопала ладошкой по его губам.
Когда он проснулся и, проведя пальцем по обоям, понял, что дело как раз обстоит наоборот — он лежит в постели один, а Псевда с наместником — ему стало ясно, до чего он дошел; этот сон приснился ему не случайно, в нем была печаль; сон сочинила засевшая в его душе тоска. Себя не обманешь: он страдает от любви, страдает тяжело, любовь проникла в сокровенные глубины его существа. И кого выпало ему любить? О стыд и унижение! Женщину, к которой он относился свысока, чужую, безразличную ему, безымянную, женщину, которая его ненавидит. Ему, жениху возвышенной Имаго. Теперь он не рад был самому себе; лучше всего было бы и вовсе уйти из жизни. Он мрачно повернулся головой к стене и попытался ничего не чувствовать и ничего не думать. Но как только какая-нибудь мысль приходила ему на ум, стыд давил на него, точно облако, нагруженное камнями. В конце концов он решил жить; и так как здоровое тело нетерпеливо заявляло о себе, Виктору не оставалось ничего другого, как поднять это тело с кровати и поставить его на ноги. Как ни крути, а стыдно все равно, стоя или лежа.
Обескураженный и безвольный, он просидел весь долгий день, тупо размышляя о своем унижении. Ближе к вечеру он вдруг с отвращением вспомнил: сегодня же пятница, а в пятницу он обещал ужинать у наместника! Сейчас, в таком состоянии, идти туда, к ней! Мысль об этом невыносима. Но обещание неотвязно преследовало его, как собака мясника преследует теленка; и он заставил себя идти к директору.
Какой же это был грустный, незадавшийся вечер! Его не ждали, он заметил это сразу, как только вошел, он только мешал всем.
Он же, при его похоронном настроении, мог вести себя по-другому где угодно, только не здесь. Это почувствовали и остальные, что вряд ли способствовало общему веселью. Ко всему прочему он еще и музыкальную программу им испортил; правда, против воли, так как в этот день меньше всего был расположен к нападкам; однако унылое расположение духа не позволяло ему терпеливо сносить то, что было по душе другим, нет, это было выше его сил.
Вид Псевды причинял ему боль, вызывал в нем глубокое сочувствие; она безутешно смотрела перед собой, думая о своем испорченном музыкальном вечере, так безутешно, что он даже забыл рассердиться за нее. «Знаешь, бедная Псевда, — твердо решил он про себя, — потом я буду вести себя иначе; но сегодня, не правда ли, ты должна понять меня и простить; печаль моя и вправду слишком велика».
Разошлись раньше времени, разочарованные и недовольные,
Виктор забыл свой зонтик и вернулся за ним.
— Подождите, — сказала служанка, когда он уже держал зонтик в руках, — газовый рожок только что погасили, сейчас я принесу свечу.
— Ни к чему, — ответил он и уже дошел до входной двери. И тут сверху донесся голос Псевды:
— Будьте осторожны, за дверью еще три ступеньки.
Предостережение растрогало его, как солнечный лучик,
прорвавшийся с затянутого тучами неба прямо к нему в сердце, усеянный тысячами смеющихся ангелов, которые разом спрыгивали с него слева и справа. Как, тревожиться о том, чтобы с ним ничего не случилось! С ним, кого она ненавидит, причем с полным на то основанием, с ним, испортившим ей гостеприимный вечер! О великодушное благородство, о безграничная душевная доброта! И ты, слепой, слабоумный простофиля, ты смел не уважать эту возвышенную женщину. Если кто здесь и заслуживает презрения, то кто — ты или она? Ты, несчастный, ибо ты злой, а она добра. «Будьте осторожны», ты слышал? Она это сказала тебе, для тебя звучал ее голос. Как псалом под сводами храма, как колокола звенели эти слова в его сердце; вне себя от восторга бросился он от ее дома, шатаясь на бегу точно в лихорадке.
Дома, у входной двери, он повернулся в ту сторону, где жила она, и распростер руки.
— Имаго, — воззвал он к ней. — Нет, больше чем Имаго, ибо твое величие облагорожено пафосом телесности. Тевда и Имаго слились в одной персоне.
Ворвавшись в комнату, он собрал вокруг себя все население своей души.
— Дети! Восхитительная новость. Вам позволено ее любить; любить безусловно и безоговорочно, безмерно и безгранично, чем сильнее и искреннее, тем лучше. Ибо она само благородство и сама доброта.
В ответ на позволение раздались бурные, радостные крики восторга и благодарности; обитатели Ноева ковчега пустились вокруг него в пляс. Все новые толпы обитателей, о существовании которых он и не догадывался, с ликованием вырывались из глубины; они размахивали факелами, головы их были украшены венками. Улыбаясь, смотрел он на этот праздник и сам был счастлив от своего позволения; как король, который после многолетнего яростного сопротивления наконец даровал народу конституцию и на которого обрушилась нежданная народная благодарность. Тут сквозь толпу торжественным шагом прошествовала делегация во главе с гордым рыцарем в белых мирных одеяниях; льва он вел на поводке.
— Ваше величество, позвольте от имени всего рыцарского сословия поздравить вас с великодушным решением; мы уже давно считали, что оно необходимо и уместно.
— Но почему ты не сказал мне об этом раньше?
— Разве я посмел бы ослушаться строгого приказа вашего величества?
Стало быть, и гордое рыцарство ничего не имело против его любви? Отныне он был тверд и совершенно уверен в себе, к нему вернулось раскованное, веселое расположение духа. О блаженство избавления: иметь право любить, когда не любить не можешь.
ПРЕОБРАЖЕННЫЙ
С того момента, когда Псевда превратилась в Имаго, она предстала перед ним в божественном сиянии. Ведь Имаго была сверхчувственным существом символического происхождения, августейшей дочерью его Строгой повелительницы, священная певица торжественнейшего часа его жизни. Любовь Виктора была сродни религии. И — о чудо! — его божество жило недалеко, зримое и достижимое.
Правда, вера его подверглась подлому осмеянию и поношению. «Безумие! Глупость! Позор! Обыкновенная директорша Вюсс, почетный президент «Идеалии» — и вдруг в божественном сиянии! Поспеши к врачу, Виктор! Своевременно позаботься о месте в сумасшедшем доме!» Тысячи оппонентов подняли оглушительный вой: «Остановись! Поберегись! Подожди! Мы приведем неопровержимые доказательства!» Но разве хоть один верующий когда-нибудь позволил сбить себя с толку крикливыми доказательствами? «Будьте осторожны, за дверью еще три ступеньки», ликующе восклицало его сердце, и прилив страстного благоговения любви изгонял из сознания всю эту чернь: опыт, сомнения, недоверие, доказательства, всю эту коварную шайку. Каждое возражение с их стороны изгонялось, как пес из храма.
Близость возлюбленной! Горы и леса, горизонт вокруг — все было озарено ее взглядом; улицы и дороги города освятило ее преображение, окрестности — возможность ее превращения. Он чувствовал себя так, словно парил в облаках; каждый глоток воздуха нес в себе откровение; все вокруг него пускало ростки и цвело, глаза его видели красочные орнаменты, уши слышали звуки органа; малейший шум извне — стук кузнечного молота, крик ребенка, карканье вороны на заборе — действовали на него, как космическая поэма. Его так переполняло благоговение от ее близости, представление ее зримого облика, что он даже не ощущал потребности видеть ее; напротив, он предпочитал молиться на нее вблизи, но скрывшись за углом.
Его благоговение пресекла нестерпимая мысль: ее приговор тяготел над ним, как проклятие, она ведь понятия не имела о его внутреннем преображении. Этой мысли он не мог больше выносить. Правда, земной госпоже Вюсс можно сообщить об этом, устно или в письме. Ни за что на свете! Иначе ему пришлось бы заодно признаться в любви к ней, а для этого он был слишком горд и слишком умен; она-то его не любила, с ее стороны не было и намека на любовь! Стало быть, такое признание низвело бы его до жалкой роли тоскующего любовника; он же хотел быть ее благоговейным священнослужителем, а не достойным сожаления влюбленным. К счастью, ему вовсе не был нужен окольный путь обычного сообщения; он знал лучший, более непосредственный и более достойный способ связи с ней: тайное общение душ.
Итак, он повелел своей душе:
— Отправляйся к душе Тевды, ибо она и есть Имаго, и скажи ей: «Недостойный, постыдно наказанный слепотой, тот, который враждовал с тобой и преследовал тебя, мертв; перед тобой новый человек, внутренне преображенный, смиренно признающий твое величие и твою доброту, называющий тебя Имаго и благоговейно почитающий в твоем прекрасном лике символ божества». Скажи ей это и принеси мне ответ.
И душа его принесла ответ:
— Я нашла ее душу, когда та, подойдя к окну, молилась, воздев глаза к ясному, усеянному звездами небу. Обернувшись, она сурово ответила мне: «Я женщина, моя гордость — в порядочности, моя честь — в чистоте. Прочь, злодей, постоянно оскорблявший женщину дерзкими насмешками; я не поверю в твое преображение, пока ты не искупишь свою вину и не уверуешь в порядочность женщины».
Тогда он снова послал к ней свою душу.
— Покаяние, которого ты требуешь от меня, принесено; ибо я смотрел в твои глаза, они наказывали меня; я видел твой величавый лик: он проклинал меня. Вот мое признание: предо мной открылся храм, царственная жрица вышла из него, за ней шли женщины земли, как живущие ныне, так и жившие ранее, как реальные, так и рожденные воображением. Я же взирал, верил и признавался: «Верую в чистую, непорочную жену; мысль ее как песнь, дела ее — самоотверженность и жертвенность; на лице ее играет отблеск божества; следы ног ее прорастают величием и благородством; она воздевает руку — и все низменное прячется во мраке; она шествует — и солнце ликует: как прекрасна ты, женщина! Вот она склонилась над лежащим у дороги больным, чтобы утешить его, и я воскликнул: «Мудрость, покрой главу свою, на колени, добродетели, ибо добродетель цариц — сострадание». Иди же и передай ей это признание.
И пришел ответ:
— Я нашла ее душу склонившейся над колыбелью ребенка. Подняв голову, она сурово ответствовала мне: «Я верная дочь, преданная семье в любви и почитании. Прочь, злодей, презирающий моего отца и оскорбляющий моего брата! Прежде чем я поверю в твое преображение, научись почитать моего отца и помирись с моим братом».
Получив такой ответ, Виктор стал вздыхать и злиться: «Я не хочу почитать ее отца, я не хочу мириться с ее братом, ибо они враги духа, противники истины. Я же превосхожу их, возвышаясь на троне своей правоты». И он продолжал недовольно ворчать и роптать. Тогда к нему обратился рассудок:
— Можно мне сказать несколько слов?
— Говори.
— Возвыситься над другим человеком можно только тогда, когда оценишь его по достоинству, и каким бы вертопрахом ни был Курт, ты должен ставить его выше себя до тех пор, пока он не простит тебя. Не медли! Вот перо, чернила и бумага; напиши ему, вырази свое сожаление, и с ним будет покончено, а у тебя с души спадет ужасный груз.
Тут сердце льстиво заметило:
— Несмотря ни на что, он остается ее братом.
А гордый рыцарь напомнил:
— Капитану королевской стражи Строгой госпожи отнюдь не повредит, если он признает свою ошибку и исправит ее.
— Я не могу, не хочу, — в ярости скрипел зубами Виктор. Но вдруг в комнате возникло пятно небесно-голубого цвета, пятно увеличилось в размерах, раздались звуки арфы, и под эту музыку зазвучал голос, ее голос: «Будьте осторожны, за дверью еще три ступеньки».
— Имаго! — воскликнула его любовь. — Возвышенная, великодушная, благородная! Я верую.
И он в лихорадочной спешке написал Курту записку с извинениями; написал коротко и гордо, но честно и искренне, как и полагается, не жалея подобающих случаю слов.
На следующий день он получил написанную карандашом открытку без подписи: «Шумный восторг курицы в полете! Философы — клоуны университетов!! Высшее начальство — люди с причудами! Великолепно!!!»
Госпожа Келлер, которой он показал открытку, разрешила загадку: это был почерк Курта, а странные фразы представляли собой цитаты из дерзких высказываний Виктора, которые, должно быть, доставили Курту неописуемое удовольствие; все вместе означало своего рода акт примирения.
— Не правда ли, оригинально? Гениально? — восторженно воскликнула госпожа Келлер.
— Вот видишь, Виктор, — похвалил его рассудок. — Разве на душе у тебя не стало легче и свободнее? Ответь мне, пожалуйста.
— На душе у меня не только легче и свободнее; она стала возвышеннее и благороднее.
— А посему продолжай в том же духе. Сделана только половина дела, решись и на вторую половину. Научись почитать ее отца.
И Виктор сказал самому себе:
— Он был ее отцом; язык его лица родствен языку лица Тевды. Так и быть, научусь относиться с почтением к его лицу.
Он отправился в книжный магазин и купил портрет государственного деятеля Нойкома, чтобы повесить его на стену в качестве образца. Но когда он поближе разглядел уверенное в себе, исполненное внутренней убежденности характерное лицо с горящим, но ничего не выражающим взглядом, к нему вдруг вернулась прежняя насмешливость, и он поспешно спрятал портрет под стопку бумаги, прижав сверху тяжелым пресс-папье, чтобы характерная выразительная голова не выбралась наружу.
— И все же несмотря ни на что он остается ее отцом, — запричитало сердце.
— У него наверняка есть заслуги, в противном случае у ратуши не стояла бы его мраморная скульптура, — внушал Виктору рассудок.
В ответ Виктор снял со стопки бумаги пресс-папье, вытащил государственного деятеля на свет божий и действительно прикрепил его к стене, но рисунком внутрь, к обоям, а чистой обратной стороной наружу; сколько ни пытался он перевернуть листок, насмешка всякий раз не оставляла места почтению.
— Однако же я должен повиноваться желанию Тевды, — озабоченно упрекнул себя Виктор, — ибо Тевда — это Имаго. Отец ее лежит в могиле; могила — дело серьезное; что ж, попытаемся избавиться от своей насмешливости у его могилы. — И он попросил показать ему на кладбище могилу государственного деятеля. Когда он приблизился к могиле, из-под земли послышался голос:
— Кого ты ищешь?
— Дух государственного деятеля Нойкома.
— Здесь нет государственных деятелей, — отвечал голос, — а духи не имеют имени. Когда я обретался еще на поверхности земли, то был беспомощным человеком, как и все люди, бессильным существом, которое родилось, страдало, было поглощено заботами и скончалось, как и все другие существа. Я прощаю тех, кто причинил мне зло, и желаю благоденствия тем, кто меня любил. Два верных существа, мои подобия, мои дети, шли, рыдая, за моим гробом, освещая своей печалью память обо мне; я благословляю того, кто желает им добра. Если ты человек, обитающий на земле в силе и здравии, подари мне весть о моих детях.
— Дети твои живут хорошо, — сказал Виктор. — Они любимы и уважаемы людьми; и стоящий перед твоим гробом хочет дружить с ними обоими.
При этих словах образ Курта, запечатлевшийся в памяти Виктора, вдруг стал изящным и привлекательным.
— За то, что ты принес мне весть о моих детях, я заключаю с тобой благодарственный союз, — со вздохом проговорил голос. — А за то, что ты хочешь дружить с ними, — союз согласия.
Когда Виктор вернулся домой, он уже был в состоянии повернуть портрет рисунком наружу.
И снова послал Виктор свою душу к душе Тевды:
— Твое желание исполнено; я помирился с твоим братом, а с твоим отцом заключил союз. Веришь ли ты теперь в мое преображение?
И пришел ответ:
— Я нашла ее душу на крыше их дома; стоя у парапета, она считала башни и укрепления города. Обернувшись ко мне, она сурово ответила: «Я честная гражданка, всей душой преданная своему народу и своей отчизне. Прочь, злодей, высмеивающий нравы и обычаи своей родины; я только тогда поверю в твое преображение, когда ты покаешься и научишься жить в согласии со своим народом».
Эти слова вызвали у Виктора взрыв дикого гнева.
— Женщина, — воскликнул он, — ты существо хотя и священное, но бедное духом. Ты годишься в богини, но Богом быть не можешь. Умерь свои требования! Сердце мое принадлежит тебе; прими мое благоговение, очисти мою душу; но мои убеждения, женщина, оставь в покое!.. Иди же, душа, и скажи ей об этом.
И пришел ответ:
— Не будь я Тевда, прозванная Имаго: пока не научишься жить в мире и дружбе со своим народом, я ломаного гроша не дам за твое преображение.
Виктор стал бушевать и неистовствовать, он клеймил свою богиню, поносил ее, обзывая непотребными, мерзкими кличками; так разбойник поносит Мадонну, когда ему не удается ограбить почту.
— Когда тебе надоест это безобразие, — заметил рассудок, — позволь мне вставить слово. Между нами говоря, ее требование совершенно справедливо; твои политические взгляды чудовищны.
— Ты так считаешь?
— Не просто считаю, я абсолютно уверен в этом. С детских лет ты вел себя как лесной житель, а за время пребывания за границей и вовсе одичал. Бродишь по улицам родного города, как индеец, которого отпустили после обеда с работы, бродит по октябрьскому лугу. Разве это в порядке вещей? Разве такое можно вынести? Давай-ка усадим тебя за школьную парту. Видит Бог, немножко патриотизма тебе не повредит... Только не надо бояться; усвоим лишь самое необходимое; никто же не требует от тебя ораторствовать на празднике стрелков.
Произнеся эти слова, рассудок усадил Виктора за парту и принялся рассказывать ему о «народе», о том, как он чувствует, как работает, как заботится о себе, описал ему механизм свободной конституции, доказал ее глубинную связь с развитием отдельной личности и мужественного характера и в конце концов научил его видеть в политике некую разновидность идеализма; «идеализма тощего, как прут для подвязывания винограда, не спорю, но тем не менее идеализма».
Виктор покорно выслушал урок, сперва кряхтя и охая, затем все заинтересованнее. Внезапно он вскочил на ноги, глаза его загорелись.
— Я хочу изучить «Свод гражданских обязанностей».
— Вот тебе раз! Теперь ты, я вижу, готов прыгнуть в ближайший обводной ров, защищающий город. Но бравым бюргером можно быть и не зная «Свода гражданских обязанностей».
Однако Виктор был непреклонен:
— Разве можно быть истинным гражданином, не зная своих обязанностей?
Он бросил рассудок на произвол судьбы, пошел и купил «Свод гражданских обязанностей», занял, у кого смог, старые тексты конституции и книги по истории города, и чем суше в них все излагалось, тем лучше было для него; он подписался на городской вестник, читал в нем речи советников («немного высокопарно, господа! Но тем лучше, пригодится для самоистязания»); он слонялся по собраниям древностей, подолгу застывал перед ветхими стенами и стропильными фермами, ожидая, когда на него подействует дух отцов, и в каждом крестьянине, ведшем на рынок бычка и очень озабоченного тем, как бы не упустить свою выгоду, он видел своего собрата и согражданина.
Когда он, довольный собой, послал к ней, чтобы сообщить о своем превращении в демократа, ответ был неблагосклонным.
— Нужна активная деятельность! — бесцеремонно приказала она.
— Активная деятельность! — возмущенно повторил он. — Как грубо, как невежливо это сказано, меня будто локтем в бок толкнули. Она забывает, что мое преображение целиком и полностью опирается на мою добрую волю; стоит разок пренебрежительно пожать плечами — и ему придет конец. Похоже, ей хочется дрессировать меня с помощью кнута.
Но гиена, прыгнув сквозь три обруча, прыгнет и через четвертый, хотя и хищно оскалит при этом зубы. Когда подошли следующие выборы, он взял бюллетень для голосования.
— Слушай, лесничий, дай мне совет. Я хотел бы удовлетворить свой гражданский долг — или так не говорят? — но, к сожалению, не знаю никого, кто разбирался бы в политике. Посоветуй, за кого мне голосовать?
— Да, но прежде скажи мне, кто ты — консерватор или либерал?
— А чем они отличаются друг от друга?
— В двух словах не объяснишь.
— Кто из них поддерживает учение церкви?
— Скорее консерваторы.
— В таком случае я либерал.
И он проголосовал соответственно. Но душа Тевды все еще была недовольна. «Это не внутреннее убеждение», — ответила она.
— Не внутреннее убеждение? — возмутился он. — «Я покажу тебе, что такое внутреннее убеждение».
И он устроил против своей богини такой чудовищный бунт, что внутри у него все клокотало, как в клетке с хищными животными перед кормежкой.
— Изображаешь из себя Нуму Хава? Ладно, тогда терпи, если я во всю ширь разину пасть.
Но вот однажды — он отнюдь не собирался это делать, все произошло само собой, вырвалось, как сноп огня из клокочущего вулкана, — он в слепой ярости набросился на двух фатоватых юнцов, язвительно остривших по поводу проходившей мимо группы солдат. Он еще ошарашенно стоял на месте, не зная, стыдиться ему этой дикой выходки или гордиться ею, а душа Тевды, благосклонно улыбаясь, уже подбадривала его из-за плеча: «Вот теперь то, что надо, Виктор, я очень рада». И его тут же окружило бескрайнее лазурное небо, усеянное бесчисленными головками Тевды, которые благосклонно ему кивали.
Тем самым его мучительное покаяние было наконец услышано.
Просветленный, заслуживший прощение, посвежевший и радостный благодаря великому очищению, Виктор широко распахнул двери своему сердцу:
— Вперед, сердце! А я-то полагал себя мудрецом, а в тебе видел жалкого кролика! Все не так, все наоборот! Я был глупцом, ты же оказалось мудрейшим из всех нас. И не только потому, что ты с самого начала признало в ней Имаго; тебе я обязан своим покаянием и преображением. А потому ты отныне не презренная собачонка, отверженная и оскорбляемая, а наш общий вождь, наш повелитель. Приказывайте, ваше величество, ваши повеления и желания будут исполнены.
— Я свободно! — радостно возликовало сердце. — До сих пор мне, будто ворованному щеглу, затыкали рот; теперь же в отместку я буду любить, любить до последнего вздоха.
— Это тебе не возбраняется, — согласился Виктор. — Но помни, Тевда — это Имаго, возвышенная и благородная. Если твоя любовь будет запятнана желанием, не смей касаться ее, чистой, своей нечистой любовью.
— Мне нечего скрывать от тебя, — ответило сердце. — Возьми фонарь и освети мои сокровеннейшие уголки.
Виктор так и сделал: осветил сокровеннейшие уголки своего сердца. Когда испытание было закончено, он воскликнул:
— Твоя любовь смиренна и безмятежна. Люби же ее, люби до последнего вздоха.
Сердце его вздохнуло и мечтательно сказало:
— Мне хотелось бы тайно быть с ней, все время жить рядом с ней незамеченным, где бы она ни была, каждый час, каждую секунду, с раннего утра до позднего вечера.
— Быть по-твоему, — разрешил Виктор. И сердце сделало так, как сказало: жило незамеченным рядом с ней с раннего утра до позднего вечера, с утреннего приветствия, когда открывают ставни, до пожелания спокойной ночи после трудного дня. Когда она садилась к обеденному столу, оно кивало: «Кушай и будь здорова», а когда она собиралась куда-нибудь пойти, оно шептало: «Надевай не это платье на каждый день, а новое, светлое, изысканное, ибо ты мила и прекрасна; а это значит: где бы ты ни была, там всегда праздник».
И опять сердце вздохнуло и мечтательно сказало:
— Мне бы хотелось погрузиться в ее собственное сердце, к истокам ее чувства, и оттуда полюбить все, что любит она сама, начиная с ее мужа и ребенка и кончая цветком на ее окне.
— Да будет так, — сказал Виктор.
И сердце сделало, как сказало: погрузилось в сердце Тевды до самых истоков ее чувства, и полюбило все, что любила она сама, и сказало ее мужу: «Брат, у тебя есть друг, о котором ты не знаешь, помощник, о котором ты не догадываешься; что бы ни готовило тебе будущее, я с тобой, я приду тебе на помощь». И оно сказало ее ребенку: «Твои ножки еще нетвердо стоят на земле, твои глазки видят все нечетко. Но не бойся: я предохраню тебя от ложного шага, ты не причинишь себе вреда». Цветку на окне оно сказало: «Цвети прилежно, весели ее своими яркими красками, услаждай ее своим ароматом и помни: твои ветви распускаются в ее комнате».
И снова сердце вздохнуло и мечтательно молвило:
— Мне хотелось бы стать благословением и, подобно духу Божьему, направлять ее шаги, ободрять ее в минуты уныния, отводить от нее любую беду, поджидающую на пороге.
— И это верно и законно, — разрешил Виктор, — быть по сему.
И сердце сделало, как сказало: превратилось в благословение. С первыми бледными еще утренними лучами оно целовало глаза Тевды: «Петухи уже проснулись; вставай и не бойся, тебя ждет радостный день». А если она была не в духе, сердце говорило: «Вздор! Тебе нечего печалиться, ибо ты даришь людям радость и блаженство». Беду, притаившуюся за порогом, оно отгоняло словами: «Стой! Кто здесь? Ты ошиблась! Этот дом неуязвим, ибо в нем живет Тевда-Имаго».
— Ну вот, сердце, — воскликнул Виктор, — я дал тебе все, чего жаждала твоя любовь. Ты удовлетворено? Или желаешь еще чего-нибудь?
— Я никогда не удовлетворюсь, — ответило ему сердце, — ибо моя любовь рождает любовь; чем больше я люблю Единственную, тем сильнее мне хочется любить ее. Видишь, я окружило ее нынешний образ своим благоговением, теперь мне хочется сделать то же самое и с ее прежним образом; я хочу вызвать в своем воображении ее поблекший облик, увидеть его таким, каким он был раньше, от дней ее девичества до дней детства, а от детства до момента, когда она появилась на свет, когда душа ее только зарождалась, прежде чем начать свою земную жизнь. Но мне одному это не под силу; прикажи своей фантазии вознести меня к этим высям.
— Ладно, — согласился Виктор, — быть по-твоему.
И он приказал фантазии:
— Слушай, непутевая, бесполезная птичка! Ты все время занималась глупыми проделками, обманывала меня призрачными видениями, и я совершил множество безумных поступков. Докажи, что ты можешь приносить пользу. Ты слышала, чего ждет от тебя мое сердце? Смелее расправь свои крылья и подними мое предчувствие над миром, вознеси его к питомнику душ.
— Вот то, о чем я всегда мечтала, — ответила фантазия, заливаясь радостным смехом. — Ведь там, в горних высях, мой дом.
С этими словами она смело расправила крылья и вознесла его предчувствие над миром, к овеянному мечтами питомнику душ. Там, отыскивая щупальцами любви тропинку, по которой ее душа когда-то спускалась на землю, Виктор пытался оживить ее былую жизнь, благодаря творческой фантазии вызвать из прошлого первые годы, прожитые ею на земле, в лесах ее родины увидеть отблеск ее девических лет, поклониться скалам, которые, возможно, впервые открылись ее изумленному взгляду. Перед ним открылись заново сотворенные ландшафты с видами на потусторонние миры; слабые проблески света и плывущие облака нездешнего происхождения вселили ужас в его душу. Действительность исчезла, время склонилось к его ногам.
Утомленные лицезрением множества невиданных чудес, его слабый человеческий разум, его уставший от полета дух запросили пощады. «Хватит! Достаточно!» Но фантазия сердито взмахнула крылами. «Не зря же я забралась на такую высоту; здесь я дышу полной грудью, здесь хочу парить. Ты хотел ощутить, как зарождалась ее душа, так имей мужество вынести и торжество этой души». И, поднимаясь все выше, она открыла дрожавшему Виктору, несмотря на его мольбы и сопротивление, лицо грядущего — нежеланное, навязанное извне, но неистребимое: он узрел юношу рядом с девушкой, их слившиеся воедино души вобрали в себя все души мира, и в бесконечном пространстве не было ничего живого, кроме этой пары. Этот юноша и эта девушка шли по небесной лужайке, что-то шептали друг другу, заглядывая в глаза с такой нежной любовью, в сравнении с которой любовь отдельных людей на земле выглядела недостойной обезьяньей забавой.
— Какое мне дело до этого юноши и до той девушки? — сердито прервал Виктор свое сердце. Но тут ничем не примечательное лицо девушки вдруг обрело черты Имаго.
Так развлекался Виктор игрой со своей заново рожденной любовью. Его сердце забавлялось превращениями земной, телесной Тевды, а фантазия с заоблачной высоты доставляла к нему светлый облик Имаго. Свою игру он называл любовью, свое выздоровление — милостью. И так как любовь его была прекрасной и чистой, благоговейным служением без всяких плотских желаний, а фантазия беспрерывно, полными охапками, осыпала его все новыми и новыми открытиями, то он начал задыхаться от восторга, ему хотелось петь, и он то издавал ликующие прерывистые возгласы, то что-то тихо напевал про себя, иногда сильно растягивая нежные, мелодичные звуки. А то вдруг он принимался неопытной рукой разрисовывать вкривь и вкось лист бумаги, и его ликующие возгласы вплетались в линии на бумаге, точно цепочки нотных знаков. Но в словах его блаженная жажда пения не нуждалась.
— Не помешал? — послышался по-отечески заботливый голос наместника; после нескольких ни к чему не обязывающих вводных фраз он затеял какой-то научный разговор, перескакивая с одной темы на другую, со смущенной миной, будто не решаясь сказать о главном. Наконец он нерешительно выдавил из себя:
— Как вы давно уже знаете, четвертого декабря «Идеалия» отмечает годовщину своего основания. По этому поводу я тоже... как бы точнее выразиться?., сочинил нечто вроде пролога ... несколько скромных, непритязательных стихов (пятистопные ямбы, перемежаемые анапестом), в форме диалога, противопоставляя старую культуру новой... Не согласитесь ли вы... я подумал о вас, так как в качестве партнера мне нужен высокообразованный человек (в тексте, само собой, будут греческие и латинские цитаты)... если вы, разумеется, согласитесь, я бы представлял древнюю, а вы новую культуру... но, как я уже сказал, вам предоставляется право выбора, вы можете выбрать любую роль, если вообще у вас на это найдется время и будет желание...
Когда Виктор согласился представлять любую культуру, наместник облегченно вздохнул.
— Да, чуть не забыл, моя жена чрезвычайно рада вашему примирению с моим шурином, она спрашивает, почему вас давно не видно.
А ведь верно, ему только сейчас пришло в голову, что, занятый служением божеству, он совершенно забыл о самом божестве. У него не возникало желания увидеть Тевду; правда, теперь, когда она сама напомнила о себе, он позволил себе уговорить: надо — значит надо.
Отправляясь несколько дней спустя на Мюнстергассе, он чувствовал себя новообращенным язычником, идущим к первому причастию: его то обуревал страх, то подгоняла вперед решимость. Он, разумеется, не мог утаить от себя, что в глубине души у него еще гнездилось глупое упрямство, но обращение в другую веру было искренним, покаяние основательным, а любовь — чистой; ну да Бог милостив. К тому же теперь и Курт на его стороне.
Она встретила его благосклонно (влияние Курта? Или на лице Виктора читалось благоговение?), без малейшего намека на былую враждебность; одним-единственным размашистым движением кисти было стерто воспоминание о прежнем разладе. Она рассказала ему о дальней родственнице, которая внезапно скончалась прошедшей ночью, рассказала как бы между прочим, попутно, не прекращая приготовлений к празднику «Идеалии». Пока она говорила, из ее глаз по щекам скатилось несколько слезинок. Он незаметно протянул руку и подхватил их, словно то была святая вода. Поговорили еще кое о чем; под конец она дружески протянула ему на прощание руку; первый раз после «второго пришествия».
Работа над прологом (древняя и новая культура) вынуждала его часто заходить к наместнику; когда деловая часть визита подходила к концу, он оставался у них в доме еще на четверть часика и чаще всего сидел молча, следя за ними ласковым взором дядюшки, который тайком включил их в свое завещание. При этом он тешил свою любовь тем, что не спускал глаз с движений Тевды и выражения ее лица: новообращенному теперь все казалось внове. И поскольку он видел ее в естественной позе, такой, какой она обычно бывала, а не так, как раньше, — в позе оборонительной, то он, радуясь всем сердцем, обнаружил наряду с ранее замеченными ее достоинствами множество новых. Радуясь всем сердцем, ибо каждая из ее добродетелей служила оправданием его безумной любви и опровержением затаившихся упреков. Ему уже не надо было отгонять от себя сомнения; наоборот, он призывал их, чтобы насладиться их посрамлением.
— Идите же сюда, придиры, не спускайте с нее глаз, можете даже надеть очки: видите, как приветливо обходится она с прислугой? Не вы ли без конца твердили, что по тому, как человек обходится с подчиненными, можно судить, добр он или зол? А потому сознайтесь: она добра.
— Она добра, это так.
— А вот она подает милостыню нищему, не снисходительно, а как равный равному. А потому согласитесь: она милосердна.
— Согласны, она милосердна.
— Не торопитесь, вам еще во многом придется со мной согласиться! Вы заметили, что ее лицо ни разу не исказилось завистью, когда расхваливали красоту другой женщины? Что в ней нет и следа кокетства, и комплименты других мужчин, включая мои собственные, она просто не замечает, а если и замечает, то не обращает на них внимания, они ей в тягость? Вам не бросилось в глаза, что из всех людей, удостоившихся чести общаться с ней, нет никого, кто не отличался бы честным нравом? А ее скромность, ее верность долгу, ее глубокая преданность своему ребенку? Пожалуйста, опровергайте меня, если можете.
— Никто и не собирается оспаривать ее многочисленные достоинства, но то, что ты относишься к ней, как к божеству...
— Довольно! Ни слова больше! Кто и сейчас сомневается, тот затаил в душе зло.
И все же, как бы восторженно ни убеждал он себя в ее совершенстве, телесное присутствие Тевды, скорее, раздражало его, чем радовало. Раздражали не ее человеческие слабости — он знал, что она человек, и любил ее за это, — а некоторая небрежность ее внешнего облика, не всегда соответствовавшего его желаниям и запросам. Иногда она позволяла себе безразличное выражение лица, малопривлекательную, не соответствовавшую ее образу позу, вялый взгляд, короче, она не была собой каждую минуту, не была беспрерывно, с утра до вечера, Имаго, и иногда в его душу закрадывалось подозрение, что она даже не осознавала свою задачу — служить символом для его фантазии. А тут еще эти мерзкие черные бархатные ленты на ее домашнем платье, двойной ряд снизу, у самой каймы, и еще один сверху, у самого горла, вокруг выреза. Нет, Имаго в костюме хористки на празднике стрелков, будто собирающейся надеть венец невесты-девственницы, это, на его взгляд, было уже слишком, о такое спотыкалось его благоговение. Это и другие подобные обстоятельства рождали в нем смятение чувств, и он предпочитал быть с ней наедине в своей фантазии.
Зато он навещал от случая к случаю ее друзей и знакомых, членов «Идеалии», чтобы на их приветливых лицах увидеть отблеск Тевды; и каждый раз, когда упоминалось ее милое имя, будничная беседа освещалась светом, точно зажигалась волшебная спичка, в пламени которой сияла яркая звездочка. Но сам он произнести ее имя не решался, он краснел даже тогда, когда произносил слово «Мюнстергассе».
Однажды он таким образом встретился с Куртом. Тот поспешил ему навстречу, радостно оскалив зубы: «Кто занимается всеми искусствами сразу, тот, как проститутка тело, продает свою душу первому встречному подмастерью! Ужасно, отвратительно, но великолепно!» А полчаса спустя, когда Виктор, возражая против объединенных морализаторских поползновений священника и наместника, заявил: «Религия, озабоченная моралью, недостойна того, чтобы честный человек тратил на нее свои умственные силы», Курт подошел к нему и спросил приветливо и скромно: «Когда мы сможем поговорить без посторонних?» С тех пор Виктор и Курт, встречаясь в обществе, неизменно подсаживались друг к другу.
Конечно же, в «Идеалии» очень скоро заметили утешительные перемены, происшедшие во взглядах Виктора; они слишком бросались в глаза. Человек, который раньше вел себя заносчиво, придирался ко всем и обращался в бегство, как только кто-нибудь собирался открыть крышку рояля, который своим язвительным смехом превосходства мог расстроить любой разговор, теперь не только внимал с широко раскрытыми глазами длиннейшим тирадам на семейные темы, но и время от времени восклицал: «Быть не может!», «Да что вы говорите!», «В самом деле?», справлялся о школьных успехах детишек, спрашивал, переболела ли Гертруда оспой, выздоровела ли Мими, более того, он по собственному почину умолял спеть ему «что-нибудь». Короче, он вдруг, словно по мановению волшебной палочки, стал приветливым, приятным человеком. Но в первую очередь возбуждали радостный интерес его нынешние здравые взгляды на прекрасный слабый пол. Неужели это был тот самый Виктор, который теперь позволял себе изрекать такое: «Только благопристойные женщины могут считаться поэтичными, но ни в коем случае не легкомысленные; поэзия женщины — в преданности, имя же распутной женщины — себялюбие». Или такое: «Беспутная бабенка своей черствостью превосходит даже самую бездушную поборницу нравственности». А! И я это сношу! Все должно бы звучать по-другому! К сожалению, иногда содержавшееся в его высказываниях назидание сводилось на нет фразой, посланной вдогонку. Так, после восторженных похвал добродетельной женщине, похвал, которые мог бы спеть пятиголосый хор с оркестром, он добавлял: «Но к чему мне, скажите на милость, добродетельная женщина?» С его обращением в новую веру не все еще было в порядке, то тут, то там возникали затруднения. Но готовность к покаянию была налицо, а ожидать немедленного совершенства во всем, думается, вряд ли стоило. Кое-кто уже начал шепотом выражать надежду, что со временем Виктор мог бы стать и тенором в хоре.
Но многое ли зависело в это напряженное время от Виктора, да и от любого человека в отдельности? Юбилей «Идеалии» приближался, всеми овладело предпраздничное настроение. Наконец великая неделя стала реальностью, невероятной, но в то же время бесспорной реальностью.
Накануне празднества благодаря необычайно мягкой погоде (одиннадцать градусов по Цельсию в тени), а также из-за того, что никто не мог заниматься другими делами, как бы само собой устроилось предпраздничное гулянье; часть членов «Идеалии», среди них в качестве гостя и Виктор (остальные почти все дамы), договорились собраться после обеда на лесной опушке за городом; к сожалению, без госпожи Вюсс, занятой предпраздничными приготовлениями. Отведав пирога, веселая компания затеяла игры на воздухе, особенно охотно играли в «салочки», раз, два, три — и бегом от одного дерева к другому; прирученный Виктор носился среди дам «Идеалии», как волк среди ягнят в раю. Среди многих горожан, которых солнечный денек заманил в лес, была и госпожа Штайнбах; она удивленно наблюдала за прелестной игрой, ей казалось, что это масленичный карнавал. Виктору было стыдно перед ней, и он старался спрятаться от ее пытливого взгляда за стволами самых толстых деревьев. Но стыд стыдом, а когда занят тем, что тебе по душе, о нем забываешь. Постепенно он осмелел и выбегал к деревьям, стоявшим у самой кромки леса, ничуть не заботясь о том, что за ним следят умные глаза подруги.
В самый главный день, начиная с восьми часов вечера, в зале музея начала вполне удовлетворительно осуществляться тщательно составленная и прилежно выученная программа. Сначала был пролог, который представляли наместник и Виктор (древняя и новая культура); как шутливо заметил священник, старая культура продемонстрировала свое решительное превосходство над новой; дело было в Викторе, которому еще ни разу в жизни не удавалось выучить наизусть десять стихов. Затем, после выступлений певцов, настала очередь торжественного представления, написанного Куртом. Но случилось, вызвав замешательство, непредвиденное! Между нимфами и водяным должен был проплыть медведь; но в самый последний момент аптекарь Ретелин прислал драгоценную медвежью шкуру обратно: он очень сожалеет, но надо успеть на ближайший поезд — внезапно заболел отец. Все расстроены, только Курт, которого это касается в первую очередь, на удивление спокоен; можно обойтись и без медведя, утешает он свою общину, правда, несколько натянуто, он тоже раздосадован случившимся. В этот момент к нему подошел, смеясь, Виктор:
— Должно быть, это не такое уж трудное искусство, господин Нойком, немного порычать по-медвежьи. Если нужна моя помощь... — сказал он и под аплодисменты окружающих напялил на себя шкуру; рычал он и в самом деле неплохо, насколько позволял ему его слабый голос.
Представление завершал загадочный номер: когда занавес раздвинулся, все увидели на сцене лесные заросли и среди них куклу в человеческий рост — блестящую бабочку из золотой бумаги. Госпожа Вюсс, почетный президент «Идеалии», спела три строфы, намекающие на превращение; затем дотронулась до куклы волшебной палочкой; оболочка свалилась, из нее вместо бабочки показались покачивающиеся усики, прикрепленные к голове, а потом и сама Идеалия, любовно украшенная цветами и венками. Идеалией назвали одаренную, прелестную девочку-сироту, которую госпожа Вюсс и госпожа советница Келлер взяли под свое покровительство и воспитывали за свой счет. Девочку назвали так в честь союза «Идеалия», и она, стараясь не посрамить свое идеальное имя, отлично училась в школе. Идеалия прошепелявила, встряхивая усики на голове, несколько рифмованных слов благодарности, несколько раз грациозно присела, после чего дамы, осыпая девочку поцелуями, увели ее со сцены, чтобы тайком в уголке одарить подарками. На этом торжественная часть праздника закончилась; начался бесконечный танец избавления от колдовства, танцевали с прелестным созданием, Идеалией, в то время как само это создание, несмотря на свой юный возраст, уже строило глазки Курту. Но и Виктор пользовался вниманием, в награду за свое участие в празднике и за любезное согласие помочь. Почти ни одна пара не проплывала мимо него (ибо сам он не испытывал желания танцевать), не удостоив его комплиментом или игривым намеком на его медведя или его новую культуру, не всегда остроумным, но всегда любезным. Самым остроумным даже удавалось ловко, точно лассо, брошенной мыслью связать медведя с культурой: «Мне кажется, медведь больше подходит для старой культуры, чем для новой». Или: «Уж не хотели ли вы с вашей новой культурой рассказать нам сказочку про бурого медведя?»
Потоки простодушной благожелательности омывали его со всех сторон, так что он даже устыдился столь мало заслуженного расположения. От смущения в его сердце вдруг рождались умиление и признательность, которые потоком устремлялись к этому благонравному народу и затем третьей волной возвращались к нему, наполняя его совершенно новым, до того неведомым ему счастьем — счастьем единения с народом. Он, закоренелый нелюдим, познавал теперь, благодаря всеобщему благожелательству, счастье товарищества. Насмехайся сколько хочешь, госпожа Штайнбах! Они не светочи мировой истории, согласен; но они — славные, добрые люди, а это главное.
Примирившись с собой и со всем миром, он не представлял себе, что с ним случилось и как он вынесет эту тысячеголосую гармонию. И когда он уже на следующее утро получил письмецо — возможно ли? от нее!! — первое в своей жизни, переизбыток блаженства причинил ему настоящую боль. Письмецо, правда, не содержало ничего особенного, по крайней мере для души; просто она просила его оказать ей услугу и спросить в музее, не нашелся ли там ее веер. Но ведь это были строки, написанные ее рукой; и сверху было написано: «Высокочтимый господин», а снизу «Ваша Тевда Вюсс». И хотя он говорил себе, что это всего лишь формулы вежливости, его возвышала и пьянила мысль, что она сочла возможным титуловать его «высокочтимым господином». С подписью же он проделал хитрый фокус: аккуратно вырезал ножницами два первых слова, отделив их от третьего; получилось «Ваша Тевда». Это значит — моя Тевда; тем самым она признает, что принадлежит мне. Он спрятал поддельное признание в капсулу цепочки от часов. «Вот теперь она, можно сказать, моя собственность», — ликовало его сердце.
Душу его переполнило блаженство, от радости ему хотелось выкинуть какую-нибудь глупую шутку, но он не мог придумать какую. Иногда он вставал перед зеркалом и корчил рожи или подражал голосам животных и разным говорам; у него это считалось вершиной веселья. Нет, серьезно, он и впрямь не знал, хорошо ему или плохо, настолько невыносимо счастливым он себя чувствовал.
СКОРБЬ
Однако в один прекрасный день он узнал: каково ему — хорошо или плохо.
Он как-то встретил ее во второй половине дня у госпожи Рихард, супруги доктора; она была в веселом расположении духа и, как и он сам, склонна к безобидным шуткам; короче, в тот день они «понимали друг друга». За доверительной беседой о пустяках они задержались дольше, чем намеревались, они точно приросли к месту благодаря взаимному расположению душ.
Отзвук гармонии сбил его с толку, и на улице, когда она приветливо протянула ему на прощание руку, у него вырвался наивный вопрос:
— Разве сейчас вы не пойдете со мной?
— Разумеется, нет, — весело ответила она, — надеюсь, что нет.
— И куда же вы пойдете?
— Что за вопрос! Домой, к своему мужу и своему малышу, они проголодались и ждут обеда.
— А я? Я, стало быть, не в счет?
— Ну почему же. Пойдемте со мной; мой муж будет очень рад.
Она ему не принадлежала! И как кот, которому влепили заряд дроби, он сбежал домой. Она ему не принадлежала! А он-то полагал, что его любовь свободна от желания! Как будто можно было любить кого-нибудь и не желать, чтобы он как можно дольше оставался рядом с тобой. Она ему не принадлежала! Хуже того: она принадлежала другому, чужому человеку! Он, правда, знал это уже давно, но впервые ощутил только сегодня, когда она оставила его, чтобы бежать к другому. И это называется у нее «пойти домой»!
Кот, получивший заряд дроби, уползает в укромное место; но дробь остается с ним, и рана, которая поначалу больше пугала, чем болела, начинает давать о себе знать. Какая неслыханная привилегия! Какое возмутительное неравенство! День за днем, год за годом другому позволено жить с ней, а ему — никогда. Ни год, ни месяц, ни хотя бы, в виде исключения, один день. Тому все, ему ничего. Тому позволено не только жить с ней, но и... прочь, мысли! У того, другого, и так имеется все, но она, живя с ним, сверх того одаривает его своей любовью и дружбой. Если он печален, она утешает его, если заболеет, она ухаживает за ним, а когда умрет, она будет тосковать о нем и после смерти; если суждено людям воскреснуть после смерти, его будет искать ее пробуждающийся взгляд. Какими такими достоинствами наделен этот самоуверенный человек, что именно на его долю выпала эта головокружительная награда? Разве он не человек, как и все? Или в нем одном сосредоточилось больше заслуг и преимуществ, чем во всем остальном человечестве?
И никакой надежды! Ничего не изменишь, сколько ни думай, ни упорствуй! Нигде ни малейшего шанса. Наоборот, каждый час, будь то днем или ночью, в дождь или в вёдро, если чем и заполнен, то без сомнения вот чем: пропасть между ним и ею он делает глубже, а узы между нею и тем, другим, теснее. Привычка, взаимопонимание, общие воспоминания, взаимные обязанности — все это ведь не убывает; напротив, умножается, накапливается. Ребенок, их объединяющий, с годами будет все больше требовать заботы и участия и, само собой, все теснее сближать родителей; не исключено также, что ребенок не останется в единственном числе, у него может появиться братец или сестрица. Почему бы и нет? Кто им запретит?
Да, он недооценил силу брака, в котором видел нечто вроде наместничества, полагаясь на возможность легкого дележа: наместнику тело, а ему, Виктору, душу! При всей своей проницательности он, человек неопытный, просмотрел главное: таинство плоти, звериную силу инстинкта, который заставляет мать жертвовать небом и землей ради бульона для своего ребенка, а женщину — отдавать мужчине вслед за телом и сердце, всей душой принадлежать тому, кому она обязана превращением из девушки в женщину и мать, кого она обречена любить, даже если он вызывает у нее презрение. Кукла, ребенок, отец ребенка — этими словами исчерпывается смысл жизни женщины. Глупец тот, кто беспокоится, любит ли его девушка, которую он хочет взять себе в жены! Не бойся! Плюнь на то, что ты ей противен, тащи ее к алтарю. Брак сильнее ненависти, прочнее любви.
Точно на эшафот тащится девушка с нелюбимым в церковь, мертвенной бледностью покрыто ее лицо, смерть угнездилась в сердце, которое принадлежит другому; а что через двадцать лет: «Радуйтесь, дети, завтра возвращается папа». «Только бы с папочкой ничего не случилось!» Другому же, горячо любимому, достанется после смерти капелька грусти, в лучшем случае вымученная слезинка. Такова сила брака.
Нет, надеяться не на что. Победить инстинкт? Глупость. Бунтовать против законов естества? Безумие. «Ты проклят навеки», — утверждала истина, и скорбь его соглашалась: «Да, так и есть».
И ему стало ясно: на том, кто сделал своим богом человека, лежит проклятие. Достойны зависти те, кто избрал себе надмирного бога, все равно кого — гневливого Иегову или чудовищного Молоха; ибо богу любой религии ведома жалость, ни один не низвергает в ад того, кто приближается к нему с любовью, ни один не скажет отчаявшемуся: «Я тебя не знаю». И будь даже кто-нибудь из небожителей бесчувствен, как камень, он в любом случае не мелочен. Между ним и тобой не встанет директор Вюсс, ты не будешь зависеть от благосклонности какого-нибудь Курта, христианская Мадонна не производит на свет кучу ребятишек, ради которых она забывает про небо и землю. Боготворить человека — это почти то же, что боготворить червя. Он ясно понимал это; вот только понимание не лечит воспаленных ран. Тебе ясно, что причина гнойного заражения крови — в крохотном комочке грязи, но воспаление тем не менее продолжается.
Но именно потому, что любовь его была возведена в ранг религии, а в символическом лице Тевды-Имаго воплощался весь мир, как в лице матери воплощается родина, он острее всего ощущал свою боль в самых благородных уголках души. Все намеки и смыслы, все огоньки, лики и блики, приходящие по мосту, который соединяет действительность с миром духа, были изранены, со следами крови; вся жизнь его исполнилась глубокой тоски, тоски по ней, тоски по общей родине каждого живого существа, тоски по самому себе. Ибо он был ею, она же — о дьявольщина, с которой ничего нельзя поделать! — не была им.
Поскольку он был человек разумный и, почувствовав боль от укуса, пытался дознаться, какая змея его укусила, то он развлекал свой ум размышлениями над загадкой бессердечности. Он знал, что занятие это бесцельное, что в итоге от него не будет никакой пользы, но, как существо мыслящее, он не мог не размышлять. Скорбь мыслям не помеха, напротив, она их подхлестывает.
— Ты проснулся? Никуда не торопишься? Можешь разрешить мне загадку: почему так происходит, что человек, которому ты отдал самое дорогое на свете, единственную отраду на земле — свою любовь, не платит тебе взаимностью?
— Соберись с мыслями и сопоставь, — ответил ему рассудок. — Если ты любишь Бога, отвечает ли он тебе взаимностью?
— Без сомнения.
— Если ты любишь папу римского, отвечает ли он тебе взаимностью?
— Трудно сказать.
— Если ты полюбишь герцогиню Арагонскую и Кастильскую, ответит ли она любовью на любовь?
— Вряд ли это придет ей в голову.
— Если ты полюбишь улитку, она отплатит тебе тем же?
— Ей это просто не дано.
— Теперь ты понимаешь, в чем дело. Чем меньше душевности, тем меньше любви. Любовь предполагает душевную полноту, черствость говорит о тупости. Точка.
— Можно точно знать и ясно понимать, что на тебя из зеркальца этой маленькой женщины смотрит всего лишь порождение твоей собственной фантазии, и в то же время томиться, словно по священному Граалю, по этой маленькой женщине, которую ты видишь насквозь, чувства и мысли которой не составляют для тебя тайны, страстно тянуться к ней, как томимый жаждой тянется к спасительному источнику! Объясни, почему так получается?
— По глупости, мой дорогой, по глупости! — рассмеялся рассудок. — Но продолжай в том же духе; это вселяет в меня надежды, что со временем из тебя выйдет что-нибудь путное.
Так беседовал Виктор с рассудком о своей беде. Беседа ни на йоту не уменьшила его страданий, скорее наоборот. Он чувствовал себя, как при зубной боли: чем больше о ней думаешь, тем сильнее она становится. А попытаешься не думать об этом, так боль заставит. Куда бы ни направил он свои мысли, везде их поджидала боль. Возносился ли он мысленно к звездному небу религии, бежал ли в сияющие эфирные сферы поэзии, везде подстерегало его проклятие, повсюду встречалось ему это злополучное милое лицо, которое преследовало его, пытаясь уничтожить прекрасным холодным взглядом.
О вы, нищие духом, не смейтесь над муками неразделенной любви! Представьте себе: мать видит, как встает из могилы ее единственный умерший ребенок, прелестный и милый, осиянный небесным светом; с криком радости бросается она ему навстречу; но ребенок, холодно взглянув на нее, отворачивается и презрительно кривит губы: «чего ей надо от меня?» Вы будете над ней смеяться? Точно так же чувствовал себя Виктор; из него вырвали самое дорогое, оно отреклось от него и бродило по миру обособленно. Это причиняло такую невыносимую боль, что иногда ему казалось: так жить больше нельзя, ибо жизнь была невыносима.
Но он был не слабоволен, а, скорее, стоек и вынослив. Поэтому он призвал на помощь свой разум.
— Смотри, как обстоят дела. Я должен жить, а жизнь невыносима. Что делать?
— Пошли, я покажу тебе кое-что, — ответил разум и повел его на бойню. — Вот теперь, думаю, ты сможешь ее выносить. — А когда они вернулись домой, он продолжил: — Видишь ли, все дело в том, чтобы не причинить себе непоправимого ущерба; поэтому ничего не делай. Стисни зубы, кричи, если не можешь иначе, только не давай воли рукам. Главное — пережить этот час. Пережил час — переживешь и день; пережил день — переживешь и год; только не делать глупостей. Мужчина с этим часом справится, если, разумеется, он не болен, а ты мужчина и ты здоров — благодаря работе. Поэтому предоставь боли делать свое дело, ни на что другое она не способна; а сам работай, ты знаешь над чем.
Он знал. И так как работа была посвящена его Строгой госпоже, могучей богине, духи-мучители прятались от ее дыхания за портьерой, откуда они, правда, время от времени выскакивали, чтобы предательски уколоть его, но так же быстро исчезали снова.
Но и самая напряженная работа не обходится без перерывов, к тому же она просто кончается, по вечерам, когда ты устал. В такие часы наскоки мучителей случались чаще и были опаснее. На полках библиотеки в строгом порядке, по годам, стояли все номера одного журнала; беззаботно перелистывая их, он вдруг отпрянул, точно укушенный змеей: один из томов вышел в год их встречи, в год «второго пришествия». С тех пор он обходил стороной любое собрание журналов.
Проходя мимо магазина женской одежды, он заметил в витрине белую юбку с зелеными пуговицами. И сразу разящий укол памяти! В дни «второго пришествия» на ней была белая юбка и белый пояс, украшенный вязью зеленых и золотых нитей.
И так без конца. За самыми безобидными предметами притаились скорпионы. Эта расческа не таит в себе никакой опасности, не так ли? Как и этот разрезной нож для бумаги? Какое коварство и притворство! Такую расческу он купил за две недели до поездки на курорт, а нож год спустя, во время «летучей свадьбы». И каждый раз раненое сердце кричало:
— Этого не может, не должно быть, это же совершенно невозможно.
— Только без фокусов! — предостерегал разум, — это есть, значит, это возможно. — И быстро расправлялся со скулящей надеждой.
И все же он в мужественной борьбе час за часом мало-помалу преодолевал дневное время, чаще все побеждая, иногда сводя схватку к ничейному результату, но никогда не терпя поражения.
Другое дело ночи! По ночам, во сне, подавленная днем, но отнюдь не сокрушенная, тоска, больше не обуздываемая работой, волей и разумом, раскованно поднималась вверх, точно столб пара из кипящего котла, когда с него снимают крышку. Ни одной ночи без сновидений и ни одного сновидения без нее. Сон всякий раз соединял его с ней, утверждая: «Истинен только я, все остальное — обман». И сновидения складывались не в отдельные законченные картины, сегодня один сон, завтра другой; нет, каждый сон был связан с предыдущим, как одна глава романа с другой; сны составляли цепь. Он, таким образом, вел прямо-таки двойную жизнь: ночью, слившись душою с ней, осиянный ее улыбкой, согретый ее ласковым взглядом, нежно болтая с ней, ведя жизнь, полную отрады и сладостного блаженства; днем безнадежное, исполненное боли существование, пронизанное скорбью безбрежного проклятия. О, лучше бы не пробуждаться, чтобы никогда не наступало разочарование! Чтобы блаженные ночные грезы служили утешением и днем!
— Если дело только в этом, — заметила фантазия, — то горю легко помочь. — И тут же, не дожидаясь его согласия, соорудила панорамный ящик с глазком. Представление началось; невозможные вещи, основанные на лжи, но вполне допустимые, если закрыть глаза на ложь.
Убогая старушка остановилась у его порога; ни следа былой красоты, разбежались друзья и поклонники, потухший взгляд просит милостыню любви.
— Конечно, ты тоже не хочешь меня знать, — жаловался ее взгляд, — теперь, когда я стара и уродлива.
Но Виктор воскликнул:
— Тевда, невеста моя, напрасно ты стараешься скрыть вечную молодость твоей красоты под заимствованной маской старости; ее выдает блеск «второго пришествия», озаряющий тебя. Отчего стоишь ты, потупив взор, на пороге? Видишь, я благоговейно преклоняю колени перед твоим величием.
— О, чудо благости! — ответила Тевда. — Сегодня, когда я стара и уродлива, одно-единственное сердце дарит мне столько любви, сколько не дарили все люди в моей прежней жизни.
— Ну как? — улыбнулась фантазия. — Нравится? — И продолжала игру.
Она лежит на больничной койке, изуродованная бубонной чумой, брошенная близкими, вызывающая отвращение.
— Далеко не приятная картина, — пожурил Виктор фантазию.
— Она и не должна быть приятной, в ней прекрасно то, что твоя любовь преодолевает даже отвращение, — возразила фантазия. И продолжала игру.
Он увидел развратную женщину, презираемую всеми, отторгнутую, оплеванную; пьяная, она валялась на земле.
— Тьфу! — возмутился Виктор. — Кончай! Какая ужасная, чудовищная картина! Это она-то — благовоспитанная, чистая, возвышенная!
— А вдруг? — прошептала фантазия. — А вдруг? Скажи честно, как бы ты поступил в этом случае? Оттолкнул бы ее ногой? Молчишь? Ладно, мне все ясно. Кстати, у меня тут есть картинки и в другом стиле. Могу показать игру прозрачными картами. Не хочешь? А жаль, ты не прав, там можно увидеть удивительные вещи. Тогда лучше что-нибудь серьезное, да? Минуточку.
И представила ее вдовой, в траурном платье.
Во внезапном приступе гнева он швырнул панорамный ящик в фантазию. Какой же безумной была его любовь, раз фантазия позволяла себе показывать ему такие чудовищные картины!
Воспоминания о том, что раньше он по собственному желанию мог поменять ад на небесное блаженство, что шесть долгих месяцев счастье, дожидаясь разрешения, терпеливо обреталось у его дверей, а также мысль, что он одним-единственным словом мог завоевать не только ее милостивое расположение (теперь это казалось ему недостижимой вершиной блаженства), но и ее личность, ее тело, ее любовь и жизнь, — все это накладывало на его мучения трагический отпечаток. Воспоминания доходили до раскаяния, но ни разу, ни на одно мгновение, не переходили в него. И слава Богу! Ибо раскайся он — и его ничто не спасло бы от отчаяния. Нет, он ни в чем не раскаивался, хотя тоска разрывала ему сердце, точно щипцами. Поэтому даже при самых жалобных воплях своего сердца он отнюдь не чувствовал себя несчастным. Его боль была как бы окружена ореолом славы, подобной ореолу мученика во время пытки: уста его жалобно причитают, руки и ноги отталкивают палача, а сам он в это время радостно славит своего бога. Больше того: его чувство превратилось в страсть; его душа поднялась на котурны, его дух ритмически колыхался; взгляд его глаз, из которых трагическая боль не выдавила ни одной слезинки, стал настолько экстатичным, что однажды врач-окулист остановил Виктора на улице и попросил разрешения удостовериться в этом удивительном и странном явлении.
Но где экстаз, там и соблазн. Для него тоже настала пора испытания.
Директор Вюсс и его супруга отмечали день рождения своего ребенка, маленького Курта; и Виктор, который перестал заходить к кому бы то ни было («Странный человек! Едва мы поверили, что все складывается хорошо, как он снова разыгрывает из себя отшельника!»), счел — по соображениям приличия, — что в этом случае лучше не отказываться. Другой Курт, дядя и крестный отец малыша (этот гениальный человек сыпал, точно из рога изобилия, идеями, на которые другим понадобились бы недели и месяцы), придумал аллегорический ход, по которому мать, то есть госпожа Вюсс, брала на себя роль феи и произносила никчемные стишки, облаченная в белое платье с двумя огромными крыльями на спине; ее черные локоны растрепались, на макушке была корона из блестящей золотой бумаги. Уже во время представления, при виде этого величественного создания в небесных одеяниях, из его сердца вырвалось строптивое замечание: «Вот видишь, глупец, испугавшийся брачных уз, чего ты лишился». А когда после спектакля Тевда решила остаться в одежде феи, так что богиня и земная женщина, действительность и роль перемешались, когда ребенка по очереди брали на руки и лицо счастливой матери осветилось торжеством и покоем, благословляя место, час и всех присутствующих милостью и добротой, сердце его подняло такой бессмысленный, неукротимый бунт, как никогда до этого:
— Даже если на меня разом обрушатся все боги неба и все религии земли вкупе с обязанностями, благородством и мудростью мира, я брошу им прямо в лицо: нет во вселенной ничего, что можно было бы сравнить с обладанием возлюбленной, и нет на земле и на небе такой награды, которой можно было бы возместить утрату этого сокровища. Кто имел шанс получить эту награду и упустил его, пусть даже по велению всемогущего Бога, тот не мученик и не герой, а просто глупец. А потому вполне справедливо, что над тобой тяготеет вечное проклятие.
Он поспешил домой, в свою комнату, и в отчаянии призвал свою Строгую госпожу; так верующий взывает к своему Богу.
— На помощь! — простонал он. — Я больше не могу один. Подруга, с которой ты меня обручила, твоя дочь, которую ты предназначила мне в жены, навеки соединив нас торжественной клятвой, Имаго, невеста моя и супруга, не хочет меня знать, не замечает меня. О, пойми правильно крик моего истерзанного сердца. Трепетное желания моей кровоточащей души не запятнано раскаянием. Если бы время потекло вспять и мне снова пришлось принимать решение, я снова поступил бы точно так же; да, я сделал бы это. Я не против того, чтобы страдать и терпеть лишения, тоскуя, но с верой и радостью в душе. Но почему так ужасны, так бесчеловечны мои страдания? Неужели стремление к величию такое неслыханное преступление, что наказание за него превышает человеческие силы? Если нельзя по-иному, то хотя бы смягчи меру моего проклятия. Открой глаза своей дочери, чтобы она полностью не отвергала меня, уговори ее назвать меня своим благородным другом, одарить меня взглядом памяти, хотя бы одним-единственным. Внуши это ее сердцу, прикажи ей. Если же и этого нельзя, то окажи мне помощь, иначе я погибну.
Ему показалось, будто тень Строгой госпожи проплыла по комнате. Он встал, ободренный, готовый сносить страдания, которые ему суждены.
КОНВУЛЬСИИ ИЛЮЗИИ
Тем временем подошла пора зимних праздников, быстротечного Рождества и медленно тянущегося новогоднего вечера. Разумеется, он никуда не пошел. Он и так-то не был приверженцем трогательных семейных сцен и календарного человеколюбия («весь год равнодушно проходят мимо, а в новогоднюю ночь изображают из себя любезного братца»), а сейчас и вовсе ему не нужны были восковые свечи, чтобы узнать, что такое тоска.
С другой стороны, общепринятые визиты вежливости в первый день нового года не нанести было бы неприлично. И он принялся их наносить, откладывая самые трудные, к госпоже Штайнбах и к Вюссам, на самый конец.
На душе у него было нехорошо, когда он поднимался по лестнице уютного домика госпожи Штайнбах. «Без колких намеков, — говорил он себе, — или, по меньшей мере, без немого укора вряд ли обойдется». Но ничего подобного не было и в помине; она приняла его с дружеской непринужденностью, будто он был здесь только вчера, а не отсутствовал три месяца; ну, может быть, чуть сдержаннее, чем обычно.
— В новогоднюю ночь, — со смехом поведала она, — я вызнала ваше будущее; вы знаете как: бросая в воду расплавленное олово. Суеверие, не спорю; но если пророчество благоприятно, то почему бы ему не поверить? Я ив самом деле верю в то, что мне напророчил о вас оракул. В один прекрасный день у вас появится милая, верная супруга, скромная и самоотверженная, юная и привлекательная; она будет предана вам всем сердцем и наполнит вашу жизнь радостью, а также подарит вам парочку славных, очаровательных малышей; короче, вы будете счастливы.
— Я? Буду счастлив? — повторил он в глубокой тоске.
— Да, вы. Причем так счастливы, как только может быть счастлив человек на земле, хотя в данный момент вам это кажется невероятным; но я чувствую, я знаю, вы будете счастливы, у вас талант к счастью. И знаете что? Я люблю вашу будущую жену уже сейчас, не зная ее. Трудно сказать, узнаю ли когда-нибудь; надеюсь, что так; это была бы самая прекрасная минута в моей жизни. А если нет, то передайте вашей милой невесте сердечный привет от меня и скажите ей, я благословляю ее за все то доброе и нежное, что она сделает для вас.
— «Ваша жена, ваша невеста», что за слова, что за идеи! Расстроенный и печальный, он поплелся дальше, к Вюссам.
— Тевду он нашел в гостиной, она держала на руках ребенка и была радостно взволнована от праздника, подарков и посетителей. Добросердечно и чуть-чуть небрежно она протянула ему руку и сказала: «Желаю вам счастья, здоровья и всего наилучшего в Новом году».
— И это произнесла она! Она пожелала ему счастья!
— Охваченный внезапным наплывом безутешного горя, он, не простившись и не поздравив ее («а все же странный человек, этот Виктор»), выбежал из гостиной и переулками, минуя пригород — о, нескончаемый город, бесчисленные люди, любопытные взгляды, — бросился к спасительному лесу. Но не добежал до него; издали увидев опушку приветливых елей, он бросился на землю, прямо в снег, сотрясаемый бессмысленными рыданиями. Он не сдерживал себя, не стыдился; так человек, отравленный мышьяком, падает на землю посреди густой толпы и корчится в судорогах, хотя и знает, что это нехорошо. «Я же еще существую», — говорило его тело. «У него кто-то умер», — услышал он сочувственные слова проходившей мимо крестьянки.
— С этого момента в нем точно прорвало плотину и поток устремился в брешь. Отныне боль и тоска изливались из его глаз, он жил только в слезах или в страхе перед ними. Судорожные приступы плача наступали внезапно, без предупреждения; достаточно было малейшего повода: удара колокола, звука музыки, вида дороги, по которой он проходил, проплывающего облака, которое напоминало о детстве и родине; так бывает достаточно простого жужжания мухи, чтобы вызвать судороги у больного столбняком. О, есть ли на земле место, куда человек мог бы спрятаться и безутешно выплакаться вдали от посторонних глаз? Почему государство не учреждает священные места для скорбящих, недоступные любопытствующим? У нас так много бесполезных прав, так почему бы не иметь и права на слезы?
— В промежутках между приступами боль смягчалась, он чувствовал себя выздоравливающим. Ему хотелось видеть добрые лица людей, но людей чужих, не причинивших ему страданий; он был признателен за приветствие, за равнодушное слово, даже за то, что кто-то проходил мимо, не вызывая в нем боли. Поэтому он избегал знакомых, посещал места скопления народа, например, трактиры; ему было легче при виде людей, не обращавших на него внимания, при звуках слов, адресованных не ему.
Иногда он, правда, ошибался в своих расчетах и сталкивался со знакомым там, где думал найти только жителей предместья. Так, в пивной Дреера перед ним вдруг возник наместник, усадил за свой стол и представил ему незнакомого господина: «Доктор Эдуард Вебер, этик». Едва наместник произнес слово «этик», с Виктором приключился новый нервный срыв: приступ судорожного смеха. Он был таким сильным и неодолимым, что Виктор в присутствии многих людей от смеха громко взвизгнул. Ему никак не удавалось успокоиться, накаты смеха были все неудержимее. «Да к тому же его зовут Эдуард». «И ты видел гармонически спокойное лицо мира?» Ему не оставалось ничего иного, как с громким смехом выскочить на улицу; все, кто попадался ему на пути, весело улыбались, зараженные его смехом: «А он, видно, весельчак». Когда на следующий день он, терзаемый раскаянием, отправился к господину Эдуарду, чтобы выразить ему свое сожаление, и уже взялся было за ручку двери, как вдруг с таблички на дверях на него снова глянуло злосчастное слово «этик», и приступ смеха повторился. Трижды он отступал, трижды возвращался, серьезный и полный решимости, но ничего не помогало, фатальное магическое слово не давало ему переступить порог.
Однажды начавшись, приступы смеха протекали точно так же, как и приступы плаксивости; они нашли свое русло и пользовались им. Для них тоже годился самый ничтожный предлог. Он замечал, как курица пьет воду, откидывая голову назад и закатывая глаза; результат: громкий стонущий смех. В одной книге он прочитал, как за столом в трактире сидели три мельника, это вызвало взрыв веселого смеха; подумать только: три белых мельника за одним столом!
— Ах, Конрад, до чего бесцеремонно обращаешься ты со своим Виктором!
— Да, но и ты чего только не требовал от меня в эти четыре месяца!
Однажды утром, около одиннадцати часов, в его мозгу яркой ракетой вспыхнула мысль: «Раз доброта оказывает на твое сердце такое благотворное действие, почему бы тебе не пойти прямо к ней, источнику доброты. Врач, причиняющий тебе боль, исцеляет тебя... Не будь таким упрямым! Что тебя тревожит? Кого ты боишься? Ее? Добрый человек не причинит зла. Себя? О Господи, ты стал таким маленьким, таким непритязательным! Попытайся; ты ничем особенно не рискуешь, нанося визит даме, с которой состоишь в дружеских отношениях; ты у них уже не раз бывал, и тебе там не откусили голову. И лучше сегодня, чем завтра. Или у тебя есть причины перенести визит на завтра?
— Нет. Сегодня или завтра — результат будет один и тот же.
— Если хочешь пойти сегодня, то поторопись; сейчас самое время для визита.
— Разумная мысль. Только позволь сначала как следует проверить, все ли у меня в порядке, не то Конрад со своими нервическими штучками опять преподнесет мне сюрприз.
Он проверил себя. Везде все спокойно, в крови и в нервах; ничего подозрительного. И он немедленно отправился к ней.
Она сидела одна в комнате и шила. Едва он увидел ее, как все предметы расплылись перед его глазами, заколебались и закружились все быстрее и быстрее; он и сам не заметил, как упал перед ней на колени и разразился слезами, неистово целуя ее руку. Напуганный своим поступком, он пристыженно поднялся, собираясь убежать.
Но она схватила его за руку.
— Куда вы торопитесь? — с состраданием спросила она. — Что собираетесь делать?
— Откуда я знаю? — простонал он. — Заберусь в какую-нибудь лесную пещеру и умру со стыда.
— Вам нельзя уходить в таком виде; пойдемте, я вытру вам глаза. — И она повела его в спальню. — Я ничего не знала, — успокаивал его ее голос, — я не имела представления по крайней мере о том, что все зашло так далеко. Провинилась ли я чем-нибудь?
Он покачал головой, язык не повиновался ему, он покорно позволил вытереть себе глаза.
— Какой стыд! — стонал он время от времени. — Какой Позор!
— Какой может быть позор, когда любишь кого-нибудь, — утешала она. — Мы же в этом не виноваты. Или я настолько плоха, что любить меня позорно?
Он до крови прикусил губы.
В колыбели проснулся малыш, поднялся и удивленно смотрел на них. Мать взяла его на руки.
— Видишь, — сказала она сыну, — вот стоит человек, которому очень больно. Но никто его не обидел, никто не причинил зла; он сам доставляет себе боль, позволяя своей фантазии рисовать картины, которых не существует в действительности... Вы обещаете мне, что не сделаете необдуманного шага? — спросила она на прощание. — Вы должны обещать мне это, если и впрямь любите меня; я хочу, я требую этого. Приходите к нам снова, мы вас исцелим; когда вы получше узнаете меня, то сами убедитесь, что я не такое уж драгоценное, незаменимое существо, как вы вообразили.
— Открыть ей свою любовь, — жаловался он по дороге домой, — значит предстать перед ней беззащитным. В итоге все потеряно! Я вел себя как сентиментальный ученик аптекаря, как герой дурного романа. Слезы, целование рук, коленопреклонение — что может быть смешнее. Неужели это был я? О Конрад, Конрад! А это ее сострадание! Это милосердное утешение! Что теперь, скажи на милость, остается мне делать?
— Ничего, — ответил разум. — Береги здоровье, остальное со временем наладится само собой.
— Но оскорбление, унижение!
— Неужели быть побежденным любовью — такое большое унижение?
Должно быть, разум прав. Да и что случилось, то случилось. И он позволил Конраду поступать так, как тому заблагорассудится. Разве она не сказала: «Приходите к нам снова, мы вас исцелим»?
Он не задавался вопросом, стоит ли последовать ее приглашению. Разве больной, после невыносимых мучений получивший наконец болеутоляющее средство, спрашивает себя, принимать ему это средство или нет? Есть такие уровни боли, куда не достигают гордость и стыд, где имеет силу только мысль о помощи, все равно какой, все равно от кого. Он слышал любимый голос, добрые, милосердные слова. Да что голос! Что слова! Она касалась рукой его лица, гладила его по щеке. Какие могут быть сомнения? Там утешение, там спасение и жизнь; все остальное чепуха.
Итак, уже на следующее утро он снова отправился к ней, через день опять, и так каждое утро. И каждый раз он находил ее за столом для шитья, и каждый раз мог говорить ей о своей любви. Какое облегчение! Не выплакивать свою страсть вдали от нее, в холодном ельнике, а признаваться в ней живому человеку, ей самой, видеть ее прекрасные сияющие глаза, слышать приветливые слова, обмениваться дружескими взглядами! И как плачущего ребенка утешают звуками и пустячными восклицаниями, так и ему ее ничего не значащие слова уже потому приносили утешение и облегчение, что произносились ее желанным голосом. Уже после второго визита он избавился от слезливости; у него точно занозу вынули из раны. И с каждым визитом воспаление убывало. «Мы вас исцелим», — сказала она ему; и впрямь дело шло к этому.
Вскоре он даже научился — у него в самом деле был талант к счастью — из привилегии каждое утро бывать наедине с ней и приносить ей доказательства своей любви, черпать умиротворение и блаженство; он был всегда счастлив, если ничто не причиняло ему невыносимую боль. Да и почему бы ему не быть довольным? Каждый день час рядом с ней, в дружеском согласии, нечто вроде «второго пришествия» на более высокой ступени, к тому же связанный с ней общей тайной, тайной своей любви, — кто из людей, кроме наместника, на чьи права он никогда не собирался посягать, обладал таким богатством? Любит она его или нет — об этом он не беспокоился; это его даже не интересовало, ибо, рано созрев, он с давних времен свыкся с мыслью, что счастье или несчастье человека зависит не от внешних обстоятельств, а идет изнутри, и что видимость играет такую же роль, как и действительность, а иногда и более значительную. Не в ее любви нуждался он, а в ее присутствии, чтобы его жаждущее сердце могло упиваться ее видом, ее голосом, ее жестами и движениями. Точно так же ранее он с удовольствием воспринял бы ее ненависть и отвращение, если бы мог увести ее к себе, держать взаперти, приковать цепью к стене. «Трепыхайся, кричи, бранись, проклинай — только оставайся со мной».
Теперь он заполучил гарантированную драгоценную частицу ее желанного присутствия, не применяя силу, не уводя ее к себе и не приковывая цепью к стене, а с ее доброго согласия; к тому же она тщательно оберегала и опекала его, пока он был у нее, решительно устраняла любые помехи, быстро выпроваживала непрошеных гостей; она не принимала даже своего брата. Таким образом, он чувствовал себя в какой-то мере ее мужем; брак, правда, был тайный, но тем более сладостный.
Благодаря этому интимному часу между ними постепенно установилась дружеская манера общения. Его любовь, отныне воспринимаемая как нечто самой собой разумеющееся, больше не нуждалась в том, чтобы снова заявлять о себе, она в качестве гармонического сопровождения опустилась к нижней линии нотного стана, задавая настроение, но в то же время оставляя место другим разговорам и беседам, которые дискантом, точно сквозные ноты, по своему усмотрению хозяйничали сверху. Тевда и Виктор болтали, точно брат с сестрой, рассматривали художественные репродукции, играли в четыре руки на рояле («а я-то думала, что вы совершенно немузыкальны»); или же она рассказывала ему о своем детстве, обсуждала с ним будущее своего ребенка, показывала квартиру. Они даже непринужденно поддразнивали друг друга.
— Так вот она какая — женщина, причинившая мне ужасную боль, — улыбался он.
— У! Ух! — грозила она ему, корчила свирепую мину и, точно когти, растопыривала пальцы.
— Пожалуйста, — шутливо попросил он однажды, — взгляните на меня снова так же враждебно, как когда-то.
— Нет, уже не могу, — просто отказывалась она, и в голосе ее звучали искренность и доброта.
Когда однажды он молниеносно поднял с пола уроненную ею иголку, она назвала его «господином фон Вольцогеном»1
— Госпожа фон Штайн2
Когда во время игры на рояле он словно ненароком касался ее мизинца, она шлепала его по руке; когда во время разговора он допускал нежелательное резкое выражение, хлопала по плечу. Однажды утром она, как пантера, бросилась на него из укрытия и сдавила в нежных объятиях.
— Сегодня ваши именины, — объяснила она ошеломленному Виктору.
Только одна мысль время от времени неприятно его беспокоила: где все это время находился его друг — наместник? Почему ни разу не появился? Отчего так получается, что они день за днем могут оставаться наедине, хотя из кабинета наверху иногда слышно было шарканье сапог, а из щелей, точно предостережение оракула, просачивался табачный дым? Тайна, столь сладостная его сердцу, была не совсем по вкусу его совести, хотя ничего предосудительного не происходило. С другой стороны, не мог же он постучать в дверь кабинета и доложить:
— Господин директор, знаете последнюю новость? Я имею честь преданно любить вашу супругу; но вы можете спать спокойно: мы невинны, как жертвенные агнцы, один белый, другой черный.
Нет, такое обывательское прямодушие противоречило его представлениям о вкусе. Есть вещи, которые требуется держать в тайне, хотя сами по себе они не плохие, а, скорее, возвышенные и благородные; когда о них узнает третий, они лишаются святости. «В конце концов, это касается не меня, а ее; он же ее муж, а не мой. Раз это не волнует ее совесть...»
Недели через две ее поведение изменилось, стало непонятным, изменчивым, противоречивым; он больше не находил ее такой, какой оставил накануне. Первое время его озадачивали эти рецидивы прежнего недоверия; должно быть, они были следствием чьих-то наущений, видимо, тут были замешаны завистники и ревнивцы.
— Раз не удалось в мажорном тоне, попробуем в минорном, — сказала она однажды без видимого повода, с колким намеком, выразительно посмотрев на него. Похоже, она склонялась, особенно в данный момент, к тому, чтобы в безумной скорби, бросившей его к ее ногам, увидеть нечто наигранное, ловко обдуманный ход.
В другой раз, когда он рассказывал ей об их первой встрече, о «втором пришествии», завязался такой разговор.
— Скажите откровенно, — спросил он, — вы тогда любили меня или не любили?
Она покачала головой.
— Я считала вас лицемером.
— Почему вам пришла в голову эта странная мысль?
— Потому что вы говорили мне слишком много льстивых слов.
— Я никогда не говорил вам ни одного льстивого слова; я говорил только, что вы неописуемо красивы и что я почитаю в вас символ божества.
— Вот именно, вы говорили такую безвкусную, приторную чепуху. Она могла подействовать на тщеславных, пустых дамочек, но не на меня.
— А сейчас? — спросил он, смеясь. — Вы все еще считаете меня лицемером, поскольку я, как и прежде, нахожу вас неописуемо красивой и больше, чем когда бы то ни было, почитаю в вас символ божества?
— Гм? — усомнилась она, бросив на него недоверчивый взгляд. — Иногда нет, иногда да.
Он понял и простил: в голове истинно германской женщины просто не укладывается, что «распутник» вроде него способен на настоящую любовь. Да, она все еще не верила в истинность и чистоту его любви; об этом говорило иногда ее поведение. Она, например, могла посреди разговора вытащить из колыбели ребенка, посадить его к себе на колени и прикрываться им, как щитом. Или она не хотела впускать его, когда он приходил, и стояла в дверях, раскинув руки и закрывая вход. «Волк, не заходи в мой загон», — говорили ее глаза, в которых была угроза. Но она все же впускала его.
Иной раз в ней просыпалась Ева. Если он пропускал день, она требовала объяснений, заставляла его оправдываться. Если он заговаривал на улице с какой-нибудь женщиной, она выговаривала ему за это, внешне шутливо, но в голосе чувствовалась уязвленность.
— Вы женитесь, как и все другие мужчины, — укоряла она его горьким, почти презрительным тоном, как будто он обидел ее низким поступком.
Временами Еве хотелось помучить его. А почему бы и нет? Пользуйся прекрасной юностью; еще парочка коротких, стремительных лет, и, видит Бог, тебе вряд ли удастся кого-нибудь помучить.
С этой целью она как можно чаще рассказывала ему о своем муже, разумеется, совершенно невинным тоном; показывала свою последнюю фотографию:
— Подарок мужу ко дню рождения.
Или же она фантазировала о будущем «нашего малыша», когда «мы оба» состаримся.
— Кто это «мы оба»? — спросил он.
— Конечно, мой муж и я. Кто же еще?
Незаметно к их союзу присоединился третий: их мальчик, маленький Курт. Потому, вероятно, что Виктор из любви к матери время от времени ласково играл с ним. Или же, наоборот, потому, что поначалу он совсем не обращал внимания на это лишнее существо? Как бы там ни было, маленький Курт всем сердцем привязался к Виктору, тянулся к нему, как к отцу, но отцу, который его не воспитывал, ничего ему не запрещал, никогда на него не сердился и всегда был приветлив с ним. Когда они, Виктор и маленький Курт, играли, мать нарочно держалась в стороне, склонившись над пяльцами, подолгу не произносила ни слова, будто забывшись за работой, и только время от времени, глубоко вздохнув, поднимала на них глаза; тогда в глазах ее вспыхивал внутренний душевный свет. Свет этот благоговейно витал над ними, точно благословляя всех троих.
Неожиданно, без малейшего на то повода, она встретила его однажды утром враждебно, почти грубо.
— Когда вы снова уедете отсюда? — не поздоровавшись, резко спросила она.
— Зачем? Вам хочется, чтобы я уехал?
— Да.
— Вы причиняете мне боль.
— Вы мне тоже.
— Я — вам?
— Да. Говоря мне вещи, которые я не должна слушать, а вы не должны говорить.
— Которые и я не хотел говорить, но они сказались сами собой.
— Нельзя делать то, чего делать не следует.
— Природе неведом глагол «следует — не следует», он — порождение социальной грамматики человека. Кстати, если вы в самом деле хотите, чтобы я уехал, я это сделаю; достаточно одного вашего слова. Итак, приказывайте! Когда я должен уехать? Завтра? Или еще сегодня?
Некоторое время она мрачно смотрела на него; ею овладело беспокойство, она подошла к окну и повернулась к Виктору спиной. Будто притянутый магнитом, он подошел к ней сзади и нежно коснулся пальца ее безвольно повисшей руки, которую она не отняла. Тела их соединились, через пальцы по ним пробежал ток. Она встрепенулась и задрожала. Если не существует магии души, то магия тела существует наверняка.
Его вдруг пронзила мысль, сопровождаемая звуками фанфар и колокольным звоном.
— Сейчас, — подгоняла мысль, — сейчас! Иначе будешь смешон; станешь посмешищем навсегда.
— Что ж, будем посмешищем, — твердо возразил он и отпустил ее руку.
Тут в душе его раздался громкий язвительный смех: «Воплощение добродетели! Воплощение добродетели!»
Презрительно обернувшись, он бросил через плечо: «Адепты прелюбодеяния!»
Опасная игра! Тропа, ведущая в никуда! Куда теперь податься только что зародившемуся блаженству? Сумеет ли оно себя защитить? Праздные вопросы; во всяком случае, свою задачу он видел не в том, чтобы ставить подножки блаженству.
ВНЕЗАПНЫЙ КОНЕЦ
Сретенским утром, когда люди, по обыкновению, приветствуют первые, еще не раскрывшиеся почки, он, как всегда, отправился к ней.
— Мой муж в кабинете. Не хотите ли составить ему компанию, пока я закончу уборку?
Он оторопел. Она заговорила по-новому! Отсылает меня к своему мужу! Неужели призналась ему во всем? Предстоит выяснение отношений? Пусть так; послушаем. Я так устроен, что в любой момент могу прямо смотреть в глаза каждому.
Войдя в прокуренный кабинет, он успокоился: судьи столько не курят.
— А, это вы. Заходите, прошу вас, — послышался радушный голос. — Взгляните-ка, книготорговец опять прислал мне сочинение философа-женоненавистника. Я полагаю, вы не разделяете его точку зрения? Каково вообще ваше мнение о женщинах?
Трудный вопрос! Щекотливая тема! Но лучше уж пусть тебя схватят за фалды теории, чем за собственное горло; фалды не так чувствительны. Суд над женщинами протекал мирно, в достойном ключе; обе стороны обменивались вполне пристойными мыслями, взвешенными суждениями и добровольными признаниями.
— Без женщин вообще нельзя прожить, — в пылу восхвалений прекрасной половины человечества бросил неосторожную фразу Виктор.
— Но каждый должен жить со своей собственной женой, не так ли? — сухо заметил наместник.
Это что? Намек?
Некоторое время спустя, когда они определили границы женских возможностей и Виктор посетовал на широко распространенное, в том числе и среди женщин, постыдное мнение, будто роль молодой женщины в пьесе может сводиться только к роли любовницы, госпожа Вюсс осторожно открыла дверь.
— Извините, господа, если помешала вашей ученой беседе, — нерешительно и тихо сказала она. — Не беспокойтесь, я сейчас уйду.
Она мелкими шажками подошла к книжному шкафу и, грациозно присев, стала рыться в фолиантах, время от времени откидывая назад непослушные локоны; затем, держа в руках книгу, легко и пружинисто поднялась.
— Ну вот, я избавляю вас от своего присутствия, — утешила она их, пугливо, на цыпочках покидая кабинет.
— Во всяком случае, эту свою роль они играют неплохо, и в жизни, и на сцене, — ухмыльнулся наместник.
Вскоре после этого раздались мягкие вступительные аккорды рояля, и зазвучал ее чистый голос. Виктор слушал с замиранием сердца.
— О Господи, — выдохнул он, — как это прекрасно, как чисто и благородно!
По его щекам внезапно покатились слезы, он торопливо вскочил и повернулся лицом к книжному шкафу, словно заинтересовавшись чем-то.
— Никак не могу с вами согласиться, — возразил наместник, — что поет она чисто и хорошо; я полагаю, вообще нельзя браться за произведение, которое тебе не по плечу, которое ты не можешь исполнить как следует.
Он хотел вернуть разговор в прежнее русло, но Виктор был так захвачен голосом невидимой певицы, что ничего больше не замечал.
— Скорей бы она кончила! От ее пения сердце разрывается.
Наконец она перестала петь, и ему удалось подобающим образом проститься.
— Приходите завтра вечером на чай, — настойчиво уговаривала она Виктора, пока он держал ее руку в своей, — не будет никого, кроме вас и моего мужа; моя скромная особа не в счет, с ней вам придется смириться. Будут сбитые сливки, — многозначительным шепотом добавила она. Сказано это было таким тоном, как будто сливки являли собой главную притягательную силу вечера. — Итак, до завтра! — повторила она, грозя пальчиком. — Я на вас рассчитываю.
А сейчас? Заметил ли что-нибудь наместник или ничего не заметил? Никогда не знаешь, что у этого самодовольного паши на уме. Что ж, если заметил что-нибудь (замечать многое тут ни к чему), тем лучше, не надо будет секретничать, отпадет необходимость в нелепой исповеди. Все идет как надо; именно так ему это уже давно представлялось: дружный брак втроем, в котором он уступал своему верному наместнику тело Имаго, а тот в благодарность за это оставлял ему ее сердце и душу. Таким образом, ни один из них не чинил вреда другому. Первая половина дня принадлежит ему, Виктору, все остальное время — наместнику. Кому-кому, а ему никак нельзя жаловаться на то, что при дележе он остался в накладе. Значит, завтра вечером будет заключен тройственный союз. «За чашкой сбитых сливок», — шутливо подсказал разум. — «Неужели чашка сметаны хуже стакана вина? Или для заключения честного союза нужен яд?» Довольный собой, он сравнил эти сливки с другими, теми, которые она ела несколько месяцев назад у госпожи Келлер. Многое с тех пор изменилось, Виктор, разве нет? Презрительное равнодушие тогда и нынешняя сердечность! А ведь мы только в начале пути. О, блаженство надежды!
Он весело бродил по улицам города, тихо напевая про себя, и размахивал руками, словно дирижировал небесным оркестром.
И тут ему встретилась госпожа Штайнбах.
Зайдите сегодня вечером ко мне, — проходя мимо, резко, чужим голосом сказала она. — Мне надо с вами поговорить.
Расстроенный, точно попав под холодный ливень, он поплелся дальше. Но уже без музыкального сопровождения. «Мне надо с вами поговорить». И хотя он понятия не имел, о чем пойдет речь, но подозревал, что ничего приятного его не ждет. Когда кому-то с кем-то «надо поговорить», редко услышишь что-либо утешительное. Ну да ладно; стряхну все с себя, как утка стряхивает воду. Мои радости и беды зависят только от Тевды-Имаго. А с ней дела сейчас обстоят как нельзя лучше.
— Не смешите людей, — строго и холодно встретила его госпожа Штайнбах, не поднимая глаз.
Лицо его омрачилось досадой.
— Чем?
— Не притворяйтесь, пожалуйста; вы отлично знаете, что я имею в виду.
— Извините, что я вам прекословлю. Я никогда не притворяюсь и не имею представления, что вы имеете в виду.
— Ну, тогда я скажу: вашим нелепым и безответственным поведением у господина директора Вюсса и его жены.
— Могу я узнать, что дает вам право называть мое поведение нелепым и безответственным?
— Но разве не нелепо обременять любовными излияниями замужнюю женщину, которая в вашей любви не нуждается, которая к вам совершенно равнодушна и у которой вы можете вымолить разве что крохи сострадания? Признайтесь, что это нелепо! Безответственным, или, если это слово кажется вам слишком резким, ненадлежащим я называю то, как вы пытаетесь втиснуться между двумя порядочными, верными своему долгу супругами; к счастью, без всякого успеха.
Он густо покраснел — от стыда и в то же время от возмущения. Ужасно, когда то, что произошло между двоими, становится известным третьему!
— Безответственно я себя вел или нет, в этом я дам отчет господину Вюссу, если он того пожелает, но только ему одному и никому другому. Здесь же, где меня укоряют и называют глупцом и посмешищем, я позволю себе заметить: у меня есть основания быть уверенным, что госпожа Вюсс одаривает меня не просто крохами сострадания, а чем-то большим, и что я ей не настолько безразличен, как вы изволили предположить, — сердито возразил он.
Она повернулась к нему лицом и подошла на шаг ближе.
— Ах, бедный, наивный молодой человек! Да, наивный, несмотря на ваш ум и знание людей. Неужели вы, несчастный, и впрямь полагаете, что если женщина терпит и даже не без удовольствия выслушивает ваши любовные признания, то это хоть в малейшей степени говорит о ее душевном расположении? Разумеется, она с удовольствием выслушивает их; почему бы и нет! Это ее маленький триумф. Она вполне может позволить себе эту невинную игру в рамках дозволенного. Возможно, в этой игре она зашла чуть дальше, чем надо, не знаю. Кстати, что значит чуть дальше? Какой нравственный закон запрещает ей обходиться по своему усмотрению с тем, кто таким глупым образом докучает ей? Вы же ей не родня, она вовсе не обязана щадить вас. Кто ставит женщину в неловкое положение, должен примириться с тем, что и с ним может случиться нечто подобное; это его ошибка, не ее. Но даже если допустить, что вы произвели на нее определенное впечатление, а, судя по вашим словам, это, кажется, так и есть (что вовсе не удивительно, вы же не случайный человек с улицы), то чего вы этим добились? Маленького, поверхностного, мимолетного чувства, которое исчезнет под первым же ударом судьбы. Заболей завтра ее ребенок или всего лишь муж — и что вы ей, кто вы для нее? Нуль, нет, меньше, чем нуль, человек, вызывающий у нее отвращение, один ваш вид будет ей невыносим. Как я вам уже говорила, госпожа Вюсс — простая, славная, прямодушная женщина, которая думает только о своем ребенке и муже. Вы можете добиться только одного: скомпрометируете себя, сделаете себя несчастным; вполне возможно, что и ее вы сделаете предметом пересудов, если продолжите эту недопустимую игру; у нее ведь есть подруги. Поступайте, как знаете, как велит вам ваша совесть; я не вправе напоминать вам о вашем долге. Но мне непонятно, как человек выдающегося ума, уверенный в себе и к тому же имеющий право на эту уверенность может позволить себе пользоваться милостивой снисходительностью ее супруга? Неужели вы нравитесь себе в этой роли?
— А разве он знает? — запинаясь, пролепетал Виктор.
— Знает ли он? Что за вопрос! Конечно, знает, разумеется, знает; разумеется, она доносила ему о каждом вашем слове, о каждой слезинке, о каждом коленопреклонении. Она не просто имела право, а была обязана так поступать; в противном случае ей пришлось бы иметь дело со своей совестью.
Он прикусил губы и опустил голову. Вдруг он заметил, что его уже давно тревожит одна мысль.
— А вы сами, милостивая государыня, откуда вы так точно обо всем узнали?
— Разумеется, от нее. Она же знает, что я ваша близкая подруга; она не сомневалась, что рассказом о вашем унижении причинит мне боль; не отказывать же ей себе в этом удовольствии; так уж заведено между нами, женщинами. И она своего добилась! Мне было горько слушать о том, как серьезный, достойный, заслуживающий доверия человек, забыв о гордости и чести, совершает бестактные поступки и, точно влюбленный юнец, униженно падает на колени. Мне уже не раз хотелось предостеречь вас; но у меня нет желания врываться, подобно солдату Армии спасения, в чужое жилище; я не хочу навязываться тому, кто упорно меня избегает, кто не удостаивает меня чести своими визитами; кроме того, я все еще надеялась, что вы в конце концов сами вспомните о своем достоинстве. Пока случайно не встретила вас сегодня.
— Короче говоря, госпожа Вюсс лично, в мельчайших подробностях, рассказывала вам о том, что мы делали и о чем говорили с ней наедине?
— Короче говоря, да.
— Обо всем сразу или многократно, каждый раз новые подробности?.. Вы молчите? В таком случае все и так понятно.
Ему казалось, он тонет в своем позоре, как мышь в ночном горшке. Возлюбленная пересказывает историю самоотверженной, благоговейной любви, точно роман в городской газете; день за днем, номер за номером: «продолжение следует!» Выносит на безучастный суд посторонних его слезы, вызванные невыносимой скорбью, саму священную скорбь, коренящуюся в ином мире, в царстве души.
Госпожа Штайнбах, видя подавленность Виктора, решила использовать его самоуничижение и добиться от него спасительного решения.
— Итак, чего вы хотите? На что надеетесь? Чего ждете?
— Жду, когда вы решите, что достаточно унизили меня. Или вам хочется и дальше истязать меня? — спросил он неприязненно.
Она озадаченно взглянула на него. Он совершенно изменился; на нее пристально смотрел незнакомый, мрачный демон.
— О, не смотрите на меня так, — в голосе ее звучала обида. — Не будьте ко мне несправедливы! Я желаю вам добра; вы же знаете, я поступаю так из чувства дружбы.
Он дико вращал глазами, его лицо исказилось. Вдруг он вскочил, поднял руку и громким, дрожащим голосом заговорил, обращаясь куда-то вдаль:
— Я только потому переживаю эти ужасные минуты, только потому стою здесь обруганный, как провинившийся школьник, осыпаемый насмешками, как отвергнутый любовник в финале фарса, игрушка в руках бессердечных людей, что я сделал шаг к величию. Все могло быть по-другому: слава и честь, почет и богатство, счастье и любовь лежали у моих ног; я видел, как они блестели, мне оставалось только поднять их. Сделай я это, поступи я как негодяй, предпочти я низость — и сегодня я купался бы в блаженстве, окруженный любовью; никто не смеялся бы надо мной, никто не осмелился бы оскорблять и грубо одергивать меня; вы приближались бы ко мне сегодня с робким почтением, мужчины воспринимали бы дружбу со мной, как награду, а жалкое племя женщин домогалось бы моей взаимности. Черствые люди! Тупые и бесчувственные, как звери! Моя бедная душа переполнена чистой, святой любовью, в награду за молодость и счастье жизни мое жаждущее сердце просит только одного — крохотной, скупой капельки любви, нет, даже не любви, а всего лишь позволения любить и страдать безнаказанно. А что получаю я от вас? Издевательства и насмешки. Что ж, унижайте меня, бадьями и ведрами выливайте на мою голову все нечистоты позора, я сумею и это вынести. Но, говорю я вам, настанет время, когда обо мне будут судить совсем другие люди, сердечные и душевные; они вытрут мои оскверненные щеки и покроют их славой; увидев мои раны, они скажут: «Он был не глупец, а страстотерпец». А что до моей несчастной, поруганной любви, которую сегодня толкуют как преступление, из-за которой одна бездушная женщина выставила меня дураком, а другая бездушная женщина возводит на меня клевету, то, говорю я вам, когда-нибудь, когда меня не будет среди живых, одна из них пожалеет, что ее не любили так, как я любил, и позавидует той, которой поклонялись с такой страстью.
Едва произнеся эти слова, он очнулся и снова стал прежним.
— Простите меня, — печально произнес он, — это не я говорил, это кричала чрезмерность моей боли.
Он подошел к роялю и взялся за шляпу.
— Но над вами же никто не смеется! — жалобно сказала она. — Все произносят ваше имя доброжелательно и с уважением. Что же касается госпожи Вюсс, то она относится к вам с искренней, горячей симпатией и глубоко огорчена тем, что стала невольной причиной ваших ненужных, бесполезных страданий. Но как вы могли, дорогой друг, упрекнуть меня в бездушии? Как вы могли! Не называйте меня бездушной, не говорите этого слова мне, именно мне! — слова ее звучали тихо, но в них слышался крик души.
Но он ничего не слышал, взгляд был отсутствующий. Обойдя ее, он сделал несколько шагов к двери; затем, опомнившись, вернулся и склонился перед ней.
— Милостивая государыня, — заговорил он, — позвольте мне выразить вам свою признательность. Я не нахожу нужных слов. Могу только сказать: благородная, верная подруга, искренне благодарю вас за все. И вспоминайте со снисхождением об основательно наказанном человеке, который, должно быть, не все делал, как надо, но при этом никому не желал зла.
— Вы уезжаете? — глухо спросила она.
Он кивнул.
— Завтра утром, с первым же поездом.
— О Господи! — воскликнула она. — И куда?
— Не знаю, — пожал он плечами. — Куда-нибудь.
— Мой дорогой, дорогой друг! — запричитала она. И когда он поднял для поцелуя ее руку, она поцеловала руку Виктора.
Открыв окно, она стала вглядываться в ночь. Когда его темная фигура показалась у калитки сада, она громко крикнула ему вслед:
— Я верю в вас, в ваше величие и в ваше счастье.
Ранним утром следующего дня, во влажных туманных сумерках брел он, как и было решено, к вокзалу, готовый к отъезду; он еще не совсем проснулся и с удивлением вспоминал сон, яркие краски которого расцветили унылую действительность.
Ему снова — какой стыд! — снилась она, снилась вопреки всему. Только на перроне он стряхнул сонливость и огляделся. В этот самый день, едва забрезживший вокруг него, она обещала ждать его. «Сегодня вечером»! Как все это устарело. Прошло, миновало. Думая о ней, он не испытывал ни малейшего чувства; ни грусти расставания, ни умиления, ни неприязни, разве что неприятный вкус отвращения во рту. Равнодушно, будто чужак, покидал он неприветливую родину.
Одно окошко было освещено и открыто, в нем виднелось лицо кассира. Значит, уедем сразу же. Узнав из расписания направление поезда, он назвал первый же пришедший в голову далекий город за границей.
— Вторым классом? — спросил кассир.
— Третьим, — ответил Виктор, повинуясь какому-то смутному побуждению; то ли потому, что хотел избежать встречи со знакомыми (невероятность такой встречи в этот ранний час его не удовлетворяла, ему хотелось полной уверенности), то ли для того, чтобы подчеркнуть свое унижение. Третий класс как нельзя лучше подходил для его позорного бегства.
Войдя в вагон, он на первом же сиденье, рядом с дверью, увидел приветливого, скромно одетого человечка. «Простой человек — хороший человек, — сказал он себе, — пусть он будет моим соседом». Но когда Виктор хотел положить наверх свой совсем не громоздкий чемодан, человечек живо запротестовал:
— Постойте, постойте! Там лежат мои ноги.
Не настроенный в этот день шутить и разгадывать досужие загадки, Виктор послушно пристроил чемодан в другом месте и с равнодушным видом сел, чуть отодвинувшись в сторону, чтобы не соприкасаться коленями со своим визави. Но человечек хитро подмигнул:
— Не церемоньтесь с моими коленями, они все равно ничего не чувствуют. — С этими словами он откинул плед: ног у него не было! — Отрезали в госпитале, — ухмыляясь и почти с гордостью объяснил он. И охотно поведал историю своих страданий. «Я столько вынес, что и поверить трудно», повторял он время от времени. «Этот настрадался даже больше, чем я», — подумал Виктор.
— Меня зовут Бюргиссер, — закончил свой рассказ человечек, — Леонард Бюргиссер из Этлингена, по профессии столяр; в наших местах меня зовут Линертом. — Рассказав о себе, он удовлетворенно замолчал.
Паровоз равномерно попыхивал паром, и Виктор, не выспавшийся ночью, незаметно задремал. Вдруг сосед толкнул его, и он вздрогнул.
— Вы только взгляните, — шепотом заговорил безногий, — взгляните на этот сногсшибательный букет посреди зимы в руках у вон той красивой, со вкусом одетой девушки, что прогуливается вдоль вагонов второго класса! Видно, любит того, для кого купила такие восхитительные цветы; смотрите, она все время прикладывает платок к глазам... Но если он сейчас не появится, то будет поздно; поезд уже должен был отправиться... Шш! Тихо! Смотрите, она поворачивается к нам... В букете есть даже ландыши, отсюда слышно, как они пахнут... О Господи, бедная девушка! Смотрите, у вагонов третьего класса, где ее никто не знает, она уже плачет навзрыд.
Виктор, сперва нетерпеливо пропускавший болтовню мимо ушей, наконец выглянул — механически, против воли! Стройная и, насколько можно было различить в полумраке, изысканно одетая дама с букетом в руках прошла мимо, прижав к лицу носовой платок; плечи ее сотрясались от рыданий. «Мне, — с болью и горечью подумал Виктор, — никто не принесет букет цветов. О нет, нечего и думать! Скорее, веник из чертополоха, узнай они о моем отъезде». Он отвернулся, отодвинулся от окна и погрузился в горестные мысли.
— Занимайте свои места! — вдруг раздались крики проводников.
— Наконец-то! — раздались из окон насмешливые восклицания. Со стуком захлопнулись двери вагонов, затем на мгновение установилась тишина.
— Готов! — И вслед за тем резкий свисток.
Но тут дверь вагона внезапно распахнулась; струя холодного воздуха донесла аромат цветов, но только на один миг, дверь снова захлопнулась.
— Э нет, дамочка, — засмеялся вдогонку девушке столяр, — тот, кого ты ищешь, в третьем классе не ездит. Но если ты сейчас же не спрыгнешь с подножки, поезд прихватит и тебя... Слышите, как возмущаются проводники? И они совершенно правы; после сигнала «Готов!» никто не может задержать поезд, ни простой человек, ни знатный.
Еще один властный свисток машиниста; затем колеса тяжело сдвинулись с места. Виктор вздохнул с облегчением. «Прощайте навсегда!» — решил он про себя, скользя взглядом по уплывающим назад опорам крытого перрона. — «Но стоп! Подожди! Не госпожа ли Штайнбах возвращается по рельсам к вокзалу, держа в руках букет? Походка ее, это точно. Вот если бы увидеть лицо...»
— Предъявите проездные билеты! — потребовал проводник и протянул руку к Виктору. — Прошу вас.
Когда с формальностями было покончено, вокзал уже исчез из вида. Слева и справа мелькали улицы. «Виктор, не хочешь ли проститься с нами?» — кричали, исчезая за окном, дома.
— Нет, — строптиво возразил он. — Сделайте одолжение, прошу вас: не надо лицемерных трогательных сцен в финале пьесы! Думаете, я не вижу, как на ваших крышах скачут, глумясь надо мной, обезьяны, а с деревьев язвительно ухмыляются пересмешники-дрозды?
Мало-помалу мрак рассеялся; за окном проплывали деревенские домики, огороды, ряды деревьев, одни назад, другие в сторону; наконец в поле в вагон ворвался дневной свет.
Только теперь Виктор окончательно проснулся. Вместе с ним проснулась память, а с ней и неприязнь.
— Радуйтесь! Вы победили; я бегу, побежденный, покрытый позором. Но побежденный кем? Заурядностью, кликой обывателей, тупой бессердечностью.
Неприязнь сгущалась в мрачную тучу, туча сжималась в сгусток гнева, гнев, кипя, рождал проклятие.
Вдруг он услышал голос и вздрогнул: это был голос Строгой повелительницы.
— Что ты везешь с собой, спрятав в кармане?
— Рукопись, о которой не знает никто, кроме меня и тебя.
— И о ком же свидетельствуешь ты в этом сочинении?
— Я свидетельствую в нем о тебе, моя повелительница.
— Когда ты написал его?
— Начало я написал в тот вечер, когда прибыл в этот злосчастный город; а закончил прошедшей ночью.
— И что я сказала тебе прошедшей ночью, когда ты написал последние строчки?
— Ты сказала мне: «Я принимаю твое свидетельство обо мне, и поскольку ты, вопреки мукам, страданиям и сумасбродствам, свидетельствовал обо мне твердо, беспорочно и преданно, я тоже хочу свидетельствовать о тебе. Так слушай: я вознесу тебя на вершину жизни и положу к твоим ногам строптивую людскую славу». Вот что сказала ты мне.
— Да, я это сказала тебе. И вот теперь ты, неблагодарный, своим проклятием хочешь обесчестить прекрасное время, когда ты создал свое сочинение? Послушай, что я тебе скажу: настрой струны своей души и пой и торжествуй, и благословляй этот город со всем, что в нем есть; каждый час, каждое происшествие, каждое страдание, которое ты испытал; начни с людей, причинивших тебе боль, и кончи собакой, облаявшей тебя.
Он печально повиновался. С трудом, преодолевая себя, настроил арфу своей души и пел, торжествуя, о своих ранах, и его тоска, вздыхая, благословляла все, что он испытал, начиная с людей, которые были несправедливы к нему, и кончая собакой, облаявшей его.
— Хорошо, — произнес голос. — Прими же награду за свое послушание; подними взор свой, оглянись вокруг.
Он посмотрел в окно и увидел: там, поспевая за мчавшимся поездом, на белом рысаке скакала Имаго; не двуличная земная Имаго по имени Тевда, жена наместника, а подлинная, гордая, его Имаго. Она исцелилась от своего недуга, и на голове у нее весело блестел победный венец.
— Я ждала тебя, — засмеялась она в окно.
— Имаго, невеста моя, как случилось, что ты исцелилась от своей печали? — удивленно воскликнул он. — И в честь какой победы на голове у тебя венец?
Она радостно ответила ему:
— Сквозь печали и боль я увидела твою непоколебимую верность; вот почему я выздоровела. Я увидела, как ты незапятнанным выбрался из водоворота страсти; вот почему я радуясь, надела на голову венец.
— И простишь ли ты мне, Имаго, благородная невеста моя, что я, ослепленный глупец, спутал твой возвышенный образ с земным призраком?
— Своими слезами ты искупил свою глупость, — засмеялась она.
С этими словами она издала задорный, ликующий возглас и обогнала поезд.
— А теперь скажи, — спросил невидимый голос, — ты все еще называешь меня своей Строгой повелительницей?
Восторженная душа его ответила с молитвенной благодарностью:
— Святая владычица моей жизни, имя тебе — утешение и сострадание. Горе, если бы тебя не было; благо, что ты у меня есть.