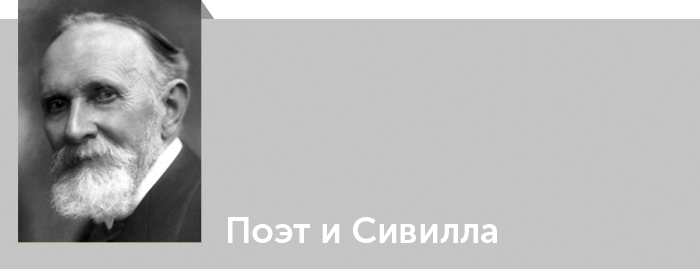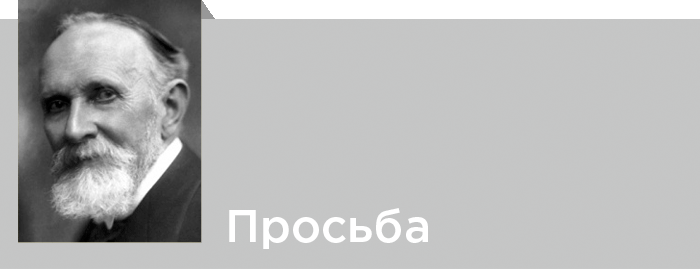Повесть Лейтенант Конрад. Карл Шпиттелер
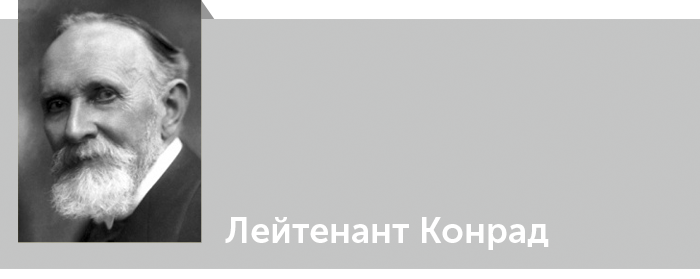
Под «изображением» я понимаю особую краткую форму прозаического повествования со своеобразной целью и специфическими стилевыми законами, которые служат средством для достижения этой цели. Целью же является как можно более искреннее сопереживание читателя с действием. Средства для ее достижения таковы: единство действующего лица, единство перспективы, постоянство временного поступательного развития — то есть те самые законы, по которым мы живем в действительности.
Иными словами: главный герой вводится автором в первом же предложении текста и до конца повествования находится в поле его зрения. В дальнейшем автор сообщает о том, что воспринимает герой, а потому все происходящее отражено в восприятии героя. Наконец, последовательность событий передается правдиво, как в реальной жизни, час за часом. Рассказчик не позволяет себе перескакивать через какой-нибудь отрезок времени, сочтя его неважным. Из этого последнего закона опять-таки следует необходимость изобразить развитие действия в течение всего лишь нескольких часов.
Конечно, далеко не всякий жизненный материал годится для «изображения». Если исключить фрагменты и постараться избежать ошибок, то можно прийти к выводу, что сюда относится лишь единственная разновидность сюжетов, а именно, насыщенные событиями и завершенные («драматические»). Да и среди них лишь такие, которые позволяют в непринужденной манере представить читателю все важные мотивы непосредственно перед развязкой. В данном случае автор подхватывает нить повествования по воле истины незадолго до развязки и ведет рассказ. Если при трагических сюжетах с большим числом действующих лиц после смерти главного героя необходим эпилог для полного завершения действия, таковой создается по указанным законам с точки зрения второго главного героя, оставшегося в живых.
Молодой лейтенант Конрад Ребер, сын хозяина усадьбы «Павлины», что в Херлисдорфе, шел по конюшне. При его приближении лошади задирали шеи, шумно выстраиваясь в ряд. Однако рыжая кобыла Лисси, стоявшая в самом дальнем заднем углу, доверчиво огляделась, подняла хвост и растопырила ноги.
— Что с тобой, Лисси? — спросил лейтенант. — На что собралась пожаловаться? Наверное, захотелось поскакать галопом на учебном плацу во Фрауэнфельде в пять часов утра под звуки фанфар, когда в воскресное утро все любуются тобой из окон, а по вечерам красивые девушки треплют тебя по гриве и дают кусочки сахару, а меня одаривают поцелуйчиками? Ничего не скажешь, такая жизнь намного лучше, чем возить навоз на поля, весь день слышать ссоры и брань, видеть кислые физиономии! Повернись налево, повернись направо, пригнись, вытянись, — и все равно услышишь брань. Едва кончится ругань, начнутся охи-вздохи. Ну, что думаешь, Лисси? Наверняка ты сейчас подумала: чему быть, того не миновать, а рано или поздно все это кончится. Не мытьем, так катаньем. — Сказав это, лейтенант похлопал кобылку ладонью по хребту, так что она от радости задрыгала ногами.
Заметив, что Пегий и Серый щерят друг на друга зубы и вскрикивают от ненависти, не поделив между собой корм, Конрад схватил с гвоздя хлыст и со свистом стеганул их несколько раз по подбрюшью, так что кони взвились, будто форели перед грозой.
— А ну угомонитесь, черт бы вас побрал! — крикнул он. — Неужели в этом сволочном доме даже бессловесная скотина должна ссориться?
Дав им впрок несколько добрых тычков по бабкам, он на какое-то время неподвижно застыл с рукой, занесенной для удара, пока не успокоился сам и во всех яслях не послышалось дружное чавканье. После этого Конрад неслышно пробрался к оконной нише и повесил хлыст на гвоздь, но рукоятку еще какое-то время держал в руке, а потом украдкой освободился от нее. После этого он замер, прислонившись к карнизу.
Белая полоска света ломаными зигзагами сверкнула сквозь дверь конюшни, спугнув двух ласточек, которые молниеносно скрылись сквозь щель. Чья-то рука неуверенно пыталась приподнять цепочку, на которую конюшня была заперта изнутри.
— Конрад, это ты? — требовательно спросил снаружи женский голос. Потом он стал просить настойчивее:
— Открой, Конрад, это я, Анна.
— Дверь конюшни останется на запоре, — твердо отрезал Конрад. — Зато дверца сарая открыта. — Через несколько секунд сестра осторожно пробиралась ощупью сквозь темноту конюшни между стеной и водосточным желобом, подобрав подол платья.
— Здравствуй, Анна, — сказал Конрад, давая знать, где он находится.
— Что это ты прячешься до самого полудня, так что тебя ни одна живая душа найти не может? — ласково пожурила Анна брата.
— Так я ведь всем мешаю.
— И все равно: в майский воскресный день, когда каждый поезд может привезти с полсотни гостей, хозяин должен быть в доме, а не в конюшне.
— Кто? Хозяин? Да разве я хозяин? Разве между погребом и чердаком найдется хоть одна более безгласная душа, чем я? Козел отпущения — вот кто я такой! Мишень для любого, кому взбредет сорвать скверное настроение. Хозяин! Скажешь тоже!
Анна примирительно прислонилась к брату.
— Конрад! Будь немножко терпеливее с отцом, прошу тебя, — улещивала она брата.
Конрад вскипел:
— Если бы у меня не было терпения, огромного терпения, неужели ты думаешь, я давным-давно не уехал бы отсюда? Конечно, уехал бы! Впрочем, дело не только в терпении или его отсутствии. Мне уже двадцать четыре года, я имею право голоса, военный человек, офицер, командир пожарной команды. Мои товарищи поступают по собственному разумению, вольны распоряжаться собой, имеют свободу действий. Некоторые даже получили должности и обзавелись семьями. Ко мне же отец придирается, будто к мальчишке. Но тот, кто ровно ничего не значит у себя дома, тот пустое место и в обществе. Такое положение мучает меня, я просто не могу его больше выносить.
Сестра немного помолчала, опустив глаза и рассеянно играя колокольчиками хомута. Наконец после долгих колебаний обронила вполголоса:
— Кто знает, сколько он вообще еще проживет.
Конрад оторопело взглянул на Анну, как когда-то в
школе для новобранцев, впервые услышав дьявольский свист пикриновой ракеты. Потом он наморщил лоб.
— Послушай, Анна, я хоть и не умею всех примирять, как ты, но таких бессовестных мыслей, знаешь ли, я себе и во сне не позволял.
Анна опустила голову и молча смотрела сквозь оконную решетку поверх деревенских крыш кирпичного цвета туда, откуда с невидимой лесной горы раздавался самозабвенный клич кукушки. Потом вдруг с жалким всхлипом бросилась на пыльный карниз, охватив голову руками. В день рождения на руки ее полились слезы, зрелые, накопившиеся слезы, собранные тихими ночами и выплеснувшиеся теперь из скрытной души.
Брат был опять немало удивлен. Слезы Анны вызвали в нем сочувствие и благоговение, будто он, шагнув через прикрытое колодезное окно, сквозь щели в досках вдруг заметил, что в мрачной воде шевелится нечто живое. Конрад участливо наклонился к сестре и ласково погладил по пробору в волосах.
— Ну что ты, Анна, не надо! — успокаивал он.
— Неужели ты думаешь, что только тебе одному приходится переносить тяготы? — выдавила она.
— Что случилось? Неужели они не хотят отдать тебе твоего доктора?
— Отец, пожалуй, согласен, зато мать не хочет.
— Итак, у меня отец, а у тебя мать, — мрачно заключил Конрад.
Анна живо вскочила, сбросив горе с души, потому что на улице послышались голоса.
— Разве по мне заметно? — бодро спросила она, утирая глаза и оправляя платье. Потом напомнила брату с чувством превосходства: — Пойдем же, пора обедать. Сегодня мы будем обедать на час раньше. — И доверительно шепнула:
— Отец будет есть отдельно, я ему накрыла в гостиной. И мать, наверное, не спустится к столу.
— Почему? — озабоченно спросил Конрад. — Она, надеюсь, не заболела?
— У нее просто мигрень. От волнения и страха.
— От страха?
— Ну да. Ото всего, что сегодня пришлось бы делать. Ты же знаешь.
Он облегченно вздохнул.
— Тогда можно будет хоть разок в виде исключения мирно пообедать.
— Конечно. Правда, тетушка приехала помочь.
— Которая? — недоверчиво поинтересовался он.
Ответ сестры мало что прояснил.
— Обе! — наконец смущенно призналась она. — Тетушка-изюмина и тетушка-ведьма.
— А почему не весь птичий выводок сразу? — насмешливо поинтересовался Конрад.
— Они только на полдня приехали, — оправдывалась Анна. — Прибыли час назад и вечером уедут. Такое, думаю, вполне можно будет вытерпеть! — И, чтобы брат легче переварил новость, Анна сдобрила ее некоторой толикой юмора: — Ой, видел бы ты, как они приехали вместе, держась за ручки, под допотопным зонтиком — такие же дряхлые, как доброе старое время, и веселые, будто годовалые пасхальные зайцы. Отца они задорно ущипнули за нос — ты такое можешь себе представить? А сейчас они смогут вдоволь наругаться в кухне. Конечно, с самыми лучшими намерениями.
Действительно, Анне удалось рассмешить брата — но вовсе не юмористической стороной обрисованной картины. Он как человек волевой был не слишком чувствителен к юмору. Скорее, его подкупила дружелюбность описания. Сморщенные лица тетушек сразу живо напомнили ему о семи годах детства.
— Если бы у тетушки-ведьмы не было такого ужасного языка, — уступчиво заметил он, уже почти сменив настроение. — Когда я слышу, как она говорит, мне всегда кажется, что она подобрала весь словесный мусор с кантональной проселочной дороги.
— Но она же делает это из самых лучших побуждений. Зато повариха тетушка — первый сорт!
— Не возражаю. Но намордник ей надо вручить по праву, согласно решению правительственного совета, на торжественном внеочередном заседании.
Сестра сочла дальнейшие разговоры на эту тему излишними, не стала возражать, подобрала юбки и на цыпочках осторожно засеменила прочь.
— Стало быть, ты сейчас придешь обедать! — уверенно заключила Анна, и, не оглядываясь на брата, оставила дверцу сарая открытой.
Неужели действительно нужно идти? В самом деле необходимо. Покинуть надежное убежите и оказаться в обстановке ненависти и распрей. Но открытая дверца все время голосом сестры напоминала Конраду об обеде. Честно говоря, ему уже хотелось есть. Нерешительно, против воли он последовал за Анной. «Боже мой, хоть бы однажды стать господином и хозяином!» — гневно простонал он про себя. Иметь право требовать, наказывать и поощрять, узнать, что значит уважение людей, иметь покой, не быть обязанным молча проглатывать несправедливые упреки — хотя бы на единственный час или полчаса!
На улице, на просторной деревенской площади в ярком свете предобеденного солнца разговаривали между собой вырядившиеся по-воскресному крестьяне с молитвенниками в руках. Они молча уставились на Конрада.
— Ну и погодка сегодня! Как на заказ для будущего урожая вишен! — приветливо крикнул он, проходя мимо. В ответ ни слова. Конрад нахмурил лоб. «Если ведешь себя просто, снисходишь до них, держишься приветливо и учтиво, они тотчас заставят тебя пожалеть об этом», — подумал он.
В усадьбе «Павлины», напротив террасы, под хохот, похожий на ржание, развлекались швейцар и кучер Бенедикт. Швейцар, заломив фуражку на затылок, болтал ногой перед Бенедиктом, а тот пытался ее поймать. Увидев молодого хозяина, кучер поздоровался и отошел в сторону. Швейцар же, напротив, сначала схватился за фуражку, а потом передумал, оставил на голове и продолжал свою грубую забаву.
Лейтенант бросил на него пристальный взгляд, потом завернул в дом через боковую дверь возле кухни.
У порога он остановился как вкопанный, вскрикнув от возмущения. Дело в том, что вокруг валялись голубиные перья, а на верхней ступеньке виднелось несколько звездчатых капелек крови.
— Опять кто-то лишил жизни бедного невинного голубка! И все для того, чтобы какой-нибудь избалованный лакомка потешил диетическим кусочком свою пошлую утробу!
Перед тем, как войти, он, оглядевшись по сторонам, набрал полную грудь свежего воздуха. «Держись!» — пробормотал себе Конрад, дрожа от отвращения.
Тихо переступив через порог в коридор, он подозрительно прислушался, словно на вражеской территории. Поблизости не оказалось ничего подозрительного. В соседних комнатах было пусто и тихо. Беда притаилась где-нибудь в укромном закоулке и незаметно тлела, чтобы потом разгореться пожаром. Только со стороны кухни, из дальнего угла, слышалась перебранка тетушек.
Если уж это «благонамеренная» ссора, то какой же тогда должна быть «злонамеренная?» Дуэт был такой, будто двух насквозь промокших кошек прогоняли через обезьянью клетку, завязав им в узел хвосты.
Конрада развеселил этот концерт. Он слушал свару тетушек с блаженством, похожим на то, какое испытывает наказуемый, когда его истязатели вдруг сцепятся между собою.
«Ну, посмотрим, кто возьмет верх: тетушка-ведьма или тетушка-изюмина?» — И лейтенант погадал на пальцах: сойдутся или не сойдутся? Жест напоминал встречу крокодила с чертом в театре марионеток.
Но тут распахнулась кухонная дверь, и коридор стал ареной бегства и преследования. Тетушка-ведьма орала во всю глотку:
— Убирайся! Чтоб духу твоего здесь не было! Пошла вон! Марш отсюда!
— Ну погоди! — прозвучала в ответ угроза ворчливым назидательным тоном ветхозаветного пророка, — только дождись тех времен, когда Конрад станет хозяином! Он выгонит тебя из дома, как ты сегодня прогоняешь меня.
— Аминь, да будет так! — помолился Конрад, направляясь в столовую.
В столовой еще никого не было. Комнату, по-весеннему прохладную, оживлял поток летних солнечных лучей. «Замороженное лето!» — подумал Конрад, прохаживаясь взад-вперед по уютной столовой. Вокруг царила приятная чистота. На накрытых столах, словно маленькие солнца, сверкали рюмки и бутылки с водой. Небольшой стол был накрыт для семьи, а длинный стол немного поодаль — для приходящей прислуги. Оба стола украшали букеты сирени. Приборы были разложены с такой математической точностью, будто расстояние между ними вымерялось дюймовой линейкой.
И тут Конрада охватила волна радости, так что он даже начал насвистывать бодрый марш. Но, проходя мимо гостиной, он вздрогнул, замолк и потихоньку прошмыгнул к ближайшему окну. Сквозь полуоткрытую дверь он заметил фигуру отца, сидевшего в кресле. Все длилось лишь какое-то мгновение, но Конрада словно ударили кулаком, и теперь ему мерещился ненавистный образ, раздутый фантазией до чудовищных размеров, гигантский и черный. При этом что-то перевернулось в его душе, вызывая враждебные чувства. Сердце Конрада бешено стучало. Прислонив лоб к оконному стеклу, он смотрел вниз на террасу.
Пока он так бесцельно стоял, в памяти внезапно всплыли кощунственные слова сестры: «Кто знает, сколько он вообще еще проживет!» Как бы Конрад ни старался вьтравить эти слова из памяти, они вновь и вновь приходили на ум и непрестанно звучали в ушах. Разумеется, вовсе не как желание или надежда — просто как вопрос. И потом, в сущности, почему он не должен был отвечать на него? В нем росло неукротимое любопытство. Он даже потихоньку отошел на шаг в сторону от окна, пока взгляд его сквозь приоткрытую дверь не скользнул по фигуре отца, успев увидеть правую половину тела и голову — по мере того, как отец двигался по комнате. Теперь Конрад, затаив дыхание, начал наблюдать за ним, как никогда раньше не наблюдал — подстерегающим взглядом шпиона, который выслеживает слабости врага. Он проверил все поочередно, сверху донизу, чтобы наконец подвести итог: страшное лицо, гладкое и безбородое, жутко усеянное коричневыми пятнами; ужасные глаза дога, обведенные красными кругами, отечный живот, колыхавшийся из стороны в сторону при одышливых вздохах, словно женский бюст; бесформенные косолапые ноги, обутые в меховые манжеты несмотря на летнее тепло. Перечисляя все это про себя, Конрад вспомнил и о возрасте: осенью отцу исполнится шестьдесят четыре года. Всякий раз, когда взгляд его случайно перекрещивался со взглядом отца, он, бледнея, отводил глаза, тогда как отец отплевывался, шумно сопя.
— О чем задумался, дружище? — шепнула на ухо сестра.
И тут Конрад вздрогнул, словно малокровная девица —
сердце его замерло.
Анна провела по его лбу своими чуткими руками будто волшебник, прогоняющий наваждение.
— Дьявол, прошептала она. Потом угрожающе подняла указательный палец: — Миленький, веди себя славно. Если ты будешь хорошим, — но только очень-очень хорошим, я покажу тебе кое-что красивенькое. — Эти слова Анна произнесла таким тоном, будто прятала подарок за спиной.
— Что? — рассеянно спросил он, все еще не оправившись от испуга.
Анна, коснувшись пальцем его носа, лукаво показала на вид из окна:
— Например, яблоневый цвет в красно-розовую крапинку вон там внизу, на лугу. Разве он не красив?
Сказав это, сестра весело прошмыгнула к обеденному столу, незаметно закрыв по пути дверь в гостиную, и занялась приборами, дополнив их ножами для пирога. Она разложила ножи и для прислуги, и для хозяев. И пока Конрад в своем мрачном упрямстве пристально глядел в окно, она за его спиной напевала песенку, то тихо мурлыкая, то выделяя голосом отдельные слова — иной раз в соответствии с текстом, а иногда по своей собственной прихоти.
Скажи, что весною кукушка поет?
Не знает никто, что нам лето несет.
А лето все дремлет за Гицли-горой,
Изменится многое летней порой.
И то, чего вновь уж не смеешь желать,
Само вдруг придет, настанет опять.
Февраль да январь —
На год божий дар;
То снег, то капель
Дарят март и апрель.
Коли в мае снег пойдет,
Будет яблок недород.
Июнь да август —
Носи, что знаешь.
Всю осень ночь растет,
Потом зима придет.
Будем печь топить,
О цветах грустить.
О мертвых цветочках — мороз их убил.
Хоть бы милого мне мороз пощадил!
Вместо «милого» Анна вставила «Конрада». Упоминая это имя, она бросила на брата взгляд, полный сердечной привязанности. Совершенно счастливая, она не беспокоилась о том, заметит ли он подмену слова в песне или нет.
Но вот прозвенел колокольчик, и, выдержав ради приличия небольшую паузу, кельнерши группами и поодиночке направились в столовую. Входя в комнату, каждая от души желала молодому хозяину «доброго дня» — не подобострастно, а скорее по-дружески доверительно, за что Конрад всякий раз громко благодарил, впрочем, не оборачиваясь в их сторону.
Приятный гомон шепчущих, болтающих, напевающих девичьих голосов двигался вслед за Конрадом. В его руках, заложенных за спину, вдруг оказался цветок на длинном стебле, который незаметно вложила какая-то из девушек. Однако Конрад узнал шалунью, потому что все, кто находился в столовой, отражались в створке окна.
— Жозефина! — сказал Конрад. — Такие проделки можно сразу узнать!
Потом чья-то рука прикрыла ему глаза.
— Такая огромная лапища на всем белом свете может быть только у Бригитты, — заявил он.
— Неправда! — раздался возмущенный возглас. — Он видит нас в окне! — И девичья стайка рассеялась. Сестра же, напротив, оказалась рядом с братом.
— Ну, что ты теперь на сей счет скажешь? — допытывалась Анна.
— Ты о чем?
— Господи, да разуй ты свои глаза, рохля!
Он небрежно повернулся, и, когда его взгляд скользнул поверх девичьей стайки, пестрой и веселой, будто июньское утро в саду, среди кельнерш он заметил новенькую — рослую, статную, стройную, в богатейшем бернском костюме: настоящие серебряные украшения, бархат и шелк, туго накрахмаленная манишка, твердющий корсаж, вышитые митенки, все тютелька в тютельку как на рекламной картинке национального костюма, чтобы глазели иностранцы в какой-нибудь витрине Интерлакена.
— Откуда, из какого игрушечного замка ты ее заполучила? — одобрительно, однако вполне равнодушно спросил Конрад.
— Ну что, доволен? — засмеялась Анна. — Разве я тебе не обещала показать кое-что красивенькое? Но об игрушечном замке не может быть и речи, ветреник! С такими, черт побери, не играют, слышишь? Такими можно только любоваться. И обращаться очень заботливо — не забывай, она драгоценная президентская дочь, гордая и неприступная. Впрочем, за нее я не боюсь, она зубастая, у нее язык, будто бритва — особенно, если дело коснется тебя. Горе твоему сердцу, бедный Конрад! — И сестра с ликующим видом убежала от него, победно распевая.
Не упуская из глаз бернскую девушку, Конрад, которого неожиданно охватило озорство, стал с задиристым видом пробираться к ней.
— Бьюсь об заклад, что вас зовут Барбарой или Марианной, — неожиданно вырвалось у него, когда он оказался так близко перед новенькой, что едва не столкнулся с ней лбом — умышленно, чтобы ей пришлось отступить.
Однако девушка упрямо стояла на месте, нахмурив брови. — Я вовсе не Барбара или Марианна, а Катри, — ехидно заметила она, не собираясь отступить ни на дюйм.
— Из Лангнау или из Зигнау? — продолжал допытываться Конрад.
— Я бы на вашем месте, — запальчиво воскликнула Катри, — на том бы и порешила, коль ничего больше не приходит на ум. Нет, я из Мельхдорфа.
— Из Мельхдорфа? А где же этот самый Мельхдорф? А впрочем, откуда из Мельхдорфа — с лесопилки или с мельницы? Мельхдорф, как вам известно, велик.
— Ну, на сей раз вы уж вовсе глупости говорите. Мельхдорф маленький. Там вообще нет ни лесопилки, ни мельницы. Впрочем, так и быть, скажу, если вы так любопытны. Тут нет никакой тайны. Мой родной дом — усадьба «Голубятня».
— Ага, значит, из «Голубятни». Стало быть, оттуда. Ничего не скажешь, у вас в «Голубятне» подходящие голубки. — И, осмотрев ее с головы до пят, добавил: — А что, у вашего отца, у президента, найдутся в «Голубятне» чистенькие, молочно-белые голубки вот такого роста?
Лицо Катри просияло гордостью:
— Нас шестеро братьев и сестер, все как на подбор. Вполне может быть, что мой старший брат Ганс на пол-головы повыше вас будет.
Конрад недоверчиво зажмурил один глаз.
— Тот, у кого слабое зрение, пусть сколько угодно жмурится, — гневно воскликнула Катри, — а я настаиваю лишь на том, что мне доподлинно известно. Наш Ганс смотрит мне точнехонько на пробор. Зная это, вы сами можете прикинуть его рост, если обучены счету.
— Или измерить? — предложил Конрад.
— Как вам будет угодно.
Оба полушутя-полусерьезно с вызовом поднялись на цыпочки.
Не так, — вмешалась Жозефина. — Надо по-настоящему, спиной к спине, как полагается. — И она дерзко поворотила обоих, приблизила к стене и столкнула друг с другом спинами. — Быстро сюда. Табуретку, линейку и карандаш! — приказала она. — Живее!
Только Анна прервала игру.
— Пошли есть суп, — напомнила она певучим, приглашающим тоном, глядя на пару по-матерински, сверху вниз.
— Пошли есть суп! — весело повторили девушки, передразнивая напевную интонацию Анны. И молодежь стайкой устремилась к столу для прислуги, а вместе со всеми и Катри, чему Конрад немало удивился, как будто в этом было нечто неподобающее.
Он задумался. Может быть, отважиться и от своего имени пригласить ее за семейный стол?
Но она уже торжественно расстелила на коленях салфетку и, развеселившись по поводу его удивления, издалека смеялась ему.
— Мне и здесь великолепно сидится, — заявила она.
В то время как Конрад нерешительно приближался к своему месту, ему достался тычок под ребра, притом весьма чувствительный.
— А со мной, — пролаял астматический голос, — со мной-то, что же, уже и не здороваются, так, что ли? Нас, стало быть, уже и не замечают? Конечно, я не кельнерша, не могу похвастаться гладкой мордашкой. Я всего лишь старая Урсула или «тетя-ведьма», как ты меня окрестил в былые времена, помнишь? Когда ты решил, что после моих приездов всегда бывают несчастья. А ведь ты сам всякий раз устраивал какую-нибудь очередную глупость и за то получал розги. Один раз забрался на крышу и испортил черепицу, в другой раз изукрасил себе физиономию, а в третий выпустил лошадей в сад Хайни и так далее — всего не перечесть. Так уж люди устроены: натворят глупостей, а потом расхлебывают кашу, которую сами же и заварили...
— Здравствуй, тетушка! — остановил Конрад этот словесный поток. — Вообще-то я сегодня уже имел удовольствие приветствовать тебя, впрочем, издали. Мое почтение! Тебе надо отдать должное: ты храбрая, тетушка, ни дать ни взять — святой Георгий. Неужели никого пока не выгнала из дома? А что скажешь насчет бедной тетушки- изюмины?
Тетушка-ведьма бросила в сторону тетушки-изюмины злой взгляд, клацнув челюстью, будто такса, проглотившая крысу.
— В доме может править кто-то один, а не двое сразу, — протрубила она.
Конрад отвесил ей отменно учтивый поклон.
— Верноподданнейше слушаюсь единовластную повелительницу дома. — Потом снова подал тетушке руку в знак приветствия.
Однако тетушка жеманно отдернула руки и ретировалась.
— Ты вовсе не обязан, ежели не хочешь. Я тебя не принуждаю.
— А я тебя тоже, — ответил он, не обращая внимания на тетушкину ретираду, и уселся за стол. — Анна! А мать появится за обедом?
— Думаю, что да, но попозже. Она как раз одевается.
— А ты? Ты что, не будешь обедать с нами?
— Нет, я буду подавать отцу.
— О горе! — простонал Конрад.
Горячий суп благотворно подействовал на все общество и развязал языки.
— Откуда все эти великолепные букеты лиловых цветов? — спросил Конрад, обращаясь к тетушке. Он извлек цветок из букета и понюхал.
В ответ ни слова.
— Суп — что надо! — сказал он спустя какое-то время. — Низкий поклон тому, кто его приготовил.
Тетушка искоса злобно взглянула на него и что-то пробормотала себе под нос. Наконец она удостоила племянника ответом:
— Скажи, если бы ты знал, что суп варила я, то уж наверняка счел бы его невкусным?
Немного выждав, Конрад сделал третью попытку заговорить:
— Какая сегодня великолепная погода, на небе ни облачка.
— Да, погода была бы подходящей, — пробурчала тетушка, — если бы и люди были такими, как полагается.
Конрад был сыт по горло такой беседой. Пересилив себя, он подавил желание говорить, намеренно отводя взгляд от брюзгливой тетушки. При этом взор его невольно остановился на кельнершах. Что и говорить, девушки выглядели чертовски симпатично в своих новеньких, легких летних платьицах, цвета которых представляли собой самую невообразимую смесь, вполне, впрочем, подходящую. Действительно, трудно было решить, которой из них отдать предпочтение — то ли Берте с ее мягкими, словно шелк, волнистыми каштановыми волосами, гармонировавшими с платьицем в белую и бирюзовую полоску, то ли бледной Хелене с ячменно-светлой головкой, одетой в белое платье с розовыми лентами, словно агнец из альбома, ведомый за ленточку ангелом. А, может, рыжей курчавой Жозефине? Правда, разве летом носят черные платья? Ну, Жозефине это лучше знать, чем ему — ведь ей черный цвет удивительно к лицу. И только Бригитта, этакий ленивый бегемот, явилась в нелепом коричневом повседневном платье. А среди всех них прямо и неподвижно восседала Катри в своем накрахмаленном черно-белом костюме кантона Берн. Конрад даже мысленно чуть было не оговорился: «в мундире». Стоило ей вместо ножа и вилки дать щит и копье — и вот вам самое совершенное воплощение Гельвеции1
Так он поочередно останавливал свой взгляд на всех девушках. Они, в свою очередь, тоже смотрели в его сторону, отчего возникли оживленная игра глазами, сверкающие взгляды, подмигивание. У Конрада чесался язык, ему не терпелось поозорничать.
— Ваше здоровье, Бригитта, — начал он, подняв рюмку. — Вы когда-нибудь уже пили вино без никотина?
Бригитта принялась возмущенно защищаться.
— Тьфу! — презрительно буркнула она, с отвращением вытирая губы. — Вино без никотина — что мед без сахара. — При этом она победно огляделась вокруг, дабы удостовериться, что все наслаждаются ее остроумием.
А поскольку вокруг раздались смешки и посыпались поучения (до нее все еще не доходило, что она сморозила глупость), Конрад занялся Жозефиной, которая просвещала Бригитту так усердно, словно миссионер язычников.
— А вы, Жозефина? Вы ведь кажетесь себе в высшей степени умной! Не разгадаете ли следующую загадку? Кто берет что с чем?
Жозефина принялась изо всех сил думать.
— Кто берет что с чем? — пробормотала она, повторяя фразу, а глаза ее тем временем искали ответ на потолке. Вдруг она уверенно заявила: — Господин Ребер возьмет только какую-нибудь с хорошими деньгами!
— Превосходно! — похвалил Конрад. — Жаль только, что не отгадали. Вот разгадка: «Страху приходит конец»2
За этим последовала коллективная пантомима сочувствия. Выразительные гримасы должны были обозначать сочувствие по поводу утраты остроумия Конрадом. Но Катри не преминула отбрить Конрада своим острым язычком.
— Это казарменная острота! — пренебрежительно заявила она.
— Ладно. Тогда я преподнесу вам кое-что насчет вашего родного кантона. Одного опасаюсь: сие окажется немного не по зубам, потому что ответ требует крутого подъема на верхние ступеньки образования. Что с корнем -роз процветает в кантоне Берн?
— Роза любви! — поспешила ответить Хелена.
— Роза прямодушной откровенности и честности! — самодовольно поправила Катри, буквально раздуваясь от гордости за свой кантон и от чувства некоего превосходства сродни расовому.
Конрад, которого раздражал ее надменный местный патриотизм, бросил на Катри насмешливый взгляд.
— Роза прямодушной откровенности, — съехидничал он. — Если речь идет о прямодушии, значит, это никак не может быть вьющаяся роза, живая изгородь. «Открытость, откровенность» исключают понятие бутона. Нет, вовсе не «роза кого-то» или «роза чего-то», а просто нечто на -роз: фосфоронекроз.
Бурей аплодисментов слушатели простили Конраду небольшую колкость с его стороны, тогда как униженная Катри, пунцовая от стыда и гнева, бросила на него разъяренный взгляд.
И только Жозефина заявила, что вообще не согласна с такими разговорами.
— Что это сегодня с нашим строгим господином хозяином? — сердилась она. — Он упорно стремится навязать нам какие-то потусторонние загадки. То «конец страху», то «некроз, некролог». Фу, можно и правда поверить, будто вы уже собираетесь писать завещание. А теперь я хочу загадать вам загадку. Тихо! Внимание, навострите уши! Что ходит на двух ногах, а все-таки не курица и почему?
— Бенедикт, кучер, — весело ответила Берта.
Жозефина поморщилась с видом умудренного школьного учителя:
— Берта, ты рассуждаешь нелогично. Во-первых, Бенедикт не ходит, а спотыкается; во-вторых, если имеется в виду курица, это не может быть мужчина, в противном случае был бы «не петух». В-третьих, разве у Бенедикта нельзя спросить, «почему»? Стоит только взглянуть на него, чтобы понять, почему. Нет, это Бригитта, потому что она гусыня.
Принимая вызов, Бригитта скорчила гримасу, зашипела на Жозефину, высунула язык и проблеяла, словно овечка.
Теперь уже тетушка не намерена была больше терпеть эти бессмысленные шутки. Она несколько раз шумно выражала неудовольствие по их поводу — ворчала, бурчала себе что-то под нос, кашляла, топала ногами, двигала стулом, швыряла ложки и тарелки. Терпение ее лопнуло.
— С каких это пор швейцар не обедает за общим столом? — гаркнула тетушка Конраду, сидящему напротив. Резкий и грубый, ее окрик прозвучал, будто треск лопнувшего горшка. — Ага, ясно! Он недостаточно благороден для господина лейтенанта.
— Дело не в благородстве или отсутствии такового, — спокойно возразил Конрад. — Дело в том, что швейцар — дерзкий хам, с которым мне вскоре придется еще поговорить.
— Я не знаю, — со вздохом продолжала тетушка, возводя очи горе, словно мученица, — но со времени этой проклятой военной службы ты стал похож на перчатку, которую вывернули наизнанку.
— Если бы так, то это было бы сплошным плюсом, — ответил Конрад. — Ведь перчатки никогда не были у тебя в фаворе.
— И вообще, — бурчала тетушка, — зачем эта бессмысленная муштра? Если народы Европы хотят сохранить мир, если европейские князья в своем ненасытном тщеславии алчут чужих территорий...
Конрад перебил ее:
— Ну, народы и князья Европы, стисните зубы! Ее высочество тетушка Урсула из Хутцлисбюля собственной персоной прочтет вам мораль.
Смех, раздавшийся за столом, где сидели кельнерши, поддержал нагоняй племянника, так что тетушка испытала двойное унижение.
Обед продолжался в удручающем молчании, с торопливым проглатыванием еды и бесконечными, невыносимыми паузами. А в это время на лугу какая-то пичужка непрерывно пилила свое «тюи-тю» с таким ликованием, словно не могла до конца поведать о своем майском счастье.
Повариха, верная старая Лизабет, подав на стол овощи, задержалась возле тетушки и что-то нашептывала ей, непрерывно бросая враждебные взгляды на Катри. Тетушка выпятила губы.
— У всякой пташки свои замашки, — нарочито громко выкрикнула она, покосившись в сторону Катри: — Кажется, есть такие гости, которым это нравится.
— Что? — В голосе Конрада прозвучала угроза.
— Ну, когда какая-нибудь кельнерша расфуфырится, словно призовая овечка при игре в кегли, и выставит напоказ оголенные руки, так что смотреть тошно, да еще бесстыже пялит глаза, будто бог весть кто.
Конрад мысленно подбирал в уме слова, чтобы как следует отчитать тетушку, но Катри не стерпела, взволнованно вскочила с места и едко бросила в ответ:
— Наряд, который на мне — всеми уважаемый национальный костюм. А оголенные руки могут показаться неприличными лишь какому-нибудь бесстыжему дряхлому развратнику, да еще, пожалуй, старому завистливому огородному пугалу в юбке. А если я смотрю прямо и не прячу взгляд, так это потому, что не ведаю, с какой стати и перед кем обязана опускать глаза. Впрочем, если я тут кому-то перешла дорогу, пусть только даст знать. Я себя не навязывала, да и пришла только потому, что фрейлейн Анна Ребер лично разыскала меня на водном курорте и упросила помочь.
Катри! — настойчиво сказал Конрад. — Если вас позвала моя сестра, это все равно, что вас пригласили отец или мать. От их имени я прошу вас остаться. Пусть вас не вводят в заблуждение попреки незваных особ.
И он спокойно сел.
— Ежели так, — ответила Катри, — хорошо. Вы хозяин, я верю вашему слову. А мнение моих неблагожелателей для меня значит не больше, чем скрип мельничных колес.
Однако тетушка не хотела примириться с поражением. Сделав несколько бессловесных попыток выразить свое возмущение, она разразилась целой тирадой по адресу Конрада:
— Ага! Ты, похоже, один из тех, кто при виде кирпично-красных щечек сразу начинает влюбленно косить глазами, будто курица перед навозным жуком. А о внутренней ценности, о добродетели теперь никто даже не спрашивает.
Тут уж Конрад не стерпел.
— А ты, — ответил он, — ты принадлежишь к числу тех, кто считает признаком женской добродетели зоб.
Залп безудержного хохота, последовавшего за этими словами, а также слезы на глазах у тетушки свидетельствовали о том, что он попал не в бровь, а в глаз. Теперь Конрад глубоко сожалел о том, что невольно сорвалось с языка: он совсем забыл, что у тетушки зоб, и ему было нестерпимо стыдно после такой бестактной выходки. Он изо всех сил пытался исправить положение. А между тем тетушка извлекла носовой платок, принялась вытирать глаза и, запинаясь, сказала:
— Только помолчи, Конрад, ради Бога, помолчи. Было время, когда я не казалась тебе уродливой, несмотря на зоб.
— Это время еще не миновало, — изо всех сил старался уверить он, — ты и сейчас для меня вовсе не уродливая.
Но тетушка, не ступив на спасительный мостик, наведенный племянником, продолжала сокрушаться с видом жертвы.
— Ведь были же когда-то прекрасные времена, когда ты был еще маленьким мальчиком!
— Милая, дорогая тетушка, разве я виноват, что вырос и стал взрослым? Ты ведешь себя точно так же, как моя мать. Меня постоянно упрекают, словно за измену, за то, что я стал мужчиной. Черт побери, не могу же я ради вашего удовольствия всю жизнь провести с соской. Или чего вы, собственно говоря, от меня требуете?
Словно не слыша его оправданий, тетушка продолжала прясть свою нить, перейдя к обвинительным вздохам.
— Господи Боже мой, ведь ты, бывало, сиживал у меня на коленях!
Этот неудержимый поток глупости и несправедливости еще сильнее раздражал его.
— Ежели недостает именно этого, — сердито сказал Конрад, — то горю вполне можно помочь: коли в самом деле желаешь, я сяду тебе на колени.
На сей раз не засмеялись даже девушки. Все они серьезно и смущенно смотрели перед собой, опустив глаза, а когда он удивленно попытался понять в чем дело, вдруг обнаружил, что рядом с ним за столом сидит мать, болезненно-бескровная и слабая, закутав голову платками.
Конрад побледнел, но потом взял себя в руки.
— Здравствуй, мама! Как ты себя чувствуешь? — участливо, робким голосом спросил он.
Ответом на вопрос сына были слабая дрожь бескровных губ и укоряющий взгляд.
— Я тебя спросил, как ты себя чувствуешь, — обиженно повторил он.
Отворачивая лицо, мать едва слышно выдохнула:
— Так, как могу себя чувствовать.
— Ну, это может быть по-разному, — возразил Конрад. — Мне очень хотелось бы узнать, как твои дела именно сейчас. — Голос его дрожал, ибо что-то возмущалось в его душе, нечто такое, что он с трудом в себе подавлял.
И снова над столом нависло молчание, но на сей раз не досадное, а робкое. Только мать и тетка время от времени обменивались короткими замечаниями с таким видом, будто рядом не было никого, кроме них двоих.
— Как громко трещат кузнечики, — прошептала мать, страдальчески морща лоб и боязливо натягивая на уши платки своими тонкими, бледными, исхудавшими пальцами.
Тетка согласно добавила:
— А дрозды в Хутцлисбюле завелись с четырех часов утра.
Конрад прикусил губы и уставился в потолок.
— Дрозды завелись, — машинально повторил он. — Дрозды, которые завелись. Надо же — дрозды и вдруг «заводиться». — Внезапно его охватил безудержный смех, сотрясший все тело.
Тут тетка вновь схватилась за носовой платок, а мать смерила сына долгим взглядом, в котором сквозили горе и отчаяние.
Этот взгляд мгновенно убил смех, поселив в сердце Конрада мрачный гнев.
Какое-то время он еще сдерживался, но потом, когда за обоими столами не раздалось ни звука, Конрад сорвался.
— Можно подумать, что мы сидим на поминках, — сказал он сквозь зубы, отбрасывая нож и вилку.
— Не все вроде тебя расположены вечно смеяться и фиглярствовать, — укоризненно заметила мать.
После этого упрека Конрад окончательно потерял самообладание.
Громко, словно священник в церкви, он крикнул на всю комнату:
— А я утверждаю, что сидеть с кислым видом — непозволительная, непростительная дерзость, если несчастье щадит дом, если не на что жаловаться, если всего в достатке, все живы и пока здоровы, если нет забот и никто не голоден. А все делают вид, будто смерть нанесла свой удар. Это же нехорошо, это ведь просто неблагодарность. Вести себя так — значит не заслуживать снисхождения, которое дарит судьба.
Тут за его спиной вдруг оказалась Анна — он и сам не знал как — и сильно дернула брата за рукав.
— Конрад! — приглушенным голосом укоряла сестра, — ты в своем уме?
— Нет, я не в своем уме! — еще громче крикнул он. — Но я высказал серьезную, разумную мысль и повторю ее еще раз. Обладать счастьем и носить на себе маску несчастья всего лишь из-за желания попричитать и поплакаться, из показной скорби — это кощунство, дерзость. Кто делает так, почти накликает на себя несчастье.
Теперь мать, опираясь руками о стол, поднялась с места и неверными шагами направилась к двери.
Тетушка же сочла возможным подхватить эстафету ее горя и печали. Брюзжа и бросая на всех косые недобрые взгляды, она пыталась убить любое проявление радости. А поскольку девушки, постепенно осмелев, начали тихо болтать между собой, она пролаяла:
— Замолчите! — Немного погодя, когда Лизабет подала на стол для прислуги огромное блюдо с жарким, тетушка возмущенно всплеснула руками: — Боже правый! — и осенила себя крестом. — Что за телячье жаркое невероятных размеров! В наши времена прислуга была вне себя от радости, если ей доставался кусочек постного мяса из супа!
В столовой будто бомба взорвалась. Кельнерши вскочили со своих мест, отталкивая тарелки. Красные как раки от гнева они задыхались, возмущались, протестовали.
— Если вам жалко жаркого, — крикнула Бригитта, — если вы нам завидуете, то жрите его сами, мы не притронемся.
При виде этой сцены у тетушки разлилась желчь.
— Встать! — заорала она. И сама подала всем пример, поднявшись со стула и вновь плюхнувшись на него. Одновременно она стучала по столу черенком ножа, будто молотком.
Девушки невольно послушались, хотя с ворчанием и неохотой. Однако к жаркому они все равно не притронулись, строптиво спрятав руки под фартуками.
Тогда тетушка заковыляла к их столу, схватила блюдо с жарким и швырнула в сторону кельнерш.
— Жрать, — гаркнула она, — если уж подано! Пока не остыло!
Горя негодованием, кельнерши метали на тетушку злые взгляды. Жозефина шипела проклятия, Бригитта ощерила зубы, Хелена и Берта плакали от досады. Никто не притронулся к еде, за исключением Катри, которая вообще сохраняла спокойствие.
— Что касается меня, — сухо заявила она, — я буду есть как ни в чем не бывало.
Тетушка не нашлась что ответить, понимая, что не сможет ударить рослых и крепких девчат. Да и вообще она не привыкла бить слуг. И все же только такие действия казались ей единственно верным выходом из положения, ибо других она не сумела придумать. Тетушка стояла бессильная и растерянная; в ее сверкающих злобой глазах проглядывало отчаяние. Она была похожа на престарелую гадюку, впервые понявшую, что ее яд бессилен. Как в былые времена, она держала в узде и муштровала всю челядь в «Павлинах»! Если надо было вышколить служанку, если не хотела слушаться повариха, если предвиделись буйные гости, тотчас же посылали за тетушкой Урсулой в Хутцлисбюль. А теперь ей приходилось терпеть открытый протест этих соплячек! Ее уже давно одолевали разные недуги, она сносила их героически, но сейчас впервые ощутила старческую немощь.
Когда тетушка вновь прихромала на свое место, это было похоже на отступление после проигранной решающей битвы. Она чувствовала: ее власть кончилась. А так как ей не хотелось с этим мириться, она тотчас же засобиралась домой — чем скорее, тем лучше — к своим трем кошкам, к кофе с цикорием, к покладистым и безответным девочкам-сироткам.
Конрад встретил ее с заранее заготовленным выговором, не слишком резким, но и не мягким, холодно и сдержанно.
— Тетушка! Я чту наше родство и чрезвычайно благодарен тебе за твою бескорыстную помощь, но вряд ли мои родители согласились бы с тем, что ты ни за что ни про что, без малейшего повода разругала наших самых преданных, самых дельных кельнерш.
— Ну, иди, иди же! — зашипела она. — Ступай, обними и зацелуй своих милых, дорогих кельнерш. Иди! Чего ждешь? Я тебе не стану мешать. Сдаю свои позиции. Я ведь уже и без того стала лишней, с тех пор как почтенный господин лейтенант, кажется, начал командовать в доме.
— Я ни в коем случае не требую, чтобы ты сдала свои позиции, — сказал Конрад. — Напротив, мы благодарны тебе за то, что ты с твоим опытом помогаешь нам, и умеем по достоинству оценить твою поддержку. Но никак не возьму в толк, зачем тебе вздумалось оскорблять кельнерш.
Но тетушка упрямо настаивала на отъезде.
— Я уеду, уеду. Можешь не уговаривать. Я уже ухожу и мигом упакую свой маленький саквояж.
И в самом деле тетушка поковыляла к двери. И тут вдруг он, взрослый, сильный мужчина, самостоятельный человек, солдат и гражданин с правом голоса, словно несчастный школьник, которому учитель грозит пожаловаться родителям, ощутил страх перед маленькой, сгорбленной, дряхлой тетушкой, жуткий, ужасающий страх.
Он встал и оробело пошел вслед за нею.
— Тетушка! — униженно умолял он.
— Ах, брось! — тявкнула она. — Твои извинения — что мертвому припарки. К чему искать прошедший день? — И она упрямо засеменила прочь из комнаты в такой спешке, будто ее преследовали.
Девушки, однако, в отместку кричали ей вслед: «Счастливого отъезда! Чтоб ты никогда снова не появлялась!», «Злая ведьма», «Избави нас от всего злого» и тому подобное.
Но Конрад одним движением руки положил конец этим выкрикам. Несмотря ни на что он все-таки любил свою тетушку-ведьму: в его детские годы тетушка Урсула была очень, очень добра к нему.
Еще дрожала дверная ручка, еще глаза всех присутствующих не отрывались от стены, за которой исчезла тетушка, когда тяжелыми слоновьими шагами ввалилась огромная страшная фигура старого хозяина «Павлинов» — однако не из гостиной, а с противоположной стороны, с террасы. Смерив кельнерш взглядом, наводящим ужас, он заревел на них:
— Только и умеете, что жрать, пить, браниться да флиртовать. А о том, чтобы обслужить посетителей, ни одна не думает.
Будто куры, вспугнутые собакой, девушки сломя голову вскочили из-за стола и бросились к ближней двери.
Однако старик преградил им путь. По привычке он хотел топнуть ногой, чтобы решительнее настоять на своем, но сумел сделать это лишь вполсилы, так как нога болела, когда он твердо ступал на нее.
— На этот раз я обслужу гостя сам, раз уж принял заказ, — оборонялся он, превозмогая боль. — Смотрите только, впредь будьте на своих местах.
Расстроенные и растерянные, кельнерши удалились, когда за их спиной на стол был поставлен лакомый пирог.
Катри вначале было поднялась со всеми остальными, но потом передумала, вернулась и стала расхаживать взад-вперед по комнате.
Старик прицепился к ней:
— А вы? Вы себе кажетесь, наверное, чересчур благородной с вашими барскими ожерельями да изнеженными пальчиками.
Она показала в окно:
— Девять кельнерш на одного-единственного тщедушного и обшарпанного деревенского мужичонку — это уж слишком. — И когда старик бросил на нее возмущенный взгляд, она со смехом повертела руками перед его лицом.
— Господин Ребер, я нисколько не боюсь, даже если вы грубиян. У меня дома такой папаша, против которого вы — безобидное дитя.
Он задержал на ней свой взгляд, все более утихомириваясь, хотя и пробурчал про себя что-то непонятное. Наконец одобрительно хмыкнул и тяжелым шагом удалился на террасу, зажав в руках бутылку с вином и рюмку.
Конрад все еще сидел на своем месте. В сторонке, на некотором расстоянии, у окна уселась Катри и принялась барабанить пальцами по подоконнику.
К ним присоединилась Анна. Тихо печальным голосом она отчитывала брата:
— Ах, Конрад! Ну какой же ты злой человек, что ты опять учинил! В довершение ко всему тетушка сидит сейчас у матери, травит ей душу и собирается уехать домой. Она утверждает, будто ты ее выгнал.
— Она говорит неправду, — возразил Конрад.
— Она лжет, — подтвердила Катри.
— Бедный голубок! — пожалела Анна. — Мать велела приготовить его для тебя.
— Что еще за голубок? Для меня? От матери? Где?
Анна указала на поднос, стоявший перед ним.
— Вот, но теперь уже поздно, он остыл.
— Во время обеда мне пришлось заниматься чем угодно, я даже поесть не успел, — уныло заметил Конрад. Потом придвинул к себе поднос и принялся добросовестно поглощать голубя, чтобы доставить удовольствие матери, хотя вовсе не ощущал вкуса еды.
Между тем Анна и Катри, словно подружки, расхаживали по комнате рядышком, обняв друг друга рукой за талию. Обе были похожи на детей, изображающих парадный шаг. Проходя мимо Конрада, они украдкой обменивались взглядами, о чем-то шептались и весело хихикали. Наконец девушки остановились и поцеловались.
— Ну что, тебе тоже хотелось бы? — подразнила Анна, лукаво облизывая губы. Потом приблизилась к брату, повисла у него на плече и прошептала: — Чувствуешь? Тебе больно? Ничего, так тебе и надо. Ты тоже часто причиняешь другим боль. Ладно, целоваться можно, а о женитьбе и речи быть не может.
— О том и во сне мыслей нет, — громко ответил Конрад. — А впрочем, почему бы и нет при определенных условиях?
Она прикрыла ему рот, склонилась над другим плечом и прошептала на ухо:
— У нее нет сердца. — Сказав это, Анна убежала прочь.
Уже за дверью сестра обернулась и крикнула:
— Мне сейчас надо одновременно быть на кухне и в погребе, стеречь отца, успокаивать тетушку, утихомиривать мать, а у меня всего две ноги, два глаза и один рот. Хоть бы матери кто-нибудь доброе словечко сказал!
И вот Конрад и Катри остались одни, молчаливые и смущенные, не зная, как себя вести. Правда, это продолжалось совсем недолго, так как старик уже возвратился с пустой бутылкой, чтобы поставить ее в шкаф. Потом повернулся и пристально посмотрел на сына.
Сегодня ты, кажется, прирос к столу. Не мешало бы помочь убрать мебель из танцевального зала, вместо того чтобы сиднем сидеть за едой.
— Убирать танцевальный зал? Откуда мне было знать, что сегодня будут танцы, если никто не потрудился сказать мне об этом?
— Неужели надо предварительно нижайше просить разрешения у ясновельможного господина лейтенанта? Разумеется, сегодня будут танцы, как каждый год. Или ты имеешь что-нибудь против?
— Я бы никогда не осмелился на такой шаг.
Отец приблизился к Конраду.
— Никогда бы не осмелился? Так осмелься, никто тебя не съест.
Катри незаметно вышла из комнаты.
— Скажи, — настаивал старик, — скажи только, если способен сказать что-нибудь разумное.
— Надо знать, чего хочешь. А хотеть можно либо крестьянского хозяйства, либо гостиницы.
Тогда отец, заговорив повышенным тоном, решительно отрезал:
— До сих пор все шло, как заведено, и я не намерен ради тебя менять привычный порядок. Вот когда я буду лежать в земле, делай что угодно и веди дела по-своему, как тебе вздумается. А пока еще я здесь хозяин.
Отец счел разговор оконченным, но Конрад, быстро взглянув на небо, сказал:
— Кто вообще захочет танцевать в такую прекрасную
погоду?
— Об этом уже позаботились заранее. Хоть мы и не так много воображаем о себе, как некоторые молодые умники, в своем деле пока еще разбираемся. Жители Ваггингена уже выразили свое согласие, притом письменно — чтобы ты знал. И даже оба конца деревни — и верхний, и нижний.
Конрад поднял голову и удивленно посмотрел на отца.
— Верхние и нижние ваггингенцы вместе? В одном и том же танцевальном зале? Через восемь дней после выборов? — с явным сомнением в голосе спросил он, играя ножом на столе.
— Это вовсе не повод для того, чтобы строить из себя всезнайку, — с угрозой в голосе заметил хозяин «Павлинов». — Пока у нас еще достает ума, чтобы понять, что верхние и нижние ваггингенцы не подходят друг к другу — одни консерваторы, а другие либералы. И никому не пришло в голову приглашать их одновременно. Пока у меня еще хватает на это мозгов, хоть я и не лейтенант, а всего-навсего вахмистр. Сначала, конечно, спросили у верхних ваггингенцев, те отказались. Зато нижние согласились, потом вчера и верхние тоже. Вот как было дело.
Конрад ничего не сказал в ответ, продолжая играть ножом и глядя в потолок.
— Кажется, для твоего ума это неразрешимая задача: ты не говоришь ни слова.
— Да нет, — возразил Конрад, — просто я слишком хорошо понимаю, что будет драка, которая может закончиться убийством.
— Не оторвут же они друг другу головы!
— Драка есть драка, все равно, чем драться — штыками или кулаками, саблями или дубинками. Никто ведь не может предугадать, чем она закончится. Ненависть не знает сомнений, а оружие — совести. Но вот что настораживает: даже если отвлечься от того, состоится или нет в танцевальном зале драка в деревенском вкусе, будут ведь еще и приезжие из города, а среди них женщины и дети.
— А я-то зачем здесь? — нетерпеливо воскликнул отец. — До сих пор мне удавалось поддерживать порядок, вот и сегодня сумею. Или ты меня уже считаешь полным инвалидом? Пока что руки-ноги, слава Богу, целы — сумею всех держать в узде.
— Если не получишь хорошего тумака.
— До сих пор справлялся с более сильными людьми, чем ваггингенцы.
— Допустим. Да вот только жители Ваггингена похуже сильных будут. Они трусливые, а значит, подлые. Им нельзя доверять ни на грош.
После этих слов владелец «Павлинов» потерял всякое терпение.
— Да что ты мне, в самом деле, прокурор, что ли? — вскипел он. — С какой стати я должен подвергаться допросу, словно обвиняемый? Короче, я решил, что будут танцы, — значит будут, согласен ты или нет. По-моему, коротко и ясно. Или ты все еще не понял?
— Да нет, я все прекрасно понял.
— Ну вот. А теперь нишкни.
— Вряд ли тебе стоило все преподносить в такой грубой форме, после того как ты сам заговорил со мной о танцах.
— Полагаю, для того, чтобы разговаривать с господином лейтенантом, не нужен сборник комплиментов? Ты
все сказал или хочешь сделать еще какое-нибудь замечание?
Теперь и Конрад не мог сдержать гнев.
— Да, хочу, если уж об этом зашла речь. В самом деле
хочу сделать одно замечание, а именно: мне было бы угодно, чтобы ты на людях повежливее обращался со мной —
вот что мне хотелось бы сказать.
— На людях? Может, я ошибаюсь, но твой благословенный лик мы имеем счастье временами видеть лишь там, где поблизости есть какая-нибудь юбка.
— Отец! — разъяренно вскричал Конрад. — Остерегись! Я не позволю себя оскорблять!
— Оскорблять? Да разве это не правда чистейшей воды?
Разве я только что не застал тебя в комнате вдвоем с этой
бернской особой?
— Сам юбочник, потому и о других так же думаешь, — невольно вырвалось у Конрада вполголоса.
— Что я слышу? Что ты имеешь в виду? Говори уж громко, если не боишься! Значит, не решаешься сказать?
— Да нет, почему же! Ты сказал «в комнате вдвоем». Так вот, все зависит от того, как и когда, где и с кем. — При этом Конрад многозначительно посмотрел в глаза отцу.
— Что ты хочешь этим сказать? — задыхаясь, выдавил старик, и лицо его побагровело.
— А то, — ответил сын, — что любая девушка может без опасений оставаться в комнате наедине со мной.
Едва он произнес эти слова, хозяин «Павлинов» тяжелым шагом, так что задрожали половицы, приблизился к столу, отделявшему его от сына.
— А с кем девушка не может оставаться? — спросил он с угрозой в голосе. — Выражайся яснее!
— Ладно, выражусь яснее. Коли судить чисто внешне, то ты, кажется, сам охотнее моего остался бы с Катри вдвоем в комнате.
Отец сделал глубокий вздох, а потом, выпучив глаза, разразился словесным потоком:
— В Туне есть одна улочка — понимаешь? С окнами, выходящими на реку Ааре — помнишь? А на той улочке стоит один домик — тебе ясно? А к домику ведут три ступеньки — намек понятен, или надо обозначить все поточнее?
Конрад взлетел со стула.
— А в Берне есть мостик — понимаешь? А за мостиком островок — помнишь? А на том островке на окне одного дома ножом выцарапана дата, а рядом с датой имя драгунского вахмистра — тебе понятно? А имя начинается на «р» и оканчивается тоже на «р». Хватит или дать более подробное описание?
Склонясь над столом, дрожа от ярости, они швыряли в лицо друг другу обидные слова; взгляды их горели нескрываемой ненавистью. Но когда в коридоре громко захлопали в ладоши и раздались одобрительные возгласы женщин в знак победы Конрада, старик умолк, сдержал угрозу, вертевшуюся на языке и как-то незаметно проскользнул в гостиную.
Конрад мгновенно отрезвел в глубоком испуге. Что он натворил! Насколько мог помнить себя, он никогда не перечил отцу, не говоря уж о том, чтобы идти против его воли. Теперь сын не только надерзил отцу, разговаривая с ним как с врагом, но взглядами и словами выдал все свое отвращение, а это ему никогда не простится. Он вовсе не собирался так поступать, слова вырвались невольно, в пылу возмущения. Что случилось, то случилось. Оробев, Конрад почувствовал, как накатывает ужасный вал бед и несчастий, по сравнению с которыми прежнее состояние, казавшееся невыносимым, выглядело теперь как прекрасное старое время. Он даже не отваживался представить себе, что ждет его впереди. Но нужда заставила совершить мысленный прыжок в будущее. Он увидел, как старик, застигнутый апоплексическим ударом, хрипит на смертном одре, сам он стоит рядом, потрясенный, печальный, прощающий. Теперь эта картина уже не вызывала у него отвращения. Нет, он благоговейно ждал такой развязки — не из ненависти, а из-за безнадежной сердечной печали, как единственного пути к примирению, как утешительного ангела-хранителя, способного предотвратить нечто еще более ужасное.
— Не выйти ли вам ненадолго на свежий воздух, господин Ребер, вместо того чтобы сидеть в душной комнате? — спросила Катри, появившись на пороге.
— Почему бы и нет? — рассеянно ответил Конрад, собираясь было пойти за ней, но по пути намерения его изменились. — Идите вперед, — сказал он, — я приду позднее. — Он повернулся и пошел в противоположном направлении, на верхний этаж, в спальню матери. Ему хотелось сказать ей ласковые слова, памятуя о напоминании сестры.
Но возле лестницы он едва не столкнулся с отцом, вышедшим из гостиной. Оба отпрянули друг от друга, будто двое медведей, неожиданно встретившихся в зверинце. Отец быстро вернулся в комнату, сын же тихо пошел наверх.
В спальне матери было темно, хоть выколи глаза, так как окна были занавешены плотными гардинами.
— Смотрите, а вот и он собственной персоной, — встретил его из темноты злой окрик тетушки. Слова эти сопровождались отвратительным смехом, в котором Конраду почудилась издевка. Ощупью приближаясь к кровати, он споткнулся и упал на кресло, стоявшее на пути. Падая, Конрад чувствительно ударился о деревянную спинку кровати, свалив на пол и разбив что-то глиняное, звон черепков которого долго стоял у него в ушах.
— Неужели этот недотепа только и знает, что причинять ущерб и приносить невзгоды! — простонала мать.
Конрад резко повернулся, ушел из спальни и спустился с лестницы.
— Этого я не заслужил! —- простонал он. — «Недотепа»! Конечно, будешь «недотепой», если ты честен, прилежен и незапятнан. Хотя, ясное дело, и у меня есть недостатки, как у любого другого человека. — И на уме у него вновь и вновь вертелось это словечко — «недотепа». Оно засело в мозгу, будто рыболовный крючок в рыбе. — «Человек, награжденный медалью за спасение, тот, кого полковник хвалил перед строем как образцового офицера, не может быть недотепой. Недотепы сидят в забегаловках или, в зависимости от обстоятельств, в тюрьме».
Под лестницей, за гранатовым деревом, он остановился и посмотрел в окно. Прислуга на террасе убирала танцевальный зал. На столе в тени олеандра с безразличным видом сидела Катри, болтая ногами. Но Конрад ее не замечал. Охваченный гневом, он время от времени сжимал кулаки. — «Лейтенанта артиллерии нельзя называть недотепой, — мрачно пробормотал он про себя. — Кто знает, может, иная мать радовалась бы такому сыну, как я». — Он остановился у окна вовсе не оттого, что собирался застрять здесь, а просто чтобы где-то приткнуться — другого подходящего места он не нашел.
В это время с лестницы, тяжело ступая, сошла тетушка в шляпе и шали, с кожаным саквояжем в руке.
— Ну вот, я ухожу, — прокаркала она, заметив Конрада — Теперь ты доволен?
Он заставил себя сдержаться.
— Нет, я не доволен. Напротив, я был бы рад, если бы ты осталась. Я не имел против тебя зла.
— Да ну, хватит нести околесицу, — пролаяла тетушка. — Не прикидывайся, сейчас не масленичный карнавал. Ты только и знаешь, что глазеть на свою зазнобу.
— Зазнобу? Что бы это значило?
— Ну тогда на свою девчонку или как тебе больше нравится ее называть. К сожалению, я не умею выражаться образованным языком, как господин лейтенант. Впрочем, для приблудной залетки такое название будет вполне почетным.
— Кого это ты называешь приблудной залеткой?
— Ну кого же еще? Ту, которая, кажется, единственная существует для тебя в этом мире. На которую ты все глаза проглядел — заносчивая, расфуфыренная бернская девица, одним словом. Видишь, как ты сияешь, как довольно ухмыляешься, стоит лишь намекнуть на нее. Не выпучивай глаза, будто собираешься меня проглотить, как волк Красную Шапочку. Только спокойно — я ухожу, я бегу, я прыгаю, я испугалась. Ладно, не страшно, что я посмела своим старым беззубым ртом упомянуть об этой сиятельной особе. Будь здоров! После того, как я уеду, можешь без помех увиваться за ней. Но не будь жестоким, не заставляй себя так долго ждать — она ведь дрожит от нетерпения. Ну ладно, прощай, прощай! Нет худа без добра. Скорее всего, беды не случится, поскольку тут была тетушка-ведьма. Впрочем, ты вполне заслужил несчастье. Стало быть, будь здоров. Наверное, ты видишь меня в последний раз в жизни.
И Конрад не стал ее задерживать.
Однако через несколько шагов тетушка обернулась:
— Да, чуть не забыла. Я тебе привезла одну безделицу, она лежит у матери. Мать отдаст ее тебе завтра, когда ты снова поумнеешь. А вообще-то ты можешь огорчать меня сколько угодно, я все равно навсегда останусь твоей старой уродливой тетушкой-ведьмой, которая когда-то качала тебя на коленях, помнишь? Ну, прощай, Конрад! Прощай же!
И с этими словами тетушка ушла, а Конрад отправился к Катри на террасу.
— А что, у вас тоже сердитый отец? — печально заговорил Конрад.
— Ваш отец, господин Ребер, можно сказать, вырезан из дерева, тогда как мой — из камня.
— Вот никак не могу взять в толк, — заметил он, зачем людям так хочется отравлять жизнь ближнему.
Она пожала плечами.
— Кто знает, как мы поведем себя в старости. Вы, например, тоже кажетесь мне человеком вовсе не с мягким характером.
— Почему? Вы что, полагаете, будто это связано с возрастом?
— Примитивный вопрос: с возрастом или с дряхлостью — все равно. Неужели вы думаете, что ваш отец был таким всю жизнь? Неужели он никогда не прикалывал к шляпе весенние цветы, не издавал ликующий клич в горах? Я это вот как понимаю: в печенке у стариков сидит скорпион, который постоянно донимает их, отчего они становятся желчными, злыми, не могут никому сказать ни одного доброго слова, даже если хотят.
Конрад задумался.
— Странно, мне такое никогда не приходило в голову. Вообще мне кажется: будь вы всегда рядом со мной, я бы смог кое-что легче переносить. — А так как Катри слегка покраснела от его слов, он сразу же поправился: — Простите, я не то имел в виду. — И сам покраснел еще сильнее, чем Катри.
— А я это вовсе не так и поняла, — успокоила она.
На этом разговор их застопорился.
Подошла Анна.
— Бенедикт требует ключ от конюшни, — равнодушным голосом сказала она, протягивая руку. Получив ключ, Анна заметила мимоходом: — Постарайтесь все-таки не оставаться так долго наедине, это может броситься в глаза.
— Ну и что? — спросил Конрад. — А если Катри ничего не имеет против?
— Я-то? — Катри презрительно засмеялась. — Если я не делаю ничего дурного, меня это мало трогает. Еще меньше меня заботит, что скажут люди.
— Ах так? — ехидно спросила Анна. — Вы уже настолько поладили друг с другом? В таком случае я, конечно, не осмелюсь вмешиваться. — И она покинула собеседников с такой миной, словно ей нанесли обиду.
Конрад попытался продолжить разговор.
— Надеюсь, вы не приняли все это близко к сердцу? Ну, например, издевки тетушки?
Катри засмеялась.
— С какой стати? Подобные слова не проникают мне даже под кожу, не говоря уж о сердце. О Господи! Дома мне пришлось проглотить немало обид от отца. И вообще боль причиняют нам только родные люди. Целая столовая ложка яду от чужих людей жжет гораздо меньше, чем капля от родных, домашних. Вот почему я однажды поднялась, собралась и убралась из дома. И с тех пор мне хорошо, несмотря на то, что путь мой отнюдь не устлан розами, особенно если приходится самой зарабатывать деньги. А ведь дома, в деревне, я считалась богатой, была первой среди всех, дочкой президента.
Всю эту тираду она произнесла скорее для себя, вглядываясь в свою душу, но Конрад так проникся сочувствием, что благоговейно молчал и после того, как девушка умолкла. За это она, со своей стороны, тоже высказала некоторое сочувствие, и впервые голос ее звучал не холодно и безучастно, а почти приветливо:
— Вам надо бы на какое-то время уехать из дома, господин Ребер, — великодушно посоветовала она. — Пусть хотя бы на денек или на полдня. Для молодого человека противоестественно торчать дома, это отравляет кровь, а потому вы так раздражительны и несдержанны. Шляпу на голову, трость в руку — и прочь отсюда, на чистый весенний воздух.
Конрад жадно всматривался в даль.
— А что, если отправиться с союзом офицеров на Хохбург поездом, который идет в два двадцать? — вырвалось у него с глубоким вздохом. Он извлек из кармана часы и долго в задумчивости смотрел на циферблат.
— Да, можно! Или хотя бы на часок в любую соседнюю деревню. Просто чтобы увидеть новые лица и набраться свежих впечатлений.
И снова он тоскливо взглянул на круглый циферблат, потом опустил голову и спрятал часы в карман.
— Я не могу, не смею, — убитым голосом пробормотал Конрад, — а сегодня тем более.
— Но почему?
Он рассердился.
— Почему? Вообще-то вы догадливы! Почему не могу? Да потому, что сегодня воскресенье, потому что после обеда дом будет полон гостей, а вечером будут танцы, короче, потому что не могу. Неужели вы думаете, мы просто так позвали на полдюжины больше кельнерш против обычного?
— Тогда, наверное, будет лучше, если вы станете ругаться с отцом, матерью, теткой и еще бог весть с кем? Сегодня в «Павлинах» неладно. Уж поверьте мне, господин Ребер, я разбираюсь в такого рода знаках, я изучила их с детства.
— Неужели вы суеверны? — съехидничал он.
Ответ не заставил себя ждать.
— Я этого не знаю, — твердо произнесла Катри. — Впрочем, каждый человек в той или иной степени суеверен, если видел вблизи красные петушиные перья смерти или черную пасть несчастья. Как вы думаете, будешь суеверной или нет, если утром видишь, как родной брат уходит в лес здоровым и бодрым, а в обед его приносят на носилках? И ты вспоминаешь, что, уходя, он воскликнул: «Катри, таким счастливым, как сегодня, я еще не был в жизни. Мне кажется, я на небесах». А отец крикнул ему вдогонку: «Чтобы ты мне до одиннадцати часов вернулся домой, стервец, или можешь вообще не возвращаться». — Ну, как думаете, будешь после этого суеверной или нет? И в самом деле, бедный Баши вернулся домой до одиннадцати часов, точнее, ровно без четырех минут одиннадцать, но мертвым. Да, так возвратимся к нашему разговору: суеверная я или нет, можете толковать, как вам угодно, однако сегодня в «Павлинах» неладно, надвигается гроза, в воздухе пахнет войной.
— Ну, что касается этого, — горько заметил Конрад, — война у нас постоянно носится в воздухе.
— Что да, то да, — ответила Катри. — Но я имею в виду не только это. Кажется, будто на вас лежит заклятье, будто навели порчу. Каждый из вас говорит не то, что хотел бы сказать, никто не желает причинить зла другому, но все запускают друг другу острые когти в сердце. А это ведь доказывает, что на крыше сидит дьявол или нечто подобное. Разве не так?
Сначала на губах у Конрада блуждала улыбка, потом он посерьезнел и на душе у него стало тяжело. Долгое время он в задумчивости смотрел себе под ноги, ковыряя гравий носком ботинка.
— Но что же делать? — глухо спросил он, не поднимая головы.
— Идти прочь! — ответила Катри. — Выйти из этого дьявольского круга!
Он поднял на нее глаза:
— А вы пошли бы со мной?
— Господин Ребер, вы сказали глупость, — сердито крикнула Катри и убежала.
Несколько раз во время этого разговора Конраду пришлось отступать в сторону, чтобы его не толкнули столами, которые прислуга, весело и беспечно балагуря, выносила из танцевального зала.
— Семерых пропустить, войдет полчеловека! — со смешками покрикивали работники, и все должны были уступать им дорогу. Сначала Конрад не сердился на эти дерзости, потому что беседа целиком поглощала его внимание, но потом они стали задевать его. А когда он к тому же заметил, что швейцар бросает в Бригитту мелким гравием, то решил проучить бездельника.
— Швейцар! — резким голосом приказал Конрад, — отнесите вот этот стул в столовую. — Не услышав ответа и не увидев выполнения приказа, Конрад спросил более строго: — Вы меня поняли или нет?
— Это наверняка не к спеху, — огрызнулся швейцар, снова набрав с земли полную горсть камешков.
Тут Конрад обрушился на него, словно смерч.
— Если я что-нибудь приказываю, это всегда срочно, — заявил он. И тут же с силой, будто тисками, схватил швейцара за мочку уха и нещадно потащил к стулу, так что у бедняги свалилась с головы щегольская фуражка. — Ну что, научить тебя, как надо поспешать? Как думаешь, сумею?
Теперь швейцар с брюзжанием послушался. Но выйдя за дверь, он отшвырнул от себя стул, начал бурчать и, перед тем как исчезнуть, скорчил за спиной хозяина мстительную гримасу.
— Так и надо! — крикнула Катри, довольно хлопая в ладоши, — точь-в-точь как наш Ганс.
Кельнерши однако испуганно уставились на Конрада, словно видели его впервые. На некоторое время они застыли на месте, словно окаменев, потом бросились врассыпную. Но любопытство взяло верх и они постепенно возвратились, чтобы притвориться, будто заняты делом. При этом девушки то испуганно следили за домом, то украдкой поднимали глаза на Конрада. Когда кому-нибудь из них надо было пройти мимо него, все обходили молодого хозяина стороной.
— А теперь стисните зубы, господин Ребер, — весело предостерегла Катри. — Можете рассчитывать на проклятие.
Сначала казалось, что пророчество не сбудется, потому что кельнерши понемногу осмелели и, освобождаясь от страха, обнаружили в происшедшем смешные стороны.
— До него дошло, в другой раз будет к спеху.
Жозефина подняла с пола фуражку швейцара, выбила
из нее пыль, напялила себе на голову как трофей и красовалась перед другими девушками.
Тут окно гостиной отворилось и в нем показалась голова старого хозяина. Отец смотрел на Конрада.
— Кажется, ты добиваешься, чтобы тебя выпороли розгами, как мальчишку! — закричал он.
Конрад повернулся на каблуках.
— Этого не удастся сделать никому на свете! — крикнул он в ответ так громко, что эхо прокатилось над крышами.
В это время в спальне матери зашевелились оконные занавески, что подействовало на Конрада как чудо, и он мгновенно взял себя в руки. Отец же, напрасно прождав новой выходки сына, медленно скрылся в комнате. Окно с шумом захлопнулось, и настала тишина.
Катри подошла к Конраду.
— Нет, серьезно, господин Ребер, повторяю вам в третий раз: бегите!
— Сейчас уже нельзя, — сквозь зубы ответил он. — Именно сейчас. Бежать? Нет, убегать я не привык.
Проходя мимо, Хелена украдкой сообщила:
— Господин Ребер! Кучер велит вам передать, что ему приказано запрячь Лисси для господина государственного советника Лаутербаха. Но ради Бога не выдавайте, что он вам об этом сообщил.
— Что? Лисси? — вскипел Конрад. — Вы, наверное, что-то не поняли? До сих пор никто не осмеливался распоряжаться Лисси без моего твердого согласия.
— Ну тогда идите и сами посмотрите, — вполголоса ответила она. — Кобыла стоит перед домом, трясет головой и бьет копытами.
— Хотелось бы убедиться собственными глазами, прежде чем поверить, — возмущенно крикнул Конрад и быстро направился к дому, упрямый и решительный.
В самом деле, между поводьями, перед кабриолетом, бодрая и веселая, брыкая копытами и покусывая мундштук так, что с него в разные стороны летела пена, стояла его кобылка. Изменница бесстыдно смотрела на своего хозяина таким взглядом, будто ровнешенько ничего не случилось.
— Бенедикт, — строго спросил Конрад, — кто вам приказал запрягать Лисси?
— Сам хозяин, ваш отец.
— Хорошо! В таком случае распрягите кобылку и оседлайте ее. Я хочу выехать верхом.
— Ваш отец — мой хозяин и вы тоже мой хозяин. Мне не остается ничего другого, как выполнять распоряжения. Прикажут запрягать — я запрягаю, велят распрягать — распрягаю. Но если меня призовут к ответу, я сошлюсь на вас.
— Само собой разумеется, я пойду надену шпоры и рейтузы, а вы позаботьтесь о том, чтобы кобыла была оседлана, пока я вернусь.
— Будет сделано в момент, если, конечно, ничто не помешает!
Конрад пристально посмотрел на него.
— Если я что-нибудь приказываю, — со значением подчеркнул он, — ничто не должно помешать. Лисси принадлежит мне. Я купил ее на свои многолетние сбережения, а потому кобылой распоряжаюсь я один и никто больше. — Потом он немного приласкал свою лошадку, по привычке зажав ей ноздри, и направился в дом.
У входа ему преградил дорогу отец, заняв почти весь дверной проем своим грузным телом.
— Прости, отец, — вежливо, но твердо сказал Конрад. — Будь так добр, пропусти меня. — С этими словами он осторожно протиснулся в дверь.
— Куда? — закричал на него старик, когда Конрад уже прошел.
— Поеду верхом!
— Не поедешь! — проревел отец вслед сыну.
— Нет, поеду. — И Конрад поспешил на второй этаж в свою комнату в мансарде. Придя к себе, он закрыл изнутри дверь на задвижку и не спеша переоделся в узкие кожаные брюки, высокие ботинки до икр со шпорами и бархатную куртку. Темно-синий шарф он искусно превратил в легкомысленный бант. Бегло осмотрев себя в зеркале — все ли подогнано, все ли в порядке — он сложил трубочкой маленький рот, что придало лицу задорный вид, и, звонко напевая, гордо шагнул через порог. Нарядный, чистый костюм наездника заметно улучшил его настроение придал бодрости.
Перед дверью мансарды его встретила сестра с мольбами и увещеваниями.
— Конрад! — умоляла Анна, — не доводи ты все до крайностей! Сделай это ради меня. Какая тебе разница, когда прокатиться верхом — сегодня или в другой раз?
— Меня, право же, удивляет, — запальчиво ответил Конрад, — что не от сестры, а от других я узнаю о том, что у меня тайно отнимают Лисси. Или ты уже приняла сторону отца? — Произнеся эти слова, Конрад легонько и осторожно отстранил Анну.
— А как же быть с господином государственным советником, которому обещана Лисси и который ждет ее? — с упреком спросила сестра.
— Обещана? Все зависит от того, кто обещал. Я никому ничего не обещал. Кроме того, Серый, Вороной или Гнедой могут сослужить ту же самую службу. Просто не надо было назло мне выбирать именно Лисси.
— Ладно! — обиженно сказала она. — Если бы тебя о том же самом попросила Катри, ты бы наверняка сразу уступил. — А перчатки! — крикнула Анна вдогонку брату. — Перчатки! Не собираешься же ты выезжать без перчаток?
На верхнем этаже за дверью спальни послышался дрожащий голос матери:
— Ты что, окончательно решил свести меня в могилу?
— О нет, — холодно ответил Конрад, проходя мимо. — Просто хочу сам немного пожить, коли уж оказался на белом свете, притом не по своей воле. А это значит, что подобную жизнь вообще вряд ли можно назвать жизнью, когда у человека отбивают всякую охоту жить, отравляют любую радость, лишают смеха, вольного движения, осуждают за любое безобидное слово.
По пути к комнате, где стоял телефон и где висел хлыст, Конрад услышал проклятия отца из гостиной:
— Я убью его! Я забью его до смерти, как бешеную собаку!
— То-то будет работы у прокурора! — крикнул Конрад.
Хотя он знал, что отец не мог слышать эти слова, ему
все же доставила удовлетворение сама возможность громко выкрикнуть их.
Когда Конрад, взяв хлыст и звеня шпорами, вышел на плац навстречу Лисси, которая стояла наготове, оседланная, взнузданная и удерживаемая кучером, за ним послышались беспомощные спотыкающиеся шаги, его обогнала тень, он услышал хриплое, затрудненное дыхание. Мельком бросив взгляд в сторону, Конрад увидел отца. Старик вооружился бичом, но держал его в руке неправильно, рукояткой вверх, вцепившись рукой в середину палки.
С нарочитой обстоятельностью Конрад проверил сбрую, осмотрел зубы лошади, подсунув ладонь, проверил подпругу, все время следя за каждым движением отца.
— Бенедикт, надо немного подтянуть седельный ремень — он болтается.
И пока кучер выполнял приказание, Конрад ласково разговаривал с Лисси, которая сначала внимательно навострила уши, а потом принялась прясть ушами.
На плацу собралось несколько зрителей, чтобы поглазеть на грациозную, красиво оседланную лошадку. А из дома доносились приглушенные причитания женщин.
— Отец! Не согреши! Помни о Господе Боге!
— Конрад! И как тебе только не совестно перед нами и самим собой!
Растерянные женщины всплескивали руками, в своем нелепом страхе нерешительно сновали взад-вперед, робко пытаясь встать между отцом и сыном. Лисси занервничала, начала взбрыкивать, хотела встать на дыбы и лягнуть.
— Прочь от лошади, черт вас побери, проклятые бабы, — вынужден был огрызнуться кучер, так как с трудом удерживал Лисси.
В тот миг, когда Конрад собирался взять поводья у кучера, старик стал, расставив ноги, широко отвел руку в сторону и занес бич. Послышались сдавленные, испуганные крики, лошадь взбеленилась и сделала резкий прыжок, крутнувшись вокруг своей оси; кучер, изо всех сил упершись ногами, проклинал все на свете, а Конрад буквально впился ненавидящим взглядом в глаза отца, распаленные бешеной злобой.
Тут широким шагом подошла Катри и положила руку на плечо хозяину «Павлинов».
— Господин Ребер! — спокойно сказала она твердым, настоятельным тоном. — Лошадь не стерпит удар бича. Кроме того, она довольно горячая. Отдайте-ка лучше эту штуку мне. — И она осторожно вынула бич из руки старика, просто и надежно, будто так и полагалось.
Старик был настолько ошеломлен, что даже не успел сообразить, потерпит он такое или нет.
А тем временем Конрад легко и быстро вскочил в седло и теперь удалялся ускоряющимся шагом, отдав честь Катри и благодарно улыбнувшись ей.
Но за спиной он услышал возмущенный возглас сестры:
— Можно подумать, что Катри уже всем распоряжается в «Павлинах»!
Конрад направился к деревне, бездумно следуя путем, который вел вниз по меже, через вишневую аллею к железной дороге. Здесь он заметил, что переезд закрыт.
— Еще вполне можно переехать, господин Ребер, — дружелюбно пробормотал путевой обходчик и поднял шлагбаум. Но Конрад опередил его, осторожно и легко взяв на лошади преграду двойным прыжком.
Потом он устремился дальше, следуя между зданием вокзала и станционным трактиром. Справа он услышал веселое приветствие начальника станции:
— Счастливого пути, господин командир батареи!
Конрад ответил на него в том же духе:
— Желаю хорошо повеселиться, господин директор!
Напротив, слева, перед станционным трактиром стояла
Нойберша, его хозяйка, с малышом на руках, глядевшим на Конрада круглыми от удивления глазами.
— Ты видел? — засмеялась она, глядя в глаза ребенку, и стала трясти его, словно куль с мякиной, стараясь растормошить малыша: — Ты видел лошадку? Видел, как хозяин «Павлинов» перепрыгнул на ней через шлагбаум?
— Тпру! Тпру! — лепетал мальчонка, повизгивая, а потом истошно закричал, потому что Нойберша готова была прямо-таки съесть его от избытка материнских чувств. А за садовой изгородью, под цветущим каштаном, бездельничала Юкунда, так называемая племянница Нойберши с лохмами на голове, похожими на непроходимый лес. Она вытаращила глаза на Конрада, но не двинулась с места, только грызла ногти. Сегодня Юкунда вырядилась в огненно-красную юбку, но, как всегда, забыла подпоясаться, отчего юбка болталась бесформенным балахоном. Будь она босиком — ни дать ни взять извозчица.
Конрад умышленно не хотел здороваться с обеими женщинами, а потому ехал, глядя в сторону. Оказавшись наконец на проселочной дороге, он поскакал рысью в сторону водного курорта. Вскоре он укоротил поводья, потому что опять был целиком поглощен мыслями о доме. И к чему ехать вперед? Определенной цели у него не было. Доказав, что только он один смеет распоряжаться Лисси, Конрад достиг цели. Но главное в том, что опасность, подстерегавшая дома, влекла его, будто магнитом. Он чувствовал: настоящий мужчина не станет оттягивать опасный момент и не уклонится от боя. Итак, он повернул назад, поспешно повторяя проделанный путь, и через несколько минут опять оказался у железнодорожного переезда. Но тут как раз подъехал поезд, а второй состав необозримой длины стоял перед семафором, ожидая разрешения на въезд. Конрад заставил себя переждать, отпустил поводья и стоял перед шлагбаумом, а Лисси любопытно обнюхивала окна вагона, словно хотела сказать: «Может, кто-нибудь из вас одолжит мне носовой платок?» Это был вагон второго класса. На Конрада смотрели скучающие лица, безмолвные и хмурые. Нет, ей-богу, в Лисси было больше человеческого, чем в них. Рядом в вагоне третьего класса слышались топот, улюлюканье, духовая музыка. Чьи-то головы высовывались из окна и снова исчезали в глубине вагона. Движения людей были угловатыми, резкими, несуразными. Пассажиры смущенно сновали по лестнице, сталкиваясь друг с другом. Но постепенно все взгляды сосредоточились на Конраде, одиноко возвышавшемся всаднике. Все дивились этому забытому зрелищу: человек верхом на лошади! Но поскольку Конраду вовсе не хотелось, чтобы праздные пассажиры пялили на него глаза, будто на ярмарочную диковинку, он повернул лошадь задом к вагону.
— Конрад! — окликнул его знакомый голос из какого- то заднего вагона. — Ты будешь сегодня дома около шести часов вечера?
Это был Лёйтольф, лейтенант пожарной команды из Вальдисхофа. Его серебристый шлем с пурпурно-красным плюмажем блестел издалека. Возле него появилось много латунных шлемов.
— А в чем дело? — спросил Конрад
— Мы едем на прогулку в Рубисталь, чтобы проверить работу шлангов, а на обратном пути собираемся завернуть в «Павлины».
Буду, — решил он после некоторых колебаний, так как не мог найти разумной причины, чтобы ответить «нет».
Кроме того, ему нравились вальдисхофские пожарные — это были бравые ребята, верные своему долгу.
В передней части состава, вблизи локомотива, кто-то непрестанно размахивал носовым платком, пока, наконец, до Конрада не дошло, что этот знак мог касаться его. Повернувшись в ту сторону лицом, он узнал тетушку.
— Будь здоров, Конрад! — крикнула она ему срывающимся голосом. — Повеселись, развлекись и исправься! Ты недурно смотришься верхом на своей лошадке. Надо отдать должное, ты очень даже умеешь ездить верхом и маршировать, хоть это вполне бесполезные искусства. Зато ходить в поле за плугом тебе кажется слишком грязным, недостойным занятием, не правда ли?
Издали тетушка теперь казалась ему милой и дорогой сердцу, так что на душе у него даже потеплело. А поскольку поезд, кряхтя, пришел в движение, он крикнул ей в ответ, помахав рукой:
— Приезжай снова. Я на это рассчитываю.
— Расчеты кончаются головной болью, — прогорланила тетушка.
Поезд между тем набирал скорость.
— Стало быть, приедешь? Обещаешь мне?
— Посмотрим, если сгустятся тучи, — изо всех сил прокудахтала тетушка. И, наполовину высунувшись из окна, закричала что было мочи:
— А теперь смотри хорошенько, чтобы сегодня не случилось ничего худого.
Шум поезда заглушил их голоса. Теперь уж они махали друг другу руками, пока были в пределах видимости. Постепенно тетушка исчезла в спешившем вдаль, терявшем свои очертания вагоне, оставив после себя приветный, слабый свет, словно далекая, но знакомая звезда.
Терпеливо пережидать, пока другой поезд неспешно проползет мимо станции, — нет, на такое Конрад не был способен. Он удалился от путей, чтобы как-то убить время в движении.
Оказавшись вдруг возле садика при трактире, Конрад сразу заметил не только розовые цветы каштанов над коричневой изгородью из туи, но и большеглазую Юкунду, молодую особу, из-за которой многие обходили стороной станционный трактир, в том числе и Конрад. Но сегодня в нем взыграл дух противоречия: хотелось делать именно то, что раньше казалось запретным.
Итак, он свернул к трактиру с совершенно определенным намерением: сразу же заткнуть рот любому, кто позднее вздумает попрекнуть его этим визитом. Конрад соскочил с лошади и передал ее работнику, поспешившему навстречу с неуклюжей услужливостью.
— Отведите кобылу в конюшню, — приказал он. — И чтобы ее не выдавали никому другому, кто бы он ни был. Понятно?
Нойберша, ухмыляясь, пришлепала навстречу посетителю. Поздоровавшись, она выразила бурную радость и завела долгую речь о неожиданной чести, оказанной ей.
— И так далее, тра-ля-ля! — перебил ее Конрад.
— Юкунда! — радостно гаркнула Нойберша. — Юкунда! А ну-ка угадай, кто нам оказывает честь? То-то Юкунда выпучит глаза от удивления! Если бы вы только знали, как она тайком глядит вам вслед, когда вы проезжаете мимо верхом на лошади! Глупая обезьянка — разве она вам ровня? Вы — гордый хозяйский сын из «Павлинов», а кто она? Всеми презираемая Юкунда с вокзала! Юкунда! Юкунда! Куда твои уши подевались?! — Меж тем Нойберша взяла на руки мальчика, цеплявшегося за фартук. — Видишь, это тот самый красивый господин, который перепрыгнул на лошадке через шлагбаум. Погляди на него хорошенько! Кто знает, когда он снова осчастливит нас своим присутствием!
— Малыша тоже зовут Конрадом, как и вас, — добавила она в ответ на его поклон.
— Симпатичный мальчуган, — снисходительно соблаговолил ответить Конрад. — Какие у него великолепные бархатные глаза! Чей он? Мальчик, кажется, немного похож на Юкунду.
Хозяйка скорчила шельмовскую мину — смущенную, хитрую и насмешливую.
— К сожалению, чересчур похож на нее, — со смехом выпалила она.
А тем временем сама Юкунда, неспешно, мягко и тяжело ступая, приблизилась с видом вышколенной кельнерши. Однако едва она узнала сына хозяина «Павлинов», как сразу же остановилась на месте с раскрытым ртом. По щекам ее скатились две больших слезы.
— Веди же себя прилично, глупая курица! — отругала ее Нойберша. — Поздоровайся с господином Ребером, отведи его в садик и покажи место.
Теперь Юкунда засияла улыбкой во всю ширину своего добродушного лица. Идя впереди, она вела его, то и дело оглядываясь, чтобы еще раз убедиться, что он в самом деле собственной персоной следует за ней. А так как по лицу ее поминутно катились слезы, она, смеясь, проводила рукой по губам и носу:
— Простите, пожалуйста, господин Ребер, я ужасно глупое создание. Где вы хотите посидеть — в домике или в беседке? Или, может быть, вон там в уголке, под каштаном? — И при этом Юкунда, хлопая в ладоши, прогоняла курицу, разгуливавшую по столу.
Конрад выбрал место на вольном воздухе, в середине садика, там, куда еще доставала тень от каштана и где в то же время можно было видеть «Павлины», глядевшие вниз с холма, словно крепость с земляного вала.
— Вам подать красного или белого? — блаженно-счастливым голосом спросила Юкунда. — Наверное, красного.
А так как Конрад равнодушно кивнул, она тотчас же поспешила выполнить заказ.
Прочие посетители, которых было человек семь или восемь, со скучающим видом сидели в садике. Приходили и новые — кто через садовую калитку, а кто через входную дверь. Пути были свободны. Должно быть, как раз отправился второй поезд. Со станции густой толпой, будто муравьи, ползли на холм горожане и деревенские жители в направлении «Павлинов». Наверное, они только что сошли с обоих поездов. Большинство направлялось налево к вишневой аллее, другие шли прямо через луг, по тропинке, и лишь некоторые — направо, по грунтовой дороге вдоль виноградника. Среди гостей были и музыканты, несшие под мышкой инструменты, заботливо вложенные в зеленые матерчатые футляры.
И в самом деле нельзя было придумать лучшего наблюдательного пункта за «Павлинами». Усадьба лежала перед Конрадом, словно на ладони, величественно возвышаясь на самом высоком холме, красуясь своим импозантным размахом вширь: слева гостиница, посредине каменная терраса с выстроившимися в ряд шаровидно подстриженными деревцами акации, на которых в это время года еще было мало листьев. За террасой находился танцевальный зал и, наконец, справа, там, где кончалась стена террасы, виднелись деревянный сарай и кегельбан. А воздушное пространство между строениями принадлежало ласточкам. Они взмывали ввысь и падали, будто камешки. Высоко в небе плавали легкие перистые облака.
Но все это Конрад увидел лишь мимолетно, просто потому, что не мог не увидеть. Взгляд его искал там, наверху, нечто другое, кого-то, чьей ненависти он жаждал. А поскольку Конрад не мог увидеть его глазами — расстояние было слишком велико, он настиг его мыслями.
Стало быть, отец, этот изверг, действительно хотел ударить его по голове рукояткой бича!
При мысли об этом он так резко оттолкнул кулаком стол, что тот зашатался. Устыдившись, Конрад поставил стол на место. Нет, урезонивал себя Конрад, несмотря ни на что он не поднял бы руку на отца — настолько он был еще уверен в себе! Хотя как знать — в гневе, обороняясь, если бы обида горела в душе и болела рана... И за что? Ради Бога, за что? Что я преступил? Пусть придет хоть один-единственный человек и скажет, что такого я сделал!
Глаза налились кровью, пальцы судорожно напряглись, когда он соколиным взором оглядывал гостиницу. Какое- то время Конрад с отсутствующим видом раздумывал, нахмурив брови.
— Убийца! — невольно вырвалось у него сквозь зубы. И, будто опьяненный кровавым звучанием слова, он повторял его вновь и вновь. Сначала после долгих, потом после более коротких пауз. Наконец, произнеся его в шестой раз, Конрад почувствовал, что мысли свободны, оковы пали. Теперь он бездумно, словно кинжалом, горячим желанием сталкивал отца в яму. После этого Конрад облегченно вздохнул. Какое спасение! Больше не будет ни ссоры, ни досады. Он станет господином в доме, на подворье и в поле, уважаемым и почитаемым человеком. Его будут ценить и бояться. Никто из тех, кому доведется быть у него в подчинении, не осмелится его упрекнуть. Он станет приказывать, что ему угодно. Как он прикажет, так и будет!
И глаза его теперь жадно охватывали отцовское владение; все его составные части: поле за полем, каждое дерево. В своем мрачном триумфе Конрад был похож на ястреба, сжимавшего в когтях жаворонка.
Любуясь яркими, красочными холмами, от раздумий он постепенно перешел к мечтаниям. Перед его мысленным взором возникла картина: на холме, посреди лужайки, нарядный домик, где он собрал всю команду своей батареи — и офицеров, и рядовых. Они сидят за великолепным обедом; еда изысканная — такой не бывало в их краях, играет констанцкий оркестр. Во время десерта офицеров ждут приятные сюрпризы, а солдат подарки, так что застолье должно остаться в памяти каждого на всю жизнь.
Конрад довольно долго, ясно и отчетливо видел перед собой эту картину. Потом она постепенно растаяла и ее сменила другая.
На том месте, где сейчас простирался старый уродливый танцевальный зал, он построил домик, совсем скромный, в фахверковом стиле. В нем нет никаких излишеств вроде балконов, ванных комнат и центрального отопления. Зато он приветливый и уютный, с веселыми комнатами, высота потолка не меньше трех метров, с просторной и светлой кухней, со стенными шкафами, сколько может поместиться, с широкой и удобной беседкой, где можно обедать на свежем воздухе. На лесах стояли каменщики, все сплошь завербованные итальянцы из нижнего Тичино, и пели, словно жаворонки, с утра до вечера. Внизу над зелеными ставнями колдовали маляры, немцы с северного побережья в плисовых костюмах и шляпах с вислыми полями. Ему казалось, что он даже чует запах краски. Анна заглядывала ему через левое плечо, а доктор через правое.
— Ну скажи ради Бога, что ты там строишь? — проворчал доктор тоном ученого всезнайки. Конрад уважал его профессию и ничего не имел против него как будущего зятя, хотя доктор — человек не слишком способный, он сам признал бы это, если бы не был чересчур ограниченным. А сестра ответила своими прекрасными умными глазами:
— Во всяком случае, что-нибудь непрактичное.
По мнению женщин, он всегда непрактичен. Однако Конрад спокойно извлек из кармана документ и протянул им обоим. Анна открыла рот от изумления и заплакала от радости, так что даже не смогла сразу поблагодарить брата. А доктор все время пожимал ему руку.
— Но Конрад! Что это взбрело тебе в голову? Мы не можем принять такой подарок!
Майский жук кувыркнулся на столе, перебирая лапками и пытаясь стать на них. После того как Конрад, хоть и противясь всей душой, раздавил вредного жука, мысли его опять устремились вперед. Собственно говоря, размышлял он, в некотором отношении даже жаль, что вмешалась Катри, встав между ним и отцом. Ему хотелось бы узнать, смог ли бы отец взять на совесть удар бичом по сыну. Правда, сам по себе ее поступок был в высшей степени разумным по отношению к обезумевшему извергу, способному на все, тогда как сестра и мать просто причитали и бездействовали. А каким тоном она с ним разговаривала! Вообще, какой у нее голос! Его, впрочем, не назовешь симпатичным, хотя звук его чрезвычайно приятен для слуха: твердый и холодный, словно шпага, молниеносно выхваченная из бархатных ножен. И вообще у голоса, принесшего ему спасение в минуту крайней опасности, была особая основа! На душе у Конрада было так, будто в тот миг между ним и Катри возникло сердечное родство. Или нет, не родство. Что такое родня? Люди, которые отравляют жизнь и думают, будто тем самым доказывают свою любовь. Нет, скорее, это дружба. Черт побери, почему вдруг нельзя подружиться с кем-то, кто тебе симпатичен и сделал добро? Дружба ведь не зеленое яблоко, которое постепенно созревает! И он улыбнулся самому себе, словно откусил кусочек чего-то лакомого. Тут ему вспомнилось, что Катри — незамужняя молодая девушка, а он — молодой человек, которому как раз самое время жениться. И перед ним возникли заманчивые картины, к которым он устремился в мечтах.
Юкунда принесла вино и принялась каяться во всех смертных грехах, прося прощения за греховное небрежение обязанностями. Произнося извинения, она с преувеличенной услужливостью наливала ему вино. Прежде чем поспешить от него к другому посетителю, она, будто чтобы подсластить пилюлю, поспешно обняла его рукой за шею.
Конрад с отвращением отстранился, чтобы без помех предаваться своим приятным мечтам, потому что внезапное вторжение Юкунды лишь ненадолго отвлекло его от них. Конечно, если предположить, например, что он захотел бы жениться, и Катри была бы согласна, то старый дракон наверняка (в этом нет ни малейшего сомнения) изрыгал бы огонь по этому поводу. Ну, тем лучше, так ему и надо! И с этими мыслями Конрад опять возвратился к тому, о ком все это время думал вновь и вновь — к нему, неотвратимому, невыносимому, врагу его человеческой сути и самости, врагу его желаний, планов и надежд, врагу во всем, повсюду и всегда.
И вновь его охватило негодование, рука судорожно сжалась, правда, на сей раз вокруг рюмки, которую он залпом опрокинул, несмотря на привкус кислятины. Вино превратило негодование в гнев, а гнев снова заставил пить. Вскоре дух его уже пребывал в полном смятении. Конрада одурманило опьянение, из-за чего он чувствовал только, как кровь пульсирует в висках вместе с безудержным желанием причинить какое-нибудь насилие, притом как можно скорее, лучше всего тотчас же.
У входа в дом послышались грубые выкрики, поздравления с праздником и, словно бегун с факелом, из-за его угла выскочил взволнованный работник и доложил с важной миной на лице:
— Прибыли нижние ваггингенцы!
— Юкунда, живее! Давай все бутылки и рюмки, сколько есть! — прокричала Нойберша, прыгая от радости.
Однако распоряжение запоздало. Садик уже был захвачен дикой ордой. Ввалившиеся люди с шумом шлепнулись на стулья, мгновенно заняв все места. Те, кому не хватило мест, метались по садику, громко зовя обслуживающий персонал и требуя вина. Высоко подняв над головой кресла, они тащили их как трофеи из комнат. Бутылки, по обычаю кровельщиков, передавались по очереди из рук в руки. Все это делалось шумно и беспорядочно, однако пока что в мире и согласии. — Сегодня верхним ваггингенцам несладко придется! — с триумфом провозгласил чей-то голос.
Вряд ли танцы в «Павлинах» продлятся до полуночи, — насмешливо заметил другой. Раздались одобрительные смешки, пришедшие хвастались силой кулаков, поднимая их вверх, демонстрировали крепость мускулов, размахивали тростями. Вслед за мужчинами и парнями явилась и стайка смущенных женщин, что еще больше увеличило суматоху в трактире. У празднично разодетых плоскогрудых девиц красовались на платьях букеты полевых цветов. Они робко пробирались на свободные места среди возбужденных мужчин, сияя блаженством, несмотря на тычки и тумаки со всех сторон. Обслуживающему персоналу с трудом удавалось протиснуться сквозь людскую толчею. Где бы ни появлялись Нойберша или Юкунда, их встречали такими недвусмысленными нежностями, мужчины так распускали руки, что обе сразу же обращались в бегство. При этом Юкунда и Нойберша изо всех сил колотили кулаками, возмущенно горланя и вереща, впрочем, с самыми довольными физиономиями. Они расцветали на глазах в этом адском котле.
Конрад не успел вовремя скрыться от необузданной людской толпы, а потому вдруг обнаружил, что пригвожден к своему месту. Ему не оставалось ничего другого, как потесниться до крайности. Впрочем, он покорно перенес это вторжение, подобно тому, как примиряются со стихийным бедствием, хотя и в самом скверном настроении. Вдруг он очнулся и навострил уши: его задели слова «Павлины», «кельнерши», «любезничать». Повернув голову, он увидел долговязого увальня с перекошенным рыбьим ртом и торчащими ушами. Скользкий тип, словно дождевой червяк, — именно от него можно было ожидать подобных слов. В самом деле, долговязый, пришепетывая и брызжа слюной, вращал похотливыми глазами. Конрад хотел было с отвращением отвернуться, но тут ему послышалось «красивая Анна из «Павлинов». Нет, действительно, это ничтожество совершенно отчетливо произнесло еще раз: «Красивая Анна из «Павлинов».
— Эй, вы там! Чтобы я не слышал имени моей сестры из вашей грязной глотки! — возмущенно вскричал Конрад, так грубо и оскорбительно, что сам удивился. Его окрик напоминал пощечину.
Долговязый нерешительно поерзал, не слишком удивившись, выжидательным взглядом довольно долго рассматривал противника, потом бесцветным голосом ответил:
— О вашей сестре не говорится ничего плохого, отнюдь нет, как раз наоборот.
Конраду показалось, что инцидент исчерпан. А между тем долговязый не отводил от него своего коварного взгляда.
— Вполне разрешается произносить даже имя Господа Бога, — прошепелявил долговязый, — а потому имя барышни Ребер тоже позволительно называть. В конце концов, она всего лишь человек, как и мы. Или не так?
Он раздраженно твердил одно и то же, тогда как Конрад презрительно отвернулся, продолжая, однако, прислушиваться, будто тигр, который разъярен и пытается прийти в себя.
— Если в глотку попадает черный, а не белый хлеб, это еще не значит, что она грязная. Но есть и такие глотки, в которые попадают цыплята, и все равно они грязные.
И опять:
— Если кто-то богат и держит кобылу в конюшне, а мундир в шкафу, то ему вовсе не следует разговаривать с народом высокомерным тоном, будто с бессловесной скотиной.
И немного погодя еще:
— Господин лейтенант далеко не всегда так громко командует. Дома, в «Павлинах», он говорит с отцом тихонечко, — если, конечно, вообще осмеливается что-либо сказать.
Кто-то оглушительно засвистел, заложив пальцы в рот, — то был сигнал тревоги.
— Верхние ваггингенцы! — прозвучало, словно военный клич.
— Где? — раздалось несколько пропитых, хриплых голосов.
— Прикончим их! — прохрипели другие, и, будто стадо оленей, все деревенские бросились через ограду, чтобы узреть врага. Все, что попадалось на пути, орда безоглядно швыряла оземь — столы с посудой, стулья вместе с сидевшими на них людьми.
Пока Конраду доставались только случайные тумаки, он сдерживался. Когда его стали пинать ногами, он начал обороняться: недолго думая, сваливал в кучу наседавших, на что те тоже не слишком обижались, а равнодушно вставали с пола, как если бы сами споткнулись о табуретку. Кое-кто, правда, отваживался мимоходом погрозить ему кулаком. А один даже извинился, неуклюже отдавая честь:
— Надо же! Но вы не обижайтесь, господин! — миролюбиво пробормотал он.
Однако один удар в спину был столь чувствителен, что Конрад сразу почуял злой умысел, а когда мгновенно обернулся, увидел того самого долговязого парня, который даже не успел сделать невинную физиономию, но, чувствуя, что выдал себя, обратился в бегство, стараясь затеряться в многолюдной толпе и закрывая голову руками. Конрад бросился за ним, протискиваясь сквозь толчею. Возле садовой калитки он догнал верзилу, схватил за шиворот и, дав пинка, вышвырнул на дорогу. Вообще-то он не привык пинаться, но на сей раз ему словно кто-то подсказал: этому косорылому надо дать пинка ради защиты чести сестры и ради его же собственной пользы. Сделав это, Конрад ощутил блаженное удовлетворение, так что мог спокойно наблюдать как зритель за действиями двух враждебных крестьянских групп.
Нижние ваггингенцы были уже на дороге, за ними следовали женщины. Некоторые из них увязались за мужчинами, уговаривая не вступать в драку; другие устремились из любопытства и жажды приключений, но все были исполнены чрезвычайного уважения к жаждущим насилия парням. Сначала мужчины организовали военный совет.
— Ровно в шесть мы ударим против них — не раньше и не позже, — пронеслось по рядам. Потом, заключив девиц в середину шеренги и низко надвинув на лоб шляпы, они наклонили головы и с невинным видом направились в деревню. Впереди, на приличном расстоянии от них, по ржаному полю, слева от вишневой аллеи, тянулась верхневаггингенская деревенская община вкупе с женщинами — и у всех был тоже совершенно безобидный вид. Обе ватаги поглядывали друг на друга, бдительно заботясь о том, чтобы расстояние между ними не увеличивалось и не сокращалось. Время от времени из арьергарда высовывалась чья-нибудь голова, будто у петуха, который собрался закукарекать. Голова фальцетом посылала в сторону врага очередную угрозу и быстренько пряталась в толпе. Так постепенно оба войска приближались к меже в направлении «Павлинов».
Конрад ликовал; для него всегда чем тверже был орешек, тем слаще ядрышко. Разве он изо всех сил с самыми благими намерениями не уговаривал отца не устраивать танцы? И как его отблагодарили за добрый совет? Ну ладно, так ему и надо. И в сердце его закралось желание обиженного пророка: пусть прольется кровь.
Когда Конрад направился к своему столу через опустошенный и притихший садик, где теперь все было переломано, Юкунда со вздохом поспешила ему навстречу и в изнеможении шлепнулась рядом с ним на стул. Какой у нее был вид! Растрепанная, в изорванной одежде, облитая вином, вислогубая, с тусклыми глазами, с каплями пота на лбу.
Куда теперь подевалась совратительница-Юкунда, которую сплетники изображали чуть ли не воплощением смертного греха! Какой жалкий смертный грех! Ведь смертный грех должен быть, по крайней мере, аппетитным. Тьфу, как же она дала себя облапать узловатым ручищам всех ваггингенцев! Конечно, и без того было известно, что она отнюдь не пресвятая Дева Мария, но одно дело знать, а другое — увидеть все собственными глазами. В самом деле, здесь нельзя было больше оставаться. И какая нечистая сила толкнула его на то, чтобы добровольно отправиться в этот притон?
Конрад поискал глазами шляпу. Господи, она была помята и сплющена, вся в пыли.
— Подать щетку! — надменно приказал он.
Юкунда озадаченно взглянула на него, испуганно шмыгнула в дом и принесла щетку.
Он чистил шляпу и одежду, а она даже не отваживалась взять на себя этот труд — такое у него было строгое выражение лица. Наконец она пролепетала покорно-униженным голосом:
— О, не сердитесь все-таки, господин Ребер! Пожалуйста, не сердитесь. Тысячу раз прошу у вас прощения. И почему вы выбрали именно воскресенье? Ведь на неделе много дней, о Господи! Мы могли бы часами сидеть вместе, и никто бы нам не помешал. И что мне только сделать, чтобы вы не гневались?
— Сколько я должен? — холодно спросил он, собираясь подняться и уйти.
Тут Юкунда бросилась к Конраду и удержала его.
— Нет, нет, нет, — запричитала она, в отчаянии ухватившись за него. — Нет, так сразу вы не уйдете. Теперь, когда мы наконец остались наедине, теперь, когда я впервые в жизни с вами...
В голосе, в глазах ее было так много подлинной сердечной тоски, что он смягчился. В конце концов домой он придет все равно достаточно рано для всего того приятного, что ждало его там.
Итак, он снова сел за стол.
В добрых глазах Юкунды зажглись две звездочки благодарности. Она уселась радом с ним, но все-таки недоверчиво положила ему ладонь на руку, будто опасаясь, что он может незаметно ускользнуть от нее, словно случайно приблудившаяся охотничья собака, которая еще недостаточно прижилась. И чтобы отогнать его мысли об уходе, она обрушила на него сначала заранее припасенные прибаутки, потом постепенно, когда поняла, что он не держит на уме дурного, настоящий поток болтовни.
— А погодка сегодня замечательная, —- бросила Юкунда свой пробный шар. — И хороша для роста растений. Трава стоит такая высокая и сочная, как редко бывает в мае. И для урожая вишен в последнюю неделю погода тоже была подходящая — если только дождь все не испортит. Посмотрите-ка, сколько народу, прямо целые толпы идут в «Павлины»! Да, вы богаты, вы счастливы, вам улыбается жизнь. Как случилось, что вы в такой день не дома? Может, опять вышла небольшая размолвка с отцом? Не могу себе представить, как у кого-то хватает духу злиться на вас. Ну, мне это на пользу. Я не смела даже надеяться, что вы, такой гордый господин, когда-нибудь придете к нам, таким маленьким людям. — Но вдруг глаза ее омрачились, она посмотрела на него с упреком, словно он что-то отнял у нее. — Та бернская девушка, которая сегодня приехала к вам помогать, наверное, подруга вашей сестры? Она красивая, это правда, даже очень красивая. В здешних местах больше нет таких красавиц, кроме, быть может, вашей сестры. И одета она великолепно. Что, она богата? А если богата, то почему служит? Говорят, летом она обычно работает буфетчицей на водном курорте. Я могу это понять. Конечно, такая райская птица привлекает всех мужчин. Это значит, что она позволяет за собой ухаживать самому хозяину. Еще бы, он уже два года как овдовел! Но за него она, наверное, все-таки не пойдет замуж! Он получил много отказов, несмотря на свое состояние. Тьфу, мерзость! Впрочем, какой бы она ни была красивой, будь я мужчиной и имей возможность выбирать, я остановилась бы на вашей сестре, потому что считаю ее еще красивее. В конце концов не все зависит от правильности черт лица, но в какой-то мере и от его выражения, как говорят у нас дома. У Анны есть что-то такое милое в глазах, в губах. Всякий раз, когда я ее вижу, я думаю о вас. Ну, недаром же она ваша сестра.
Юкунда потупилась и умолкла. Немного погодя с легким вздохом заговорила опять.
— Мне понятно, почему вы хотите жениться только на честной девушке. И можете быть уверены — вам ни одна не откажет. Ведь любая не прочь поселиться в «Павлинах», в княжеских хоромах!
Она обиженно отвернулась от него и, скрестив руки, мрачно глядела себе под ноги. Но потом опять приветливо взглянула на Конрада.
— Впрочем, я хочу поблагодарить вас за то, что вы вообще зашли к нам. Если бы вы знали, как мне это приятно, как приятно. А вы не стыдитесь средь бела дня сидеть рядом с Юкундой вот так, на глазах у всех?
Конрад покраснел. В самом деде, они сидели, будто на витрине. Правда, он не боялся людской молвы. Немного подумав, он еще чуть ближе придвинулся к ней. И тогда Юкунда засияла, будто летнее утро.
— Как это радует меня, — еле слышно прошептала она, — радует до глубины души, что вы меня не стыдитесь. — И всякий, кто проходил мимо, оживлял ее взгляд.
После этого она ничего больше не сказала, а оперлась локтями о стол, положила голову на руки и неотрывно смотрела ему в лицо, чтобы вполне насладиться его присутствием.
И он тоже перестал чувствовать себя неловко. Руки и ноги, еще немного тяжелые от выпитого вина, отказывались повиноваться, воля уснула, но бесхитростное создание рядом с ним, преданное сердце которого теплыми волнами, будто лучами мартовского солнца, изливало свою любовь, несмотря ни на что, было ему приятно, даже очень. Боже мой! Домашние, отец и мать, видели его другим. И чтобы окончательно расстаться со своей первоначальной сухостью, он великодушно протянул ей руку.
Жадно схватив руку, Юкунда то и дело прижимала ее к своим щекам в блаженстве от того, что может к нему прикоснуться, словно собака, которая любит тереться о своего хозяина.
И так они молча сидели, довольные, забыв обо всем на свете, оживая душой. Она — наслаждаясь созерцанием его, он — вспоминая образ Катри, который, несмотря на присутствие Юкунды, спокойно и ясно сиял в его памяти.
Природа делала свое дело, утихомиривая беспокойство и укрощая нервозность. Умение весны блистать, не ослепляя, особенно проявилось после продолжительных дождей. Везде ощущалось то неброское майское изобилие, которое в тени и на солнцепеке благоухает по-разному, обретая все большую пряность. Высоко в небе парило белоснежное облако. Проплывая мимо солнца, оно увлекло его с собой, словно островок, потому что заслонило яркий солнечный диск, оставив только по краям сверкающий венец лучей. Конрад и Юкунда сидели под ним, словно под балдахином или люстрой, свет которой был приглушен газовой вуалью, — короче говоря, под чем-то большим, высоким и приятным, что их объединяло и благословляло. Солнце наверняка не столь строго судило о Юкунде, как люди.
— Словно сквозь сито, из облака пролились на больших расстояниях друг от друга десятки крупных серебряных капель. И хотя они мгновенно испарились, едва достигнув земли, все скворцы в долине встретили их ликующей симфонией. Юкунда с удовольствием огляделась вокруг:
— Скоро можно будет начинать сенокос.
— Господин Ребер, вы рискуете потерять шпоры! — назидательно заметил слуга, убиравший в трактире вместе с Нойбершей.
Он оказался прав: одной вообще не было — должно быть, ее оторвали в сутолоке крестьяне. Другая же, согнутая и более чем наполовину надорванная, вяло болталась над каблуком. Конрад наклонился, чтобы оторвать ее совсем, но Юкунда опередила его, проскользнув под столом, будто ласка. Нет, скорее будто сурок, потому что для ласки она была слишком толстой.
— Бросьте, это мое дело, — вмешалась она. — Я для того и существую на свете, чтобы обслуживать вас.
Одним рывком она оборвала шпору, но тут же разжала руку: на ладони зияла безобразная рваная рана, из которой лилась кровь. Конрад испуганно вскочил и схватил Юкунду за руку, но она со смехом увернулась.
— Пустяки, до свадьбы заживет, если кровь здоровая! — отшутилась она.
И так как Конрад все еще озабоченно смотрел на рану, Юкунда указала на стул, чтобы он снова сел. Конрад послушался, хотя и не без колебаний. После этого все снова было по-прежнему, с той лишь разницей, что Юкунда время от времени с восхищением поглядывала на пораненную руку, словно хотела воскликнуть:
— Это мне от вас подарок на память, на всю жизнь! — А так как Конрад посылал ей сочувственные взгляды, лицо ее сияло счастьем и весельем.
Бенедикт, кучер из «Павлинов», прокашлявшись, заглянул через изгородь.
— В чем опять дело? — недовольно спросил Конрад.
— Я должен вас найти и спросить, — зашептал он, — не будете ли вы столь добры уступить Лисси господину государственному советнику только на сегодняшний день в виде особой любезности. Он уже три раза спрашивал об этом по телефону. Ему уже, так сказать, пообещали, хотя, наверное, и не имели на это права.
— Когда со мной разговаривают приличным тоном, когда меня вежливо о чем-то просят, это совсем другое дело, — заявил Конрад. — Кто вас прислал?
— Ваша сестра, барышня Ребер.
— Тогда бери кобылку, она стоит в конюшне. Но государственный советник должен ехать спокойно, чтобы Лисси не вспотела.
— Я поеду сам.
— Тогда все в порядке.
Однако Бенедикт не уходил.
— Ваша сестра велела передать вам еще кое-что, — сообщил он, давясь от смеха. — Она спрашивает, так ли уж необходимо сидеть с Юкундой, чтобы все вас видели. Не лучше ли удалиться под навес?
— В этом нет необходимости, — сухо возразил Конрад, — мне и здесь приятно. У моего места то преимущество, что оно исключает любые поводы говорить о том, будто мы занимались чем-то неподобающим вдали от людских глаз. Скажи это моей сестре и передай ей мой дружеский привет. Как дела в «Павлинах»? На террасе, кажется, уже много гостей?
— Народу тьма-тьмущая! Все очень сожалеют, что вас нет. Да, чуть не забыл. Ваш отец говорил о том, что вас не убудет, если вы вернетесь домой и немного поможете за всем присмотреть. До сих пор он еще никого не съел и сегодня тоже не намерен никого съесть. Места для двоих вполне хватит.
— Он так и сказал? Отец? Вам лично? Все это звучит довольно снисходительно — я имею в виду для него.
— Честное слово, сам сказал, чтоб мне не сойти с этого места. Новенькая кельнерша — ну эта, из Берна, Катри, или как там ее, довела его до этого. Она просидела с ним минут пятнадцать, высказала в лицо все, что думает, так что мы от страха хотели спрятаться по углам. Но он все терпеливо снес, словно школьник, которого отчитывает учитель. Только тогда, когда ее упреки были чересчур уж чувствительны, время от времени он бурчал себе что-то под нос, пока наконец не дал обещания сказать о вас доброе словечко.
— Обещание не съесть меня, очевидно, и есть то самое доброе словечко?
Бенедикт рассмеялся.
— Да, ваш отец не раздает добрые слова пудами, это уж точно. Он ими едва не поперхнулся! Из него добрые слова не легче вытянуть, чем добиться денег у союза помощи беднякам.
Конрад задумчиво молчал. Ему казалось, что он очень давно не был дома, что в его отсутствие произошло множество чрезвычайно важных вещей, и он захотел обо всем узнать.
— Вы случайно не слышали, как дела у матери? Она все еще наверху, у себя в спальне?
— Ее отправили в деревню к бабушке. Без нее легче управиться с делами, а то она только понапрасну волнуется и другим мешает. На этом настояла Катри.
— Катри хорошо придумала. Если происходит что-нибудь разумное, то уж наверняка по ее совету.
Кучер одобрительно засмеялся.
— Да, она решительная. Вот бы из кого мужик вышел! Сказать вам, что она поручила мне? Конечно, мое дело маленькое, я просто передаю, что мне велят: что стриженое, что бритое — все едино. А вам она вот что велела сказать: пусть, мол, развлекается и не приходит слишком рано домой. Все идет своим чередом, как при вас, даже намного лучше. Теперь решайте сами, как вам быть. Меня это не касается, мое дело сторона. Ну, как тут у вас? Что мне передать дома? Вы придете или нет?
— Я приду, когда будет нужно, — уклончиво ответил Конрад.
— А я тогда пойду и возьму кобылку. Ладно?
— Хорошо.
«Пусть не приходит слишком рано домой! — удрученно повторил про себя Конрад, когда кучер ушел. — Да, а для нее лично важно или нет, вернусь ли я вообще и когда?» — От обиды он закусил губу.
Подняв глаза, Конрад увидел расстроенную Юкунду.
— Вы сейчас пойдете домой? — упавшим голосом пробормотала она.
Он удивился. Кто говорил о возвращении? Ему стало жаль ее.
— Нет, я еще ненадолго задержусь здесь, — утешил ее Конрад.
Однако Юкунда печально покачала головой.
— Вы сейчас пойдете домой, — уныло повторила она. — Я это чувствую. И потом уже никогда, никогда не вернетесь ко мне. Это был первый и последний раз.
— Никто не может знать заранее, в последний ли раз что-либо случается.
— Нет, такое можно предвидеть. Я знаю, что это было в первый и последний раз. Иначе вы не зашли бы ко мне по оплошности, из-за строптивости и духа противоречия — просто дома случайно произошла досадная размолвка. Я знаю, я слышала.
Потом она снова смягчилась.
— Не сердитесь на меня за то, — умоляюще попросила она, — что мне будет больно, если вы меня покинете. Я все равно вам благодарна. — Стало быть, вы еще немножко посидите у нас, хотя бы чуточку?
Конрад остался, но только из вежливости. Юкунда была права. Что-то тянуло его домой. Многое не давало ему покоя. Любопытство насчет того, что там происходит, оживленное движение на террасе, которое он видел, потребность во всем участвовать и помогать, желание снова общаться с Катри. Это и еще многое другое, хотя и не целиком осознанное, пробудилось в нем, пока Юкунда испуганно следила за каждой переменой в выражении его лица.
Со стороны «Павлинов» послышались первые звуки танцевальной музыки, взволнованной польки — пока, правда, без должной уверенности, слабовато и безрадостно, отдаваясь эхом в пустом зале. И тут же Юкунда начала в нос подпевать — просто так, по привычке. Конрад, прежде только наслышанный о ее глупости, теперь сам мог во всем убедиться.
Между тем в садике опять стало людно. Уже при первом движении скрипичного смычка взгляды посетителей устремились к окнам, откуда исходил звук. Из-за этого все разговоры как-то сразу смолкли, слышались только обрывки фраз, произносимые приглушенными голосами, словно люди боялись помешать музыке. Когда ритм понемногу наладился, беседа за столиками вновь ожила. Однако все мысли людей были прикованы к танцплощадке, а застольные разговоры, будто кони в школе верховой езды, крутились на длинном поводке вокруг «Павлинов».
Кто-то из крестьян осторожно и назидательно произнес:
— Да, разве можно сравнить «Павлины» лет этак двадцать — тридцать назад, до того как они достались старому Реберу, с теми, какими они стали теперь! Все добро создано собственными силами, без посторонней помощи — только двумя трудолюбивыми руками, разумной головой и честным сердцем. Он постоянно прикупал землю — в одном году пашню, через год луг на сэкономленные деньги, если дела шли хорошо; потом постепенно расширял свое хозяйство.
— А вон тот луг ниже террасы тоже относится к «Павлинам»?
— Все сверху донизу, от террасы до железнодорожной линии, межа, выпас и в придачу часть виноградника.
— А что с хозяйкой «Павлинов»? Она всегда такой была?
— Хозяйка «Павлинов», госпожа Ребер? Которая из Херрлисдорфа? Она, доложу я вам, в мое время была самой веселой, самой жизнерадостной женщиной во всем кантоне. Всегда приветливая, бодрая, в добром здравии. А какая трудолюбивая и работящая! Да, старик многим ей обязан.
— Жизнерадостная? Кто? Хозяйка «Павлинов»? Неужто жизнерадостная? А что же с ней стало?
— Ах, она затосковала после рождения сына, его зовут, кажется, Конрадом. Сначала ее лечили в одном заведении, а потом, когда ей стало немного лучше, каждый год возили на воды. Теперь, насколько мне известно, она уже несколько лет не покидает дома. Но тоска так и осталась при ней, она целый день вздыхает, создает проблемы по всяким пустякам, отравляет жизнь себе и ближним, постоянно только и говорит о смерти. Боже милосердный, кто бы мог тридцать лет назад подумать, что так может случиться! Как сильно может измениться человек! К счастью, старик все терпеливо сносит, хотя вообще-то он сущий изверг. Просто растрогаешься до слез, когда видишь, как нежно он с ней обращается, хотя сам болен и стар.
Конрад, погруженный в глубокие раздумья, побледнел и наклонился вперед, чтобы не пропустить ни слова. Это пробудило ревность Юкунды.
— Не поискать ли нам лучше другое местечко, где никто не будет мешать? — недовольно спросила она.
Он с раздражением сделал знак рукой — помолчи. Другой голос вновь спросил:
— А парень? Сын? Что о нем слышно? Как у него дела?
— Пока неясно, что из него выйдет. Говорят, что на военной службе у него все шло хорошо, все его любят, и начальники, и подчиненные. Зато дома...
Тут уж Юкунда потеряла терпение.
Да замолчите же, глупые головы! — выпалила она с нескрываемой злостью. — Разве не видите, что он сидит рядом?
В садике воцарились мертвая тишина и величайшее смущение.
— Ну вот, теперь хоть можно снова расслышать собственные слова, — пробормотала Юкунда.
Только Конрад больше не слушал ее. Им овладело неудержимое желание вырваться отсюда, уйти домой.
— Мне пора, надо отправляться, — осторожно сказал он, поднимаясь со стула. — Юкунда, сколько же я должен?
Она скривила рот, бросая враждебные взгляды на кошелек, который достал Конрад.
— Я еще должна вам сообщить нечто важное, — серьезно ответила она заговорщическим тоном. — Но для этого вам нужно снова сесть.
Когда он неохотно сел, она вдруг обратила к нему свое лицо с огромными глазищами, глядевшими угрожающе, словно дула мощного двуствольного орудия, внутри которых обитают огонь и сера. И пока он смущенно раздумывал, что бы все это значило, Юкунда незаметно положила свою ногу на его ногу.
— Останьтесь сегодня у меня! — прошептала она.
Кровь его взволновалась, но он сделал усилие над собой, отвел взгляд и отрицательно покачал головой.
— Но я хочу, чтобы вы остались. Я просто хочу этого! — еще настойчивее прошептала Юкунда, прижимаясь к нему.
Теперь уж он начал сопротивляться, однако его собственные чувства хотели изменить ему в этой борьбе. И тут он вспомнил о том, что пообещал пожарной команде. Не зная, как иначе избавиться от Юкунды, он молниеносно обеими руками грубо оттолкнул ее от себя.
Тогда Юкунда в мгновение ока переменилась: она спокойно встала, ее лицо приняло невинное выражение, словно ровнешенько ничего не произошло, и сказала сухо, деловито и холодно:
— Один франк сорок сантимов.
Он уплатил по счету и дал приличные чаевые, за которые Юкунда скромно поблагодарила. Потом они вместе довольно поспешно вышли из сада, ибо ему стало душно, он жаждал избавления. Конечно, если бы он мог догадываться, как сильно заблуждается насчет Юкунды, то никогда бы не заглянул на станцию. Когда подошли к дому, она еще раз бросилась к нему, нимало не обращая внимания на присутствующих.
— Приходите как-нибудь вечером, когда стемнеет, между десятью и одиннадцатью часами, после отхода последнего поезда. Например, завтра.
Он снова отрицательно покачал головой.
Тут Юкунда окончательно потеряла всякую надежду и покорилась.
— Стало быть, все совершенно напрасно? — в угрюмом отчаянии спросила она. — Неужели я действительно должна вас отпустить? Но все равно, ваш приход сердечно порадовал меня. Этими воспоминаниями я буду жить еще долго-долго, целые недели, месяцы, быть может, еще дольше. — После этого она обеими руками схватила его правую руку и, нежно, но крепко прижав ее к сердцу, не хотела отпускать.
Так они прошли по коридору до самого выхода. Идти было неловко, так как оба мешали друг другу.
— Будь здорова, Юкунда! — попрощался Конрад. Она не ответила и не отпустила его руку.
— Будь здорова, — повторил он почти умоляюще и немного раздраженно. — Отпусти меня, а то я причиню тебе боль, вспомни о своей ране.
Но слова его не возымели никакого действия, так что в конце концов завязалась настоящая борьба между ним, стремившимся осторожно освободить свою руку, и Юкундой, пытавшейся удержать ее отчаянным усилием. Когда он наконец освободился при помощи неожиданного рывка, она оскорбленно отшатнулась и исчезла в доме. Юкунда больше не появилась, хотя из любезности он еще ненадолго задержался перед трактиром.
Конрад ушел, взволнованный и смущенный. Что-то ему не нравилось во всей этой истории. С одной стороны, он был рад, что счастливо избежал неприятно-похотливых поползновений, но, с другой стороны, ему было жаль, что он таким образом расстался с этим странным созданием с верным сердцем и лукавыми ухватками блудницы. Он почти рассорился с нею, спасся бегством. Какой бы она ни была, но она его по-своему любит. И весна, такая раздольная и чистая, вдруг показалась ему теперь трезвой, расчетливой, даже бессердечной, так что он почти сожалел о своей победе.
Подойдя к железнодорожной линии, он остановился, не зная, как быть. Потом еще раз искоса взглянул в сторону трактира, чтобы узнать, не стоит ли она вновь у двери дома.
Юкунды не было. Кроме того, ведь он дал слово вальдисхофским пожарным!
Тут он собрался с силами и с убитым видом, словно потерял какую-то ценную вещь, перескочил через пути.
По ту сторону железнодорожных путей канула в прошлое Юкунда, а возвращение в «Павлины» из будущего переместилось в настоящее.
Но из трактира Конрад все-таки возвращался с победой: он решил сказать отцу слова благодарности за то, что тот сделал так много добра матери и, наверное, сделает еще.
Он выбрал тропинку через луг, чтобы сократить дорогу, потом на полпути замедлил шаг, стараясь прийти позднее. Пусть не думают, что он спешит, выполняя приказание.
— Здесь должна быть изгородь, — задумчиво пробормотал Конрад, заметив, что трава возле дороги вытоптана.
Наконец, несмотря на промедление, он добрался до места, почти против собственной воли.
Несколько причудливо разодетых велосипедистов, которых обслуживала Катри, перешли на лужайку под каменной стеной террасы и громко веселились, стараясь привлечь к себе внимание.
Странным, почти невероятным показалось Конраду то, что дома первой из всех он увидел именно Катри. По простоте души Конрад почему-то подумал, что она появится последней, как главная героиня в пьесе. Слегка кивнув головой велосипедистам, он направился мимо них туда, где кончалась стена. При этом, однако, он встретился глазами с отцом, который всего метрах в десяти от него смотрел вниз с парапета. Бросив сердитый косой взгляд, старик закрыл глаза, будто сова в полдень. И Конрад снова ощутил обычный враждебный удар, что-то вроде отдачи тяже-лого артиллерийского орудия. Его похвальные намерения сразу исчезли. Ничего нельзя было сделать, просто невозможно.
Тогда Конрад повернулся и, нигде по пути не останавливаясь, устремился к раскидистой груше недалеко от велосипедистов. Подойдя, он кивнул Катри.
Деловито приблизившись к нему, вместо приветствия она заметила:
— Вы не дали себе достаточно погулять, господин Ребер.
Он оставил без внимания ее слова.
— Катри, я вам очень обязан, —- начал он торжественно и немного скованно.
— За что?
— Ну, сегодня утром, вы ведь знаете... То, что было между мной и отцом. Не делайте вид, будто вы ничего не знаете! Я имею в виду эту историю с бичом. Возможно, вы предотвратили большую беду.
— Ах, вот что! — равнодушно засмеялась Катри. — В самом деле, семейной идиллии в швейцарском вкусе у вас и в помине не было.
— Нет, правда, я просто восхищен вашим мужеством.
Она снова засмеялась.
— К мужчинам нужно относиться как к кусачим псам: не показывать, что боишься их.
Конрад, однако, сохранял серьезность.
— Вы хотите преуменьшить значение своего поступка, но я с той минуты отношусь к вам, как к своему доброму гению.
— Так меня до сих пор еще никто не называл, — уклончиво пошутила Катри. Но слова Конрада ее, кажется, обрадовали.
Прибежала Хелена.
— Катри! Фрейлейн Ребер велит вам передать, что вы должны пойти в танцевальный зал. На лужайке теперь будет обслуживать Жозефина.
Оба озадаченно переглянулись.
— Почему? — почти одновременно воскликнули они, будто лошадки в одной упряжке, где одна выше другой всего на дюйм.
Хелена пожала плечами.
— Так мне велено сказать, больше я ничего не знаю. — Но в ее мечтательных глазах сверкало злорадство.
Тогда Катри и Конрад обменялись многозначительными взглядами, которые говорили: «Мне понятно, а тебе?» — «И мне тоже». «Но ей ведь не удастся разлучить нас, не так ли?» — «Напротив, теперь мы будем еще крепче держаться вместе». — И так разлучающий приказ сестры сблизил их сильнее, чем если бы они протанцевали вдвоем на всех свадьбах кантона в течение долгой зимы. После этого Катри с довольным видом отправилась в танцевальный зал.
Хелена, немного замешкавшись, будто не сразу вспомнила, что хотела сказать, поинтересовалась:
— Девушка, с которой вы сидели в привокзальном садике, ваша невеста, господин Ребер?
Но Конрад был готов к подобным вопросам.
— Кто она такая, вас не касается. А вот кто такая вы сама, я хочу вам сказать. Вы — довольно неважная кельнерша. Да, и не смотрите на меня так, вы именно таковы. Хорошую кельнершу узнают по тому, что у нее шесть глаз и четыре уха. Вон просят горчицу, а шагах в двух от нас гость подает отчаянные знаки, будто утопающий, а вы ничего не замечаете.
— Меня это не касается, — резко ответила Хелена, я обслуживаю наверху, а не здесь.
— Радуйтесь, что пока не я управляю «Павлинами», а отец. Если я стану хозяином и кельнерша заявит мне, что она обслуживает в другом месте, я ее немедленно уволю.
Хелена в замешательстве убежала.
«Это был номер первый», — отметил про себя Конрад.
Семеня, приблизилась Жозефина, дерзкая и любопытная. Глазки ее блестели шельмовским плутовством. Правда, завидев расстроенную физиономию Хелены, Жозефина поняла, что та получила отпор и, быстренько прикусив язычок, протиснулась мимо Конрада на свое рабочее место, не обронив на ходу привычных колкостей.
«Где же это запропастился номер второй?» — подумал Конрад и принялся ждать. Но ждал он напрасно, пока больше никто не отважился.
Зрелище, открывавшееся за верхним уступом каменной стены, напоминало театральную массовку. Зеленая сцена была полна народу, однако лишена движения. Море голов, в шляпах и без оных; лица бородатые и бритые, мужские и женские глазели поверх рампы. Вид был такой, будто они отрезаны и выставлены в витрине на продажу. И все они, что горожане, что деревенские, корчили важные мины, чтобы выглядеть значительными персонами. Венцом этой картины тупости мог бы стать хор охотников, но его-то как раз и не было. Хотя все они, казалось, молчали, из их середины поднимался такой гам, будто болтала сразу добрая сотня народу. Между ними непрерывно, с трудом прокладывая путь, сновали кельнерши, провожаемые хмурыми взглядами старика. Подойдя к какой-нибудь из девушек (что, конечно, было нелегко при его неуклюжести и удавалось лишь благодаря грубому натиску), он украдкой успевал сделать ей нагоняй в промежутке между двумя приторными улыбками по адресу гостей. Одни поспешно утирали слезы, перед тем как вновь обрести ловкость балерины, другие яростно чертыхались себе под нос. Хелена, проходя мимо и всякий раз с завистью глядя на Жозефину и ее велосипедистов, вынуждена была опускать глаза. Анна, которой удавалось поддерживать порядок среди всей этой кутерьмы, частенько посматривала вниз на Конрада, однако делала вид, будто не узнает его. Рядом с ней на скамейке в голубом военном мундире сгорбился доктор, неотрывно глазевший на нее. Всякий раз, когда начинала звучать танцевальная музыка и раздавался хриплый, пронзительный писк кларнетов, все взгляды, скучные и невыразительные, приковывались к окну танцевального зала. Когда взвывали трубы, городские женщины затыкали уши.
Отчаянно жестикулируя, велосипедисты звали своих знакомых к себе на лужайку. Здесь на сочной траве сидеть было гораздо приятнее, кроме того, меньше мешало пиликанье оркестра.
Знакомые велосипедистов шумно приняли приглашение, и, будто следуя наглядному примеру, вскоре новая кучка гостей удалилась с террасы, чтобы устроиться внизу. Спустя некоторое время за ними устремились другие гости, так что переход постепенно превратился в настоящее переселение. Приходилось перетаскивать на лужайку стол за столом вкупе со всеми стульями. На помощь Жозефине отправили вторую, а потом и третью кельнершу.
Однако нарушение привычной обстановки со всем беспорядком и нелепостями, какие бывают при непредвиденных событиях, а также некоторой растерянности персонала, вызвало у гостей какое-то детское, каникулярное настроение, так что общество рассталось с постылой чопорной торжественностью и свободнее отдалось веселью. В то время, как деревенские все больше налегали на выпивку, горожане, уставшие от духоты и сидения в четырех стенах, радовались красотам природы. И взрослых, и маленьких горожан больше всего заинтересовал небольшой ручей, протекавший по лужайке. Они обступили это живое чудо, строя догадки и домыслы, интересуясь, не источник ли вечной молодости этот ручеек? Из воздушных замков, выстроенных в душах и сердцах в этот весенний день, возник целый фантастический город. Не прилагая никаких усилий, Конрад оказался распорядителем праздника. Незаметно образовались как бы два лагеря: верхний, где всем заправлял отец, и нижний, подчинявшийся сыну. Вверху остались преимущественно зажиточные пожилые люди, а внизу собралась сплошь одна молодежь. Но поскольку вновь прибывавшие устремлялись в основном на лужайку — отчасти ради новизны впечатлений, отчасти потому, что там было веселее, нижний лагерь становился все многолюднее, тогда как верхний убывал. «Словно предзнаменование», — подумал Конрад.
Старик недовольно следил за ростом рядов молодого соперника, и как только новая партия гостей вставала с мест и уходила на лужайку, глаза его наливались злобой:
— Можно подумать, что внизу подают лучшее вино, чем наверху, — бурчал он, — а оно ведь из одной и той же бочки.
— Их никто сюда не переманивает, — парировал Конрад, — а силой я их не могу прогнать назад.
При всем том никто не переманивал друг у друга гостей, для этого оба были слишком умны и вышколены. Напротив, они помогали друг другу и делали то, что было на руку обоим. Со временем, когда внизу стало недоставать места, терраса вверху постепенно заполнилась, так что наконец установилось равновесие.
В то время, как отец и сын совместно делали общую работу, каждый на своем месте, их внутренние душевные противоречия отодвинулись на некоторое время на задний план. Верх взяло уважение друг к другу. Бросив на лужайку испытующий взгляд, старик пробурчал себе под нос какие-то непонятные слова, что у него должно было означать удовлетворение ходом дел. Конрад, со своей стороны, должен был признать, что грозные взгляды отца поддерживали образцовый порядок.
Тут в нем заговорила совесть.
— Жозефина, — позвал он, — Жозефина, будьте так добры и пойдите к отцу. Передайте ему, что сегодня вечером (я об этом совершенно точно знаю) намечается драка в танцевальном зале.
Жозефина ушла и вернулась.
— Что он ответил?
— Ничего, только засопел.
— Тогда пойдите еще раз. Я убедительно прошу его не относиться к моему предупреждению легкомысленно. Это заранее условленное дело, я сам слышал от ваггингенцев.
Жозефина сходила к старику и снова возвратилась.
— Он говорит, что все понял с первого раза, ему не надо что-либо повторять дважды — он не оглох и не сошел с ума.
— Тогда баста! Довольно! В третий раз я ему ничего не скажу!
Но через какое-то время чувство ответственности опять заставило Конрада позвать кельнершу.
— Жозефина! — попросил он, — скажите отцу, что мне искренне жаль возвращаться к этому делу в третий раз, но оно мне не дает покоя. Драка начнется в шесть часов. Мне кажется, надо позвать несколько десятков крепких парней.
На сей раз Жозефина вернулась, громко всхлипывая.
— Ваш отец — чудовище. Я не позволю так с собой обращаться!
— Что он сказал?
— Он назвал меня бесстыжим, подлым человеком!
— Этого вы ни в коей мере не заслужили. Примите мои извинения за него. Очень сожалею. Но меня интересует, какое распоряжение он передал?
Она раздраженно выпалила:
— Вам не стоит беспокоиться о яйцах, которые еще не снесла курица. Он сам знает, что ему надлежит делать, и не нуждается в поучениях и советах. Впрочем, если вы такой трус, то могли бы спрятаться под нижней юбкой у Юкунды.
— Ну ладно! — заскрежетал зубами Конрад, взвившись от бешенства и сжав кулаки. Потом забегал в гневе.
— Черт меня побери, — поклялся он, — если я сегодня вечером хоть пальцем пошевелю! — Клятва поначалу принесла ему успокоение, но это было мрачное, адское спокойствие.
А тем временем Катри, красная, как дикий мак, подбежала к Анне:
— В танцевальном зале я больше не стану обслуживать, — пожаловалась она, всплеснув руками.
— Почему? — наверное, спросила Анна, потому что снизу нельзя было расслышать ее вопрос.
— Потому! — бушевала Катри. А потом у нее вырвалось: — Потому что они свиньи!
Хозяин «Павлинов», стоявший рядом, презрительно пожал плечами; Хелена, хозяйничавшая поблизости, насмешливо скривила рот; Анна же с головы до пят смерила бернскую гордячку недоверчивым взглядом.
— Наверное, причина совсем другая, — язвительно заметила она, медленно произнося каждое слово, чтобы мог слышать брат. — Вам, наверное, нравится обслуживать в другом месте, — и подмигнула брату.
— Ты не можешь ее принуждать, — вмешался Конрад, подходя к стене террасы.
— Но ведь больше некому работать! — раздраженно бросила в ответ Анна. — Тогда ты сам берись за обслуживание в танцевальном зале!
Тут уж он рассердился.
— В танцевальном зале я стану обслуживать не иначе как палкой или хлыстом, — крикнул он.
Услышав эти сказанные в запальчивости слова, вплотную к стене подошел старик, разгневанный, с налитыми кровью глазами.
Кельнерши, в свою очередь, приблизились к спорящим, чтобы слышать перепалку, которая их всех касалась. Гости тоже обратили на это внимание. Те, кто сидел поближе, с жадным любопытством приподнялись с мест, чтобы не упустить ни словечка в обмене любезностями, представлявшем собой редкостное развлечение. Если старый Ребер раскроет рот, спор немедленно превратится в перебранку. Выражение лица старика красноречиво говорило о том, какие слова вертелись у него на языке. В это время в танцевальном зале начали громко выражать недовольство плохим обслуживанием. Короче говоря, в воздухе собиралась гроза.
— Зачем тогда здесь Бригитта, если никто не вспомнил о ней? — негодовала Жозефина, только чтобы самой не идти в зал. — Уж если надо, пусть она берется обслуживать в зале, и да поможет ей святой Антоний вместе со своей свиньей3
Едва Бригитта услышала свое имя, как до нее сразу же дошло, что речь идет о ней, а не о ком-то другом: на это у нее всегда хватало ума.
— Что там еще? — негодовала Бригитта.
Прошло некоторое время, прежде чем она поняла в чем
дело. Пожав плечами и бросив язвительный взгляд на Катри, она заговорила поучающим тоном:
— Ваггингенцы — такие же люди, как все прочие. — Они уже хотя бы потому далеко не свиньи, что ходят на двух ногах, а не на четырех, как некоторые другие. — И с деловитой миной сразу же устремилась вверх по ступенькам, ведущим в танцевальный зал.
Вспыхнувшая было ссора, к счастью, улеглась, и все мирно разошлись по своим местам — иные неохотно, ибо, если уж курок взведен, то отвести его намного труднее, чем выпустить заряд.
Катри же издалека отвесила Конраду шутливый поклон в благодарность за поддержку. И всякий раз, когда, обслуживая гостей, Катри проходила вдоль стены, она посылала ему незаметный знак приязни: взглядом, выражением лица или просто по-особому кашлянув. При этом она так прикрывала рукой рот, что жест мог напоминать воздушный поцелуй, посылаемый украдкой.
— Анна! — позвал Конрад. — Нам нужна еще четвертая кельнерша!
Не оборачиваясь, Анна крикнула резким голосом:
— Катри! Мой брат страстно требует вас!
Катри явилась с сияющим лицом, на котором угадывалась радость встречи. По пятам за ней, но только другой походкой, следовала сестра.
Анна приблизилась к Конраду с выражением досады на лице и строго отчитала, отводя взгляд:
— Не ходи по трактирам, не сиди рядом с Юкундой!
Конрад возмутился.
— А тебе, — ответил он, — лучше бы следить за собой, чем меня поучать, разыгрывая из себя Песталоцци4
Анна проглотила обиду и умолкла.
— Пустяки, — небрежно бросила Катри, — молодому неженатому парню все позволено.
Анна повернулась в ее сторону с такой быстротой, словно ее ужалила оса.
— Однако же милые принципы царят у вас дома! — съехидничала она.
Катри закинула голову и тут же парировала:
— У нас дома мы значим, пожалуй, ровно столько же, сколько вы в здешних местах, не больше, но и не меньше.
Анна попыталась нанести ответный удар, но не сумела. Сморщив нос так, будто учуяла совершенно отвратительный запах, она в запальчивости покинула поле боя.
— Ну вот, — пробормотал Конрад, — теперь и женщины взбеленились!
Вмешаться ему не пришло в голову, так как он с юности усвоил высшую мудрость: умный мужчина держится в стороне от бабьих распрей — с этим согласны все, без различия партий и сословий.
Но когда Катри, празднуя свой триумф, хотела было приблизиться к нему, он отступил и сделал ей выговор.
— Вам следовало бы впредь более вежливо разговаривать с моей сестрой!
Вспыхнув от возмущения, Катри убежала, будто подстреленный кабан. Однако Конрад властным голосом трижды окликнул ее, притом каждый раз все более грозным тоном, пока она наконец не вернулась.
— Сегодня вы нанялись служить у нас, — заявил он, — а потому не только обязаны проявлять послушание, но и скромно вести себя со мною и моей сестрой. Завтра, если захотите, можете снова грубить.
Так как она нервно переминалась с ноги на ногу, словно земля под ней горела, Конрад нарочно подольше задержал ее.
— Да, между прочим, вот о чем я хотел вас спросить: вы уже обслуживали гостей в танцевальном зале. Какое у вас создалось впечатление?
— Такое, что они свиньи.
— Бесспорно, — ответил он, едва сдерживая смех. — Но об этом мы уже слышали. Я имею в виду иное — как бы это сказать? Не заметили ли вы каких-нибудь проявлений вражды?
— Хоть бы Бог дал и они сожрали друг друга!
— Что это за людоедская молитва?
Катри надменно взглянула на него, а потом ехидно и рассудительно ответила:
— Наверняка вы тоже просили Бога не только о том, о чем говорится в «Отче наш».
Конрад густо покраснел, стал серьезным и задумчивым.
— Теперь можете идти, — рассеянно позволил он. Катри ушла, но он был недоволен своим успехом. Ему хотелось одержать верх в разыгранной им партии, а теперь он сам получил отповедь. Втайне Конрад загадал: если сломлю ее, если удастся стать победителем, она меня полюбит. А она так и осталась непокорной, и он благосклонно глядел ей вслед, несмотря на всю ее строптивость, и чувствовал, что Катри ему нравится. Конечно, ей бы не повредило стать чуть более покладистой, не такой заносчивой. А если говорить о желаниях, то он бы хотел, чтобы ее глаза, эти твердые бледно-голубые стеклышки, не были такими холодными и трезвыми, похожими на прозрачную родниковую воду в деревянном корыте.
Но с сегодняшнего утра она как-то сразу стала словно частью его самого. И раз уж она была холодновато-сдержанной, тем более стоило послать ей сноп лучей из своего сердца, чтобы согреть ее. И вообще: недостатки, слабости — разве это мешает? Свои собственные недостатки можно ведь любить, не правда ли? Почему же нельзя полюбить и недостатки ближнего?
Он застал общество в наилучшем расположении духа. Где бы ни появилась Катри, она вызывала восторги. Беседа умолкала, рты переставали жевать, все изумленно глазели на нее. Сегодня утром ему еще не слишком бросилось в глаза совершенство ее фигуры. Тогда оно его просто удовлетворяло. Однако всеобщее восхищение помогло оценить ее достоинства по-настоящему.
Важные мужчины, степенные, знающие себе цену, например, директор газового предприятия Винигер, краснели, когда она, пробегая мимо, нечаянно задевала их рукой. Кичливые франты вроде молодого Фондерхайдена, молокососа, который нагонял на людей тоску своими презрительными гримасами и сидел, вытянув ноги под стул соседа, — так вот, подобные личности робко опускали глаза под ее взглядом и торопливо садились, как положено. Если она нечаянно что-нибудь роняла, все вокруг наперегонки пытались ей услужить, будто благородной даме.
Воплощенная властность! Вот из кого получилась бы хозяйка «Павлинов»! А какой благословенный выводок краснощеких отпрысков произвела бы она на свет! То были бы драчуны-мальчишки, азартно лазающие по деревьям, способные победить в потасовке полдюжины сверстников, или плотно сбитые девчурки, стройные, с прямой спиной, с косами до самых коленок, с двумя ямочками на лице: одна на подбородке и одна на левой щечке. Или еще лучше — и девчонки, и мальчишки.
И работящей она была, Бог свидетель! Как она обслуживала гостей! В этом отношении даже ворчливая тетушка-ведьма не смогла бы не признать за ней таланта. Катри была спокойной и уверенной в себе среди всей этой кутерьмы, словно хорошо вымуштрованный солдат под обстрелом. Она не суетилась бестолково, как другие кельнерши, которые то причитали, то ссорились, будто делили между собой парней. И что в ней совершенно особенно ценил Конрад: Катри обслуживала всех ровно, совершенно невзирая на лица. Не так, как чувствительная Жозефина, задерживавшаяся около каждого спортсмена, хваставшего своими мускулами, или как идеальная Хелена, которая теряла зрение и слух, когда запевал мужской хор с гулкими басами и заливистыми тенорами; или глупая Бригитта, патологически не терпевшая стариков. Она так сердито шипела на какого-нибудь почтеннейшего государственного советника, будто он вздумал посвататься к ней. Катри же со всеми была одинаковой, будь он стар или млад, хорош собою или безобразен, важная персона или незначительная личность. Она не кривила рот, когда кто-нибудь заказывал лишь подслащенную воду. Для нее важны были заказ и его исполнение; люди были ей безразличны. Даже чересчур безразличны. Она вела себя по отношению к посетителям гордо, надменно, глядя на них сверху вниз. Нет, собственно говоря, обращение ее нельзя было назвать оскорбительным. Когда один из них пожаловался на Катри и его спросили почему, он не смог произнести ничего определенного. Как бы это сказать? Катри вела себя неприступно-враждебно. Да, именно враждебно.
Заказы она принимала с таким выражением лица, будто сама была архангелом, выслушивающим просьбу от погрязшего в грехах человеческого создания. Напитки и кушанья она подавала со снисходительным видом, словно оказывая незаслуженную милость. И горе тому, кто осмеливался хоть чуть-чуть приударить за ней, неважно, в чем это проявлялось — в словах или в мимике. Таких гостей она потом обслуживала с нескрываемым отвращением. Ее решительно нельзя было помирить с ними ни лестью, ни чаевыми. Обслуживая гостей, Катри не давала сорваться с языка ругательным словам лишь благодаря непогрешимому самообладанию.
Честно говоря, ее чрезмерная чопорность чем-то даже нравилась Конраду. Благодаря ей воцарился дух почтительной сдержанности, который свидетельствовал в пользу ее семейного воспитания.
Пока Конрад предавался раздумьям, его задел чей-то локоть.
— Господин Ребер! Вы заснули или раздумываете над планом военной кампании? — И когда он поднял глаза, оказалось, что это была Катри, со смехом уходившая от него.
— Вот чертовы бабы! — весело пробормотал он, — неужели они умеют читать мысли?
Швейцар бесцельно слонялся, будто неприкаянный, то и дело наскакивая на гостей и даже не извиняясь перед ними, но не по злому умыслу, а из-за своей врожденной неотесанности.
— Господин Ребер! Ваш отец велел вам передать, что полковник Аллегри фон Мендризио уже трижды спрашивал о вас. Отец считает, что вы должны наконец явить свой благословенный лик. Неужто господин полковник должен бегать за вами, высунув язык, будто охотничья собака?
Конрад немного помедлил, терзаясь сомнениями. Вообще-то в ответ на несправедливый упрек он был не прочь поступить наперекор отцу, но ему непременно хотелось засвидетельствовать свое почтение полковнику Аллегри, питавшему к нему отеческую благосклонность.
— Отец там? — спросил он.
— Да, — раздалось в ответ.
— Я приду, — мрачно пробормотал Конрад и поднялся.
— Ведите себя хорошо! — насмешливо крикнула вслед Катри, всерьез озабоченная. — Возьмите себя в руки, чтобы опять ничего не случилось, потому что во второй раз на дню я не сумею быть «добрым гением».
— Поколдуйте в мою пользу, — пошутил он.
Прийдя на террасу, среди многолюдья он заметил за
одним столом людей в мундирах, блестевших позументом. При виде их на сердце у него стало приятно, тепло; оно наполнилось благодарностью, словно кто-то вытащил его на солнышко из глубокой трясины, в которой он погряз по горло. Золотые пуговицы и блестящие сабли посылали ему приветы — свидетельство чести, уважения, дружбы. Здесь Царил дух общности идеалов и помыслов, объединявший всех — от Женевы до Шафхаузена, от Базеля до Кьяссо.
Когда Конрад с сияющими глазами бодрым шагом направился к столу, за которым сидели офицеры, полковник живо поспешил ему навстречу, вызвав у всех своим порывом бурный возглас одобрения. Старый воин обнял Конрада и похлопал по плечу. Так как Конрад не был знаком с остальными офицерами, состоялось представление по полной форме. Все обменялись военными приветствиями, затем последовали дружеские рукопожатия, и по настоянию полковника Конрад занял место рядом с ним.
Хозяин «Павлинов» между тем отошел в сторонку, но полковник с несколько аффектированной сердечностью вернул его.
— Ну, старый ворчун, — засмеялся он, — что бы это значило? Почему вы ретируетесь, будто рекрутская коняга, не нюхавшая пороху? Может, вы загордились и наше общество вас не устраивает? Конечно, когда сын — такой великолепный парень, можно и возгордиться. У меня самого сердце не нарадуется, когда я вижу его. — И он похлопал Конрада по колену, будто любящий дядюшка.
Старик, устыженный восторженными похвалами, которые воздавались отвергнутому сыну, сморкался и что-то бормотал себе под нос, но потом нерешительно приковылял к столу.
— Что вы уставились друг на дружку, будто двое барсуков на одну кость? Вставайте! — приказал полковник. — А ну-ка, станьте рядом друг с другом.
Однако это ничего не изменило. Отец и сын мирно стояли рядом, подавляя в себе взаимную неприязнь и стараясь казаться любезными. Правда, они избегали прикосновений и смотрели в разные стороны.
Полковник смерил обоих взглядом и остался доволен смотром.
— Ну что, ребята? — обратился он к товарищам. — Если бы у нас все солдаты были такой породы, а? Черт побери, вот это было бы войско, правда? Как думаете? Поневоле поверишь, что они, исконные швейцарцы, заставят перекувыркнуться лошадей вместе со всадниками!
Потом обратился к отцу:
— Да, да, дражайший мой, что и говорить — сыновья, сыновья, сыновья! Они — наше будущее, они нам и очи закроют.
Сказав это, он снял с головы фуражку с золотым кантом и с удовлетворением пригладил седые волосы. Лицо хозяина «Павлинов», которого, кажется, задело это напоминание о смерти, из синеватого превратилось в фиолетовое. Конрад невольно посочувствовал отцу.
— До похорон далеко, — возразил он, — и вам, и моему отцу.
— О ля-ля! — усмехнулся полковник. — В нашем возрасте, дорогой хозяин, каждый должен быть готов сдать оружие. Главное же то, что хотя бы есть кому закрыть тебе глаза, сохранить о тебе добрую память, благодарной любовью и душевной привязанностью помочь преодолеть старческие недуги.
Конраду стало не по себе. Он покраснел, опустил голову и стоял молча.
Отец попытался спасти положение.
— Иногда, конечно, бывают и мелкие недоразумения, — уклончиво пробормотал он.
И оба они изо всех сил пытались создать видимость полной идиллии ради спасения чести и авторитета семьи. Только трудно было долго выдерживать такое душевное напряжение. С одной стороны, полковник, сведший их вместе по простоте душевной, с другой стороны — судорожные усилия отца и сына не прикасаться друг к другу и не смотреть друг на друга на виду у всех офицеров. Вот почему оба с робостью ждали какого-нибудь подходящего предлога, чтобы поскорее разойтись.
Конраду удалось его найти.
— Простите, господин полковник, я вижу, что к «Павлинам» приближается вальдисхофская пожарная команда из двадцати человек, и я, как начальник херрлисдорфской пожарной команды, должен...
— Конечно же, само собой разумеется, дорогой мой, — поспешил ответить полковник. — Нам, со своей стороны, уже пора подумать о возвращении домой. Лошади давно оседланы, мы немного задержались исключительно ради вас. — Кроме того, эта месса явно принадлежит не перу Керубини5
Последовало короткое прощание со звоном шпор и щелканьем каблуков. Офицеры отправились в путь, отец удалился, а Конрад решил принять пожарных, которые, завидев стройную Катри, тут же свернули на лужайку.
Однако по пути его догнала Анна с деловито-таинственным выражением лица. Она торопливо заговорила:
— В коридоре дожидается удивительно хорошенькая девушка с матерью. Они познакомились с тобой на балу во Фрауэнфельде. К сожалению, они задержались на прогулке и опаздывают на поезд, а то нанесли бы визит. Но они не могут пройти мимо «Павлинов», хотя бы не поздоровавшись с тобой. Обе надеются, что ты их извинишь.
Лицо Конрада озарилось радостью.
— А, я знаю! — живо воскликнул он и хотел отправиться вместе с сестрой, чтобы поприветствовать дам.
Но тут он заметил, что всего метрах в трех от них, по ту сторону стены стояла Катри, застыв, будто соляной столб и враждебно глядя на Конрада. Вне всякого сомнения, она слышала, что передала ему сестра, и понимала, что поставлено на карту.
— Я почти уверена, им хочется, чтобы ты проводил их на вокзал, — продолжала Анна, собираясь увести брата с собой.
Но он замер на месте. Собственно говоря, он охотно пошел бы к дамам и проводил их на вокзал, потому что чистый, прекрасный взор девушки пробудил в нем милые сердцу воспоминания. Только строгое выражение лица Катри говорило ему: «Вот теперь все и выяснится. Все зависит от тебя, от твоего решения. А я посмотрю, как мне поступить».
Пока он терзался раздумьями, пойти или остаться, в танцевальном зале поднялся невообразимый гвалт, будто на ярмарке во время пожара в зверинце.
К страху у Конрада прибавился еще и стыд. Как он будет выглядеть в глазах своей утонченной и разборчивой партнерши по танцам, которая знала его раньше как красивого и бравого офицера, а здесь он всего лишь сельский хозяин, да, просто-напросто крестьянин, ничего более. А его прежняя жизнь и рыцарский военный мундир казались по сравнению с теперешними занятиями всего лишь временным маскарадом. И лицо Конрада залилось горячей мучительной краской стыда.
Нет, в «Павлины», в деревню Херрлисдорф не приведешь изнеженную, благовоспитанную городскую барышню — для этого он слишком хорошо к ней относился, слишком высоко ее ценил. А так как офицеры только что ушли, Конрад, лишившись их поддержки, истолковал их уход как лишний знак своего унижения. Крестьянином он был, крестьянином и остался — надо было принять эту истину как данность. И, как всегда, быстро решившись, он сделал свой выбор.
— Мне очень жаль, — сказал он сестре, — но я должен сейчас принимать вальдисхофских пожарных.
— Неужели ты им быстренько не скажешь хотя бы несколько слов? — запальчиво, повышенным тоном воскликнула Анна.
Он отрицательно покачал головой и быстро ушел, словно боясь, что слова сестры вызовут у него раскаяние. При этом Конрад невольно шел более небрежной походкой, чем всегда.
— Но ведь это просто невежливо, даже оскорбительно, — возмущенно крикнула ему вслед Анна.
Однако он не слушал.
Катри ждала его на углу террасной стены. Глаза ее сверкали немного враждебно, в них угадывалась неискренность. В девушке все еще говорила ревность.
—- Почему это вы не пошли поздороваться с благородной городской барышней? — лицемерно упрекнула она Конрада.
«Душа человеческая — потемки», — подумал Конрад, но не подал виду. Он вполне искренне удивился этой мелочной женской уловке в устах Катри, ибо думал, что залогом искренности является, скорее, грубость. И в то же время в сердце его постоянно жило теплое чувство к ней, безоговорочное и неизменное.
— Потому что я предпочитаю разговаривать со своим добрым гением, — ответил он слегка дрогнувшим голосом, взволнованный необходимостью делать выбор.
Тогда Катри одарила его светлым дружеским взглядом.
— Спасибо, — скромно ответила она. Еще минуточку Катри задумчиво постояла перед Конрадом, то и дело испытующе и любовно поглядывая на него. Уходя, она украдкой коснулась его руки.
Едва Катри ушла, почти рядом с ним по направлению к винограднику прошла барышня со своей матерью в сопровождении Анны. И хотя он стоял к ней спиной, все-таки успел смутно увидеть ее гибкую фигуру, услышать звук ее легких шагов. Запомнились светлые, нарядные тона ее одежды, но образ был приглушенным и расплывчатым, словно минорный аккорд.
Остальную картину довершили его взволнованные воспоминания. Он не мог сдвинуться с места, боясь пошевелиться и быть увиденным ею. Лишь тогда, когда Конрад был совершенно уверен, что девушка ушла довольно далеко, он вздохнул с возвышенным ощущением отказа от чего-то такого, на что он не мог, не смел позволить себе притязать.
Наконец, когда Анна возвратилась одна, он с чувством облегчения направился к вальдисхофцам.
Они приняли его почтительно и приветливо, встав с мест, протягивая руки для приветствия и приглашая выпить вместе с ними. Некоторым Конрад ответил, каждому пожал руку, заботясь о том, чтобы никого не пропустить. Когда же черед дошел до вахмистра, свобода Конрада кончилась. Вахмистр с его бурной сердечностью, можно сказать, конфисковал Конрада и уже не отпускал от себя. Он обнял его, прижал к груди, похлопал по спине и ненасытно набрасывался вновь и вновь, и при этом терся об его лицо черной как смоль окладистой бородой, достававшей до пояса.
— Конрад! — непрерывно клокотал он, дико вращая глазами, словно истосковавшийся черный медведь гризли.
Лёйтольф, лейтенант пожарной команды, наконец не без усилий избавил Конрада от этого узурпатора.
— Что это за дама сердца сидела сегодня в поезде, а ты ничего не видел и не слышал? Проезжая мимо, мы орали во всю мощь своих глоток, но все твои взоры, все внимание были отданы более важному предмету.
— У таинственной возлюбленной седые волосы, ей семьдесят два года, — ответил Конрад. Добрая улыбка скользила на его губах, когда он вспоминал свою тетушку-ведьму.
Между тем Лёйтольф повис у него на руке, пытаясь отвести в сторонку.
— Какая тьма народу опять собралась у вас в «Павлинах»! — подмигнув, изумленно воскликнул он.
— И какой чудесный вечер, — дополнил Конрад, пробуя сменить тему разговора.
— Счастливчик! — гнул свое Лёйтольф, тряся руку Конрада. — Подумай только, ведь все это однажды достанется тебе! — При этом Лёйтольф присвистнул.
— Тьфу! — по-настоящему оскорбленный, рассердился Конрад.
— Наследование вовсе не грех, — не смутившись, возразил лейтенант пожарной команды. — Судя по всему, твой старик долго не протянет. Ты себе присмотрел аппетитную женушку? — А так как мимо поспешно прошла Катри, нагруженная бутылками и рюмками, друг толкнул Конрада плечом:
— Наверное, это она и есть? — допытывался он.
Конрад молчал. Вопрос показался ему неуместным, а
ответ чересчур нелегким.
— Я еще сам не решил, — недовольно ответил он.
— Она чертовски хороша собой, несказанно хороша, просто немыслимо хороша! — воскликнул Лёйтольф. — А образование у нее есть?
— Так у меня ведь нет никакого.
— Ты и без образования! Ты же артиллерийский офицер, окончил индустриальное училище, обе специальности сдал на «отлично». Глупости! Стало быть, это она и есть, коль ты не обращаешь внимания на такой крупный недостаток. Я сначала думал, что тебе нравится совсем другая барышня, которая тебе лучше подходит. Она, не таясь, искала тебя глазами. Но поскольку ты так упорно отворачивался от нее, мое предположение отпадает само собой. — Потом, прислушавшись к дикой какофонии в танцевальном зале, лейтенант заметил: — Где ты откопал такой отвратительный оркестр? Что это — хор фурий из «Орфея»6
— Или шакалы, — вставил вахмистр. И пока каждый из них, заранее рассчитывая на аплодисменты, выдавал все новые сравнения из области зоологии, они развлекались, слушая ужасные завывания.
— Если судить по хриплым фальцетам, то можно быть почти уверенным, что в зале ваггингенцы, — заметил кто-то.
Когда Конрад утвердительно кивнул, возник вопрос:
— Верхние ваггингенцы или нижние?
— И те и другие — расстроенно признался Конрад.
Лейтенант пожарников озабоченно взглянул на него.
— Верхние и нижние вместе? Через восемь дней после выборов? Это может плохо кончиться.
— Вполне вероятно, — согласился Конрад.
Вахмистр сжал ему руку.
— Ну, допустим, если до этого дойдет, знай, что можешь рассчитывать на нас. — И чтобы подкрепить свое обещание, дал несколько тумаков в спину.
— Само собой разумеется! — подтвердила вся команда.
В этот миг тонко процокали копыта, и когда Конрад посмотрел в сторону, откуда слышался звук, то увидел офицеров во главе с полковником Аллегри, которые бодрой пританцовывающей рысью, рядами по трое, легко и быстро скакали по вишневой аллее. Он с удовольствием оценил их взглядом знатока. Умело запряженные кони изящно выгибали шеи и крупы; всадники сидели ловко и ладно. Под гулкое цоканье копыт, мелодично и четко стучавших по торной дороге, они оставляли за собой дерево за деревом, а когда на их сабли падали косые лучи вечернего солнца, клинки внезапно вспыхивали и, будто ослепительные зеркала, загорались снопами огней.
«Верная душа этот папаша Аллегри», — подумалось Конраду. — Безобидный, будто дитя. Что за нелепая выдумка свести меня с отцом, совсем не имея представления о том, в каких мы скверных отношениях! Какая невыносимая была ситуация!» После всего случившегося Конрад пытался найти в ней забавные стороны, однако в глубине души чувствовал, что был тронут. Простоять весьма долго рядом с отцом и при этом не услышать от него никаких злых упреков, напротив, они прощали друг друга, взаимно поддерживали друг друга, скрывали свою вражду — это же просто неслыханное событие! Конечно, такое произошло только под давлением необходимости, для виду, из-за людей. Но все равно, его это все-таки растрогало. За это он готов был почти любить отца. И как мало, как ничтожно мало, в сущности, требовалось, чтобы он действительно смог это сделать! Хотя бы отчасти сносное обращение, тон, не раздражающий своей грубостью — больше ничего и не нужно. Неужели это так невыносимо тяжело сделать?
Конрад глубоко вздохнул, и лицо его омрачилось. Но все равно он снова видел крошечный, бледный проблеск надежды. Хоть и слабо, но он еще верил, что все как-то образуется, отношения станут терпимыми, не потребуется ужасная помощь смерти, а просто восторжествует сила разума, к которой прибавится малюсенький, тощий остаток доброты.
— Какая муха вас опять укусила, господин Ребер? — осведомилась Катри, обеспокоенная его загадочной серьезностью. — Вы как-то вдруг сразу опечалились!
Конрад отрицательно покачал головой.
— Я не печалюсь, — тоскливо ответил он, — я счастлив.
— Эй, Конрад, что это с тобой? Я уж было подумал, что ты сочиняешь стихи! — съязвил лейтенант пожарной команды. Конрад был пристыжен и направился к товарищам. Но обернувшись, он увидел, что внизу, в долине, отдавая честь, офицеры почтительно, на приличном расстоянии выстроились перед кем-то, словно выслушивая оценку начальства после маневров. И он понял, что строй замер перед его партнершей по танцам и ее матерью.
Увиденное уязвило Конрада так сильно, что он поспешно отвернулся, превозмогая душевную боль.
Пьяный рев в зале между тем раздавался не только в перерывах между танцами, но и во время танцев, расстраивая, а то и вовсе заглушая музыку — не мощью голосов, но диким разнобоем звучания, который постепенно сбивал всякий ритм. Вместо подвыпивших пар на сцену теперь вышли ватаги буянов, которые показывали в окно сжатые кулаки, цеплялись к публике или, требуя навести порядок, хрипло орали: «Мы вам покажем!» — И все это делалось нарочито громко и нагло, чтобы войти в раж. После того, как это буйство через некоторое время немного улеглось, на смену ему пришло новое развлечение: откуда-то из глубины зала полетели объедки — круги сыра, жир от ветчины, колбасные обрезки. Вначале нерешительно, изредка, как пробные шары, потом обильно, как манна небесная, вкупе с тарелками, которые со звоном разбивались.
Раздались неодобрительные возгласы, жалобные и возмущенные. Гости протестовали против безобразий и старались сбежать с тех мест, куда могли попасть клейкие комья еды. Узнав об этом, старик, гневно размахивая руками, поспешил в зал, но ничего не смог сделать.
Неожиданно рев прекратился. Вавилонское столпотворение, гогот пьяных голосов перекрыла яростная перебранка, сдобренная хриплыми проклятиями. Потом послышался громкий топот, и через окно в зале можно было увидеть огромный клубок сцепившихся тел, распространявший вокруг себя запахи винного перегара и пота. Чьи-то руки со сжатыми кулаками яростно размахивали в воздухе, но им не давали попасть в цель. Они упорно делали свое, пока наконец не добрались до желанной головы противника, которую принялись усердно молотить, впрочем, кажется, без особого видимого эффекта. Конрад никак не мог взять в толк, по каким признакам драчуны отличали в этой неразберихе либеральную башку от консервативной. Клубок дерущихся то приближался, то удалялся, опять приближался, рос, втягивая в себя новых людей и загромождая все вокруг. Но тут распахнулась дверь, и из ее черной пасти с визгом вывалились девицы, простирая вверх руки и крича во всю глотку: «На помощь!» Но едва очутившись за дверью, они начали вновь протискиваться в зал, усиливая общий гвалт своими пронзительными воплями.
— Вот тебе и на! — съязвил Конрад, завидев отца.
— Только не трать напрасно усилий! — зашипел на него старик, вне себя от досады при виде доказательств своей неправоты. — Сиди себе со своей Юкундой, и пусть вам ничто не мешает.
Тогда Конрад беспечно засунул руки в карманы брюк, всем видом давая понять, что его эта свара вовсе не касается.
— Здесь не помешала бы пожарная труба, — пошутил вахмистр. — Да так, чтобы пустить полную струю прямо в середку! — И он громко засмеялся, представляя себе это уморительное зрелище.
— Спасибо за наводнение, — ответил Конрад. — Допусти пожарников к воде, так они в целом доме плесень разведут.
— Твой старик не справляется с ситуацией, — заметил Лёйтольф. — Он совсем теряет голову. Пусть хоть танцует, как сумасшедший, от одного окна к другому, буянам на все глубоко наплевать.
Конрад кивнул.
— Мне только на пользу, если его безмерное самомнение насчет собственного могущества хоть раз удастся поколебать.
— Тогда ничего другого не останется, кроме как тебе занять его пост.
— Сначала пусть он меня об этом попросит, пусть окажет мне такое удовольствие.
— Как знаешь. Имей в виду, мы всегда под рукой. Как только нужно будет, дай нам знак. Снять шлемы! Снять кители! Засучить рукава! — доверительно приказал он своей команде. Увидев это, со всех сторон на помощь пожарникам поспешили смелые парни, молодые крестьяне и кое- кто из гостей, так что Конрад оказался во главе отборной команды, которая пока что не вмешивалась в свару, но лишь с трудом обуздывала в себе это жгучее желание.
Слева и справа самые нетерпеливые вскочили на столы, чтобы лучше видеть все, что происходит за стеной террасы. Они молча наслаждались спектаклем, кроме Катри, которая будто арбитр публично вынесла свой приговор.
— Господи Боже ты мой, что за глупая деревенщина! Безголосые, безмозглые недотепы! И нет никого вокруг в целой деревне, кто бы сжалился над нами и от души вмешался в эту свару. Господи Иисусе! Если бы тут был наш Ганс! Как бы он вымел весь этот сор из зала! — при этом она звонко рассмеялась от удовольствия.
— Молчать! — прикрикнул Конрад. А немного спустя добавил хмуро и значительно: — Здесь есть люди, которые стоят того же, что ваш Ганс, а может, и побольше!
На террасе народ тоже с любопытством следил за потасовкой, однако из-за опасной близости зала осторожно отступал с обеих сторон назад, к стене, так что середина опустела. Что особенно приковывало людей к опасному месту, так это возможность втайне позлорадствовать — ни много ни мало. Так как чудовищный шум все еще продолжался и никто не принимал решительных мер, люди стали выражать досаду, а потом и недовольство.
— Подать счет! — потребовал один отец семейства, окруженный дамами, которые возмущенно морщили носики. И, будто беглый огонь, со всех сторон теперь раздавалось:
— Платить! Платить!
— Сидеть на местах! Зачем еще вам ваши седалища? — проревел старик, выйдя из себя при мысли о грозящих убытках. Пока кельнерши носились, как угорелые, уговаривая остаться тех, кто успел вскочить с мест, он вознамерился вскарабкаться на лестницу, ведущую в танцевальный зал, но ему помешала Анна с доктором, действуя то уговорами, то отчасти и силой.
Вообще-то большинство гостей дали себя уговорить. Хотя они стояли в шляпах и собирались уйти, пока что платили по счету и не покидали террасу. И только когда танцевальная площадка начинала жутковато вздрагивать, когда слишком опасно зашатались ее стены, они поспешно отступили на несколько шагов.
Вдруг из танцевального зала выбежали разом все женщины и, задыхаясь от страха, поспешили убраться прочь, будто за ними по пятам гналась стая волков. Вслед за женщинами по ступенькам со страшным грохотом лавиной скатился клубок дерущихся мужчин. Едва став на ноги, они сразу бурным потоком заполонили широкую террасу. Тут уже все, кто был на ней, бросились бежать прочь: самые ближние, онемев от страха, а те, кто стоял подальше, с недовольными криками. Большинство направилось в деревню, остальные просто перепрыгнули через стену вниз. Только птицы на деревьях, зяблики и синицы, не понимая, что значит этот шум, затеяли ликующее состязание — казалось, глотки у них вот-вот лопнут.
Раз, два, три — и люди разлетелись в разные стороны, словно иглы из игольницы. А когда все немного пришли в себя, то поняли, что находятся вовсе не там, где им казалось. Люди потихоньку собирались группами, стараясь понять, где очутились, обнаруживали новых соседей. После этого произошли некоторые перемещения: наиболее чопорные из гостей (большинство горожан и почти все женщины) удалились, а остальные, выдержавшие испытание, продолжали оставаться на месте, будто приходились родней хозяевам «Павлинов».
И только внизу, на лужайке, все было по-прежнему. Правда, изумленному Конраду пришлось броситься навстречу Анне. Дело в том, что Анна, опрометчиво покинув отца, гонимая страхом, спрыгнула со стены террасы на ближайший стол и, подобрав юбки, ловко, словно белка, добежала до самого его конца, не опрокинув ни одного прибора. Когда брат поймал ее на руки на другом конце стола, она огляделась и нервно засмеялась. Сверху на нее озабоченно смотрел доктор, беспокоясь, как бы ей не причинили вреда.
Старик, избавившись от помех, намеревался воспользоваться своей свободой, чтобы восстановить авторитет и власть при помощи часто выручавшей его физической силы. Но едва он вмешался в драку, как тут же получил отпор толпы и упал на пол. Неуклюже поднявшись, старый Ребер опять исчез в человеческом клубке, но его оттуда снова вышвырнули.
— Господи, отец! Да помогите же отцу! — закричала Анна и мгновенно перескочила через стену, так что никто даже не успел заметить как.
— Где мое ружье? — хрипел старик в бессильной ярости. — Швейцар, подать сюда охотничье ружье, я их всех перестреляю, как серых дроздов!
Тогда Конрад провел смотр своих сил:
— Ну что, начнем? — спросил он, и глаза его сверкнули.
— Выступаем! — раздалось в ответ, и молодые люди храбро пошли вокруг стены на штурм. Опередив свою команду, Конрад на бегу давал указания:
— Старайтесь группами в несколько человек взять в оборот кого-нибудь одного, отделить от других и вытащить из толпы. Не действуйте каждый на свой страх и риск! Мы ведь идем не как враги, а как носители мира, превосходящие драчунов силой. А для этого мы сами должны соблюдать порядок и осторожность. Не бить лежачих! И прежде всего не одаривать всех налево и направо ненужными тумаками.
Когда они проходили мимо деревянного сарая, вахмистр тайком ухватился за стропило. Но Катри с горячечной поспешностью опередила его.
— Не надо! — отговаривала она, держа его за руку и призывая к благоразумию: — Кто за дубье берется, тот дьяволу продается!
Тут обернулся Конрад.
— Никаких дубин! — строго запретил он. — Ты что, с ума сошел?
— Никаких дубин! — прозвучало общее решение.
Когда пришли на террасу, Конрад приказал:
— Сначала отправить отца в дом, не пускать его в драку, а потом запереть двери!
И пока основные силы без промедления ринулись в бой, Конрад вместе с авангардом помчался навстречу отцу.
По пути наперерез ему бросилась Анна, обороняясь руками, потому что неправильно истолковала это поспешное наступление.
— Что с тобой, сестра? — возмутился Конрад. — Какие сатанинские намерения ты мне приписываешь?
Тогда она покорно отошла, пристыженная и подавленная.
А между тем Конрад подошел к отцу и сказал осторожно, однако твердо:
— Иди домой, отец! Такие дела не для тебя! — И попробовал увести старика. Но отец, почувствовав сильную руку сына, заартачился и начал сопротивляться.
— Ах, так вот вы как со мной обращаетесь! — застонал он. — Неужели нельзя дождаться, пока меня положат в гроб? Что, вам хочется меня заживо похоронить?
— На плечи! — распорядился Конрад. Тогда они подняли старика и быстро понесли ко входу в дом. — Анна, последи, чтобы он не устроил никаких безобразий, — крикнул Конрад. — Да убери ружье, но не бросай в окно. — С этими словами он выставил сестру, захлопнул дверь и принялся закрывать ее на засов. Он закрыл дверь изнутри, а потом поставил часовыми двух мужчин, к которым поспешил доктор.
— Я смогу пригодиться, — бормотал он, тряся головой. — Либо снаружи, либо внутри — никто ведь не знает, где и кому понадобится моя помощь.
Когда Конрад оглядел своих товарищей, то заметил, что сцена преобразилась. Там, где еще недавно бушевала жаркая кулачная потасовка, теперь восторжествовала неопасная словесная перепалка; вместо всеобщего пожара теперь тлело много отдельных очагов, окруженных бранящимися либо защищающимися девицами, которые радели о мире, как ангелы о бедной заблудшей душе. При этом им помогала резервная команда, взявшаяся невесть как и невесть откуда. Мужчины разнимали самых буйных, удерживали тех, кто снова хотел присоединиться к дерущимся, оттесняли с поля боя колеблющихся. Пожарники исчезли. Куда? |Вне всякого сомнения, они были в зале, потому что там неистовствовала драка, словно дьявол в преисподней.
Да, вон уже с лестницы друг за дружкой начали скатываться ваггингенцы, вышвырнутые невидимой рукой быстрехонько, будто посылки на ленте транспортера. Трое первых перекувыркнулись и снова поднялись, четвертый слетел вниз очертя голову, но остался невредим, пятый лежал, охая, а потому доктор длинными прыжками поспешил к нему на помощь.
Тут Конрада обуял гнев. Его возмущала излишняя жестокость. Мгновенно бросившись к двери, он стал, словно стена, стараясь смягчить падение побежденных и действуя как таран против победителей. Из-за этого движение поначалу застопорилось, так как крестьяне, выбрасываемые из зала и наталкивающиеся снаружи на Конрада, оказывались между двумя силами — их будто рычагом поднимал натиск с обеих сторон. Но как только Конраду удалось схватиться за правый дверной косяк, его сопротивление усилилось. Когда же он овладел и левым косяком, то внезапным рывком сумел отбросить человеческую лавину в зал.
Бородатый вахмистр был первым, на кого он там наткнулся. Конрад схватил его за шею и хорошенько тряхнул, чтобы образумить. Тот снес все покорно, будто ягненок, только молча жалобно смотрел на командира выпученными влюбленными глазами.
Но потом, когда Конрад едва протянул руку, чтобы схватить еще одного буяна, он увидел чужую орду, по-скотски бесчинствовавшую в нарядном танцевальном зале, опрокидывавшую мебель, разбивавшую оконные стекла и зеркала. И недовольство тем, что вахмистр перешел дозволенные границы, сразу же сменилось огорчением по поводу разгрома, учиненного захватчиками. То было огорчение собственника наглым нарушением мира в доме. Ибо здесь, в родных стенах, он ощущал себя заместителем отца, благородно пренебрегая семейными размолвками и ссорами.
— Уймитесь! — крикнул он, стараясь пересилить шум всей мощью своих легких. — «Павлины» в Херрлиедорфе — не забегаловка! Здесь не дерутся! — А так как драка продолжала бушевать, словно приказал утихомириться не сын хозяина «Павлинов», а какой-нибудь перепуганный деревенский ночной сторож, Конрада охватила дикая, необузданная ярость, из горла у него вырвался какой-то нечленораздельный крик, тут же потонувший в шуме. Шум стал таким невыносимым, до такой степени оскорбительным для ушей и разума, что ярость Конрада перешла в неистовство. Он заревел что есть мочи на дикую орду — и чтобы ее перекричать, и чтобы самому не задохнуться от гнева.
В это время звякнула люстра, задетая и раздробленная дубинкой, дорогая, новая, красивая люстра, купленная отцом за большие деньги в честь бала союза офицеров. Чистый звук разбиваемого стекла пронзил нервы Конрада, словно запал гранату, и выпущенная на свободу ненависть повела его в стремительную атаку. Он подбежал к люстре, не обращая внимания на толпу, расталкивая всех без разбора, друзей и врагов. Одному из дерущихся, который размахивал ножкой от стула, Конрад, пригнув голову, дал под дых, а потом всей пятерней вцепился в лицо, попав большим пальцем в рот, а остальными в глазницы (этот прием он как-то подсмотрел у отца). Потом он со всей силой так отшвырнул его, что поверженный противник, будто поваленная ель, увлек за собой и тех, кто был за его спиной. Затем, ничуть не беспокоясь о последствиях, Конрад тут же накинулся на другого, который, размахивая разбитым нотным пультом, опять обрушил из люстры дождь стеклянных осколков. Обхватив драчуна за талию, Конрад оторвал его от пола и, взяв одной рукой за грудки, а другой за брючный ремень, поднял вверх на вытянутых руках и крутнул в воздухе. Голубой небесный свет, лившийся из открытого окна, так поразил Конрада, что под его воздействием он мгновенно препроводил своего противника прямо на лужайку, высадив заодно и оконную раму, за которую тот судорожно цеплялся.
— Принести пиджаки, одеяла, подушки! — раздался снаружи голос Катри.
Войдя в раж, Конрад швырнул и второго через то же окно, а затем при поддержке Лёйтольфа и вахмистра также третьего, четвертого и пятого. Но наметившаяся было победа заставила себя ждать. Ваггингенцы, очнувшись после неожиданного нападения, отрезвленные видом вальдисхофских пожарных, а также напуганные опасностью вылететь из окна, в отчаянии сомкнули ряды и пошли единым фронтом против общего врага. Больше не звучали бесполезные проклятия; кругом слышались лишь тяжелое дыхание, топот ног и удары кулаков.
Вдруг Лёйтольф, прикрывая Конрада от бокового удара, резко отпрянул назад и ощупал щеку. Сразу после этого прогремели два револьверных выстрела. Они эхом прокатились вдоль ревущих стен, пока наконец не смолкли в углах.
Выстрелы произвели эффект внезапной остановки мельницы, и всех обуял тихий ужас.
— Кто стрелял? — робко послышалось наконец из кре-стьянских рядов.
— Я! — признался вахмистр, свирепо глядя на окружающих. Лёйтольф отнял у него револьвер.
— Нельзя стрелять в народ, будто в рябчиков, — запротестовали ваггингенцы.
— И ножом пырять тоже нельзя! — вскипел вахмистр.
— Мы никого не кололи ножом!
— Да уж точно, кололи, — уверенно возразил вахмистр, показывая на щеку Лёйтольфа, прочерченную острой линией от глаза до подбородка и обильно кровоточившую.
— Ладно, пустяки, — смеясь, успокоил Лёйтольф, когда Конрад испуганно заметил кровь. — Рассечена только кожа, но злого умысла было предостаточно. Удар, между прочим, адресовался тебе.
С улицы все время слышались истеричные, испуганные крики:
— Кого ранили? Кого убили?
— Кто ранен? — повторили одновременно несколько голосов в зале.
Взгляды всех вопрошающе бродили по кругу, встречаясь с такими же ответными взглядами.
— Никто! — решился, наконец, кто-то робко ответить.
— Никто! — подтвердили со всех сторон.
— Никто! — уверенно ответили из зала тем, кто был за окнами. Тогда испуганный крик прекратился и радостное эхо понесло вдаль утешительную весть. Но некоторые головы опять появились в окнах, чтобы рассказать стоявшим внизу о дальнейшем ходе событий.
Какое-то время оглушенная толпа в зале не двигалась.
В середину ее протиснулся верхневаггингенский адвокат, кругленький и приторный, с ухмылочкой, рассчитанной на дешевые симпатии. Смущенно потерев ручки, он заговорил елейным голосом:
— Так как милосердный перст Божий, видно, избавил нас от безмерного несчастья, сие деяние следует понимать как сигнал к заключению мира, не так ли? Кроме того, у нас нет ни малейших претензий к почтеннейшему господину Реберу. Единственное, чего мы желаем, — чтобы нас с миром отпустили восвояси.
— А нож? — проревел вахмистр.
— Нельзя же на всех возлагать ответственность за поступок одного человека, достойный сожаления. Это было бы несправедливое требование.
— В таком случае выдайте нам того, кто пришел сюда с ножом, и мы вас отпустим.
— Точно с таким же правом мы можем потребовать от вас выдать стрелявшего из револьвера.
Пожарники презрительно рассмеялись.
— Попробуйте! — крикнул один. А другой добавил: — Тут было совсем другое дело. Выстрел послужил только ответом на удар ножом.
Конрад потребовал тишины.
— Если любитель поножовщины объявится добровольно, мы не причиним ему никакого вреда.
Адвокат вопросительно осмотрелся, но никто не решился произнести ни слова.
— Нужно обыскать карманы, — предложил один из по-жарников. Едва он это произнес, как на пол упало множество ножей.
Конрад подскочил с ехидной усмешкой.
— Ну вот, видите, лицемерные притворщики, — вскипел он, указывая на сверкающие лезвия. — Принимайтесь сдавать оружие. Пусть каждый отдаст то, что найдет у другого.
В ответ послышалось шарканье множества ног: оба войска поспешно отступили, соединяясь со своими; крестьяне — чтобы сплоченно встретить атаку, ибо они чувствовали себя слабыми, хотя численно силы противников были примерно равны; вальдисхофские пожарные — чтобы вооружиться и выиграть, внезапно атаковав.
Но тут с улицы послышался мягкий, душевный голос Анны:
— Конрад! Подумай о матери! Не проливай чужой крови и пощади свою собственную.
В разгар мятежа этот голос прозвучал, словно звук органа, и проник в истерзанную душу брата.
— Конрад, будь добр! — снова умоляла сестра.
Конрад был потрясен.
— Лёйтольф! Решай ты, что делать, — глухо произнес он. — Ведь ты ранен.
— Удар был направлен против тебя, так что тебе и решать.
Конрад раздумывал.
— Ладно, — объявил он. — Я приказываю замиряться с тем условием, чтобы каждый четко и ясно произнес слова: «Тот, кто дерется ножом, — трусливый подлец». — Ну вот, соглашайтесь или отвергайте мое предложение.
Ваггингенцы что-то пробурчали, но не сумели найти веских возражений. А так как на них нагнали страху, то в конце концов деревенские приняли позорный договор.
— Пусть каждый, кто считает себя невиновным, смело произнесет эти слова, — подбадривал адвокат.
Пожарники стали в две шеренги, образовав по направлению к двери коридор, как будто для того, чтобы прогонять сквозь строй. По этому коридору потянулись ваггингенцы. Запинаясь, они бормотали клятву и шли с поднятыми руками. Тех, кто слишком торопился, задерживали; кто бормотал нечто невнятное, должен был повторить ненавистные слова. Крестьяне злились так, будто шли под ярмо, тогда как пожарные все чаще позволяли себе обидные насмешки.
Вдруг раздался веселый смех. Бригитта, обалдевшая от любви, явилась следом за молодым крестьянским красавчиком, которого она держала за полу пиджака, чтобы не потерять.
— Эй, посмотрите-ка на изменницу! — забавы ради погрозил Конрад. Но Бригитта злобно высунула язык — только она одна умела его так показывать; в этой гримасе было нечто унизительное.
Когда долговязый тип попробовал прошмыгнуть одним из последних, не произнеся клятвы, по его бегающим глазкам Конрад понял, что нож пустил в ход именно он.
— Посмотри мне в глаза, ничтожество, если осмелишься, — презрительно приказал Конрад. Когда же верзила опять попробовал улизнуть, не поднимая глаз, Конрад тотчас же велел притащить его. Тут уж вахмистр взял слизняка за горло:
— Черт бы меня побрал, — крикнул он, — если не ты и есть тот самый подлец с ножом, которого я взял на мушку!
Но Конрад решительно запретил вахмистру распускать руки:
— Если я объявил мир, значит, всем гарантировал безопасность.
И вместе с Лёйтольфом они оттащили вахмистра. Долговязый был спасен, хотя его окружил целый лес кулаков. Он вынужден был с большим трудом продвигаться вперед, натыкаясь на твердые кулаки. Для покаяния ему приходилось вновь и вновь произносить слова проклятия в свой адрес, молча соглашаться с нелестными прозвищами и характеристиками.
— Да это же Маттисов Михель из Нижнего Ваггингена, и этим все сказано. Каждый знает, что он — самая паршивая овца во всем стаде.
— У него на совести уже есть человеческая жизнь. Если бы он тогда не был малолетним, сидеть бы ему теперь в тюрьме, в пожизненном заключении.
— Это еще не самое худшее! А деньги, которые он с ножом вытребовал у матери?
— А если вспомнить о доле наследства, которую он выдурил у своей беспомощной, слабоумной сестры!
— Довольно! — велел Конрад и провел Маттисова Михеля к двери, взяв дрожащего верзилу под руку и прикрывая его своим телом.
После этого немногие оставшиеся произнесли клятву.
— Не скрывается ли еще кто-нибудь? — спросил Конрад, осматривая зал.
Тогда из-под сцены выкарабкался маленький школьный учитель из Верхнего Ваггингена и уселся прямо на подоконник, жалобно вскрикнув.
— А мы? — с кисловатым юмором осведомились музыканты. — Нам тоже придется исповедоваться? — Конрад улыбнулся, и музыканты живехонько убрались из зала, гримасничая, будто гномы.
— Пойдем за деревенскими вслед! — призвал Лёйтольф. — Прогоним их в долину! — И команда победителей с ликованием бросилась на простор.
Конрад остался в зале, чтобы, как он уверял себя, прикинуть масштабы причиненного опустошения. На самом же деле он задержался потому, что не желал покидать завоеванное поле сражения. Здесь ему наконец удалось распоряжаться, впервые в жизни командовать своим домом. Правда, к сожалению, царствование его окончилось. Увы, слишком рано, едва начавшись по-настоящему. И вообще он еще не насытился властью. Главный удар так и не был нанесен. Конечно, сестре хотелось, чтобы все было к лучшему. Так было разумнее, честное слово. И притом правильнее. Если бы случилось иначе, его бы теперь, наверное, тяготила вина и мучило раскаяние. Но вообще-то ему лучше было бы еще раз более основательно приложить руку. Занятие, достойное храбрых мужчин, избавляло от гнева и желчи.
О Господи! Как выглядело все вокруг! Сцена разгромлена, скамейки треснули, люстра разлетелась на кусочки, повреждена даже печь! Они хозяйничали здесь, как стадо диких кабанов! Хорошо, что раньше он не заметил всей картины разрушения. Кто знает, так ли легко смилостивился бы он над ними!
Расстроенный, он бросился к окну в надежде вернуть буянов и заставить их произнести еще одну клятву. Но бегство и преследование продолжались теперь уже далеко внизу, вдоль межи, превращаясь там в безобидные перегонки. А рядом в поле виднелась тощая стайка отколовшихся основной массы и бестолково метавшихся крестьян. Вверху у межи под грушей кто-то затаился, чтобы с хитростью продувной бестии сзади исподтишка наблюдать за преследованием. Вдоль виноградников, приветливо здороваясь, с невинной миной вышагивал ваггингенский адвокат, делая вид, будто вся эта история его нисколько не касается. Потом, резко свернув в сторону, он вдруг исчез в винограднике. По крутому склону быстро, будто резиновый мяч, сбегал вниз ваггингенский учитель. Двигая локтями, словно крыльями и истошно вопя, он безмерно радовался, что удалось спасти свою незрелую, юную жизнь. Что с него возьмешь?
Когда Конрад, рассвирепевший, будто дог, у которого преждевременно отобрали миску с едой, стоял в зале, он услышал громкие жалобы отца. Хотя они доносились издалека, его голос ни с чьим нельзя было спутать. Конрад подскочил так, словно за его спиной взорвалась мина. При каждом новом звуке отцовского голоса его трясла дрожь.
— Сейчас или никогда! — прохрипел он. — Сейчас все должно решиться! — Размахивая в запальчивости руками, Конрад выбежал вон из зала, на свежий воздух, на террасу.
Глаза его ослепило красно-золотое закатное солнце, а уши оглушили ликующие крики одобрения. Но прежде всего ему бросилась в глаза точеная, будто отлитая из металла, фигура Катри. Казалось, она стояла прямо перед ним, хотя их разделяли люди. Подбежав поближе, он крикнул ей:
— Ну вот, теперь выступайте со своим Гансом, если он отважится!
Но на этот раз Катри с испуганным лицом метнулась прочь от Конрада. Ах, да разве до нее теперь! Конрад опрометью бросился с террасы к дому, решив все высказать отцу прямо, без обиняков.
— А теперь, отец, выслушай меня. Молчал я достаточно долго, так что скажу громко, чтобы все слышали. С унижениями, которые до сих пор я вынужден был сносить, с сегодняшнего дня покончено. Больше я не желаю выглядеть бесправным мальчишкой, которому делают замечания, которого ругают и отчитывают. Я не намерен играть роль попираемого слуги, на коем срывают свое плохое настроение. Я хочу иметь в доме положение, приличествующее хозяйскому сыну, свою долю в домашнем хозяйстве, где я смогу распоряжаться по собственному усмотрению, где никто не вмешивается в мои действия, где я ни перед кем не должен отчитываться, короче, где приказываю я.
— Приказывай, приказывай, — сердито ответил отец. Ты ведь теперь хозяин! Сдается мне, я уже давно в отставке.
— Либо ты оставляешь за собой ресторан и прочее, а я буду крестьянствовать, либо я возьму на себя ресторан, а ты все, что связано с землей.
— Да бери, бери, — хныкал старик, — если не можешь дождаться моей смерти. Забирай все!
— Я ни в коем случае не требую всего, а хочу только моей минимальной доли, чтобы ко мне относились с уважением, чтобы я имел покой, мог смеяться и радоваться жизни, чтобы не приходилось с досадой проглатывать свой кусок за столом. Или ты с матерью переедешь на верхний этаж, а я буду жить внизу, или наоборот — ты внизу, а я наверху.
— Если уж на то пошло, мы с матерью можем жить в конюшне с лошадьми, так тебе дешевле обойдется. Да нам уже ничего и не нужно, кроме соломенной подстилки, чтобы было где умереть.
— Я не заслужил таких обидных, несправедливых слов. Я хочу разумного, обязывающего решения, и притом немедленно. Ты согласен или нет?
Одобрительный ропот толпы под окнами поддержал его требование, так что старику противостояло единогласное общественное мнение. Он бросил ядовитый взгляд на людей. Оскалившись и бормоча что-то фиолетовыми губами, он несколько раз сплюнул и, не сказав ни слова, исчез в глубине спальни.
Гнев и негодование на время отняли у сына разум.
— Ну ладно! — бросил он вслед отцу. — Тогда я уйду из дому и никто меня больше не увидит. Уйду немедленно, чтобы больше ни часу не оставаться в этом доме.
Слова Конрада вызвали открытое неодобрение. Одни из присутствующих пытались умилостивить Конрада, другие зашли в дом, чтобы уговорить отца. Услышав угрозу брата, прибежала Анна, бросилась ему на грудь и умоляла остаться.
Он вырвался.
— Прощай, отец! — громко крикнул он. — Ты никогда меня больше не увидишь. Передай привет матери.
И опять послышались возмущенные возгласы. Куда бы ни направлялся Конрад, его всюду дружески удерживали, окружали, не давали уйти.
Но тут отец, будто дикий зверь, внезапно высунулся из окна.
— Да, да, ладно! — взревел он, словно отрывая что-то от себя.
Вздох облегчения вырвался у присутствующих, ибо бурные события сделали всех как бы членами одной семьи.
Подойдя твердым шагом к окну, Конрад решительно спросил:
— Итак, это твое окончательное, серьезное решение?
— Да, да, да! — раздраженно повторил старик, тряся головой.
— Подайте друг другу руки! — раздался чей-то голос.
— Хорошо! — согласился Конрад и протянул руку отцу. Но тот воспротивился так, словно предстояло взять змеиное гнездо.
Наконец ему удалось пересилить себя. Он подал руку рывком и, едва схватив протянутую ему руку сына, тут же оттолкнул ее.
— Итак, поля или ресторан?
Старик задыхался. Наконец сделав мучительное усилие над собой и взметнув руки вверх, выдавил:
— Все! — Не в силах больше оставаться на людях, старик исчез в комнате.
— Вы все слышали, будете свидетелями, — сказал Конрад, обращаясь к людям. Затем, опершись обеими руками о подоконник и глядя в комнату, он торжественно произнес: — Отец! Вы не должны сожалеть о принятом решении. Я даю вам священный обет. Отныне вы будете иметь в моем лице верного, благодарного сына. Вы с матерью ни в чем не будете испытывать недостатка. С Божьей помощью в «Павлинах» отныне всем будут править мир и веселье.
После этих слов Анна сердечно обняла брата, а он, глубоко растроганный, поцеловал ее.
События дня словно парализовали дух Конрада. Запоздалый страх за свое безрассудство не давал осознать собственный успех. Люди, стоявшие вокруг него, тоже умолкли, словно оглушенные.
На террасе и вокруг нее прислуга машинально делала привычную работу, подбирая с земли матрацы, подушки, клочки одежды, шляпы, обломки посуды. Музыканты, намереваясь выразить благодарность, приблизились с подобострастным видом, но не произнесли то, что хотели бы сказать. Вальдисхофские пожарники, возвращавшиеся после преследования ваггингенцев с песнями и хвастливыми выкриками, сразу же умолкли, встретив таинственное молчание.
— Конрад! Что случилось? — прошептал Лёйтольф. Конрад не ответил, поспешив навстречу доктору, который вышел из-за угла дома.
— Как дела? — озабоченно осведомился Конрад. — Надеюсь, серьезных ранений нет?
Доктор зажмурил один глаз, поглядывая другим вверх, прежде чем дать ответ.
— Благодари Бога, что все так обошлось, или, скорее, Катри, которая велела принести одеяла. А то все сошло бы не так гладко. С теми, что вылетели из окна, ничего не случилось — к счастью, иногда бывают такие чудеса. А вот одного из тех, кого спустили с лестницы, придется лечить.
Понизив голос, доктор пробормотал:
—- Хороший перелом бедра.
Конрад не мог понять, радоваться «хорошему» перелому или сожалеть о нем.
— Где пострадавший?
— Пока что мы его перевязали и оставили в сарае.
— А кто за ним ухаживает?
— Лизабет и Бригитта. — И с этими словами доктор направился к входу в дом.
Потом стало тихо, так тихо, что звон церковного колокола, раздавшийся как раз в это время, показался важным событием. Все автоматически подсчитывали: один, два ... семь часов.
— Как? Неужто уже семь часов? — удивленно спрашивали друг друга люди, хотя удивляться было нечему.
Все чувствовали, что должно еще что-то случиться — либо для того, чтобы дополнить достигнутый результат, либо для того, чтобы свести его на нет.
И тут из спальни пророкотал голос хозяина «Павлинов»-
— Что вы тут стоите и пялитесь, будто стадо баранов. Дай хоть выпить своим людям! Они этого по-настоящему заслужили.
— Какого вина? — послушно спросил Конрад.
— Что ты меня спрашиваешь, недотепа? Теперь ты сам должен распоряжаться. — И связка ключей упала под ноги Конраду.
После этих слов напряжение спало — словно рассеялись злые чары. Все старались протиснуться к молодому хозяину, поздравить его с победой и пожелать счастья.
— Стало быть, отныне вы хозяин «Павлинов»! Желаю вам здоровья и долголетия и чтобы все у вас шло хорошо! — А я желаю привести в дом добрую жену. — А я позволю себе от души поздравить вас. — К нему тянулось великое множество рук, и он даже не знал, какую пожать в первую очередь. Одна рука трясла его правую руку, другая пожимала и мяла левую, некоторые на радостях готовы были прямо-таки вывихнуть ему плечи, а иные лишь робко прикладывали пальцы, ожидая от него ответа на приветствия. Вахмистр же от избытка чувств просто отмутузил его.
— Хозяин, — с улыбкой обращались к нему кельнерши, отчасти пугливо, отчасти доверительно. Глаза их просили о прощении за прошлое и о снисходительности в будущем.
А что сделал Конрад? Он обнял всех по очереди. Да, ей- богу, он обнял их. И не стыдился этого, и не жалел об этом.
Но Жозефина, сияя улыбкой и собираясь подать ему руку, вдруг упала на стул и заплакала в три ручья.
— От всего сердца хочу пожелать вам добра, — жалобным голосом сказала она.
Со всех сторон, будто «Аллилуйя» во время богослужения, бесконечно повторяясь, звучало его имя. Разве может что-нибудь быть милее для человеческого слуха? Теперь люди в самом деле были его друзьями, абсолютно все без исключения, все, кто обступил Конрада, знакомые и незнакомые. В этом его убеждала теплота слов, ласковые взгляды. Откуда вдруг появилось столько благосклонности к нему, еще вчера такому одинокому? И вдруг, словно блестящая комета со светящимся хвостом, в уме его мелькнула догадка: успех создает авторитет, а слава плодит друзей на каждом шагу.
Конрад взволнованно отвечал на приветствия. Он был счастлив, просто счастлив. Мускулы его невольно налились силой, душу привело в восторг высокое чувство льющейся через край молодости, здоровья. Казалось, сама суровая природа ласкает его. А как известно, у тех, кто живет в согласии с природой, все дела идут хорошо. В этот миг он мог бросить вызов смерти и дьяволу.
— Анна! — крикнул он, протягивая сестре связку клю-
чей. — Вели принести самого лучшего кьянти, да ты знаешь. И чтобы всем одинакового. Да не скупись!
— Господин и хозяин, — бормотал он, оглядываясь по сторонам, чтобы удостовериться, что не грезит наяву. Больше он не мог ни о чем думать. Все кругом было в движении, весь мир танцевал, и душа его беспрестанно прыгала от радости.
Когда Анна возвратилась с целой свитой кельнерш, тащивших бочонки и бутылки, он отвел ее в сторону.
— Передай отцу: я нижайше прошу его оказать нам честь и выпить вместе с нами.
Анна неохотно согласилась. Но вскоре последовал отрицательный ответ, хотя и нельзя сказать, что нелюбезный. Отец благодарит, сообщила она, но сегодня он очень устал и плохо себя чувствует.
— В таком виде тебе больше нельзя здесь оставаться, — поспешно добавила она. — Пойди быстренько умойся и переоденься.
— Пустяки! — равнодушно ответил Конрад. — На войне как на войне. Я выгляжу точно так же, как и мои товарищи. Ни у кого нет повода стыдиться друг друга.
— Ну уж извини, — не соглашалась сестра. — Твои товарищи так не выглядят! — и показала ему рукав, болтавшийся на клочке ткани.
Конрад засмеялся.
— Ну тогда принеси мой старый мундир, он скроет все недостатки. — А как дела у матери? Ее еще нет дома? Она что-нибудь знает? Что мать скажет по поводу всего, что произошло? Постарайся первой сообщить ей об этом. Ты умеешь подать все так, что не возникнет никаких двусмысленностей. Скажи ей, пусть не печалится. Ей со мной будет хорошо, как, впрочем, и отцу. В общем, они будут жить как король с королевой в конце сказки, ни дать ни взять. Передай ей мои слова.
И вот зазвенели бокалы, начался банкет. Люди чокались друг с другом, желали здоровья, с удовольствием шутили и, чтобы вновь насладиться славной победой, вспоминали отдельные эпизоды происшествия в танцевальном зале. Эти эпизоды теперь, средь праздничного ликования, производили смешное впечатление. Конрад тихо подходил то к одному, то к другому, успевал пригубить рюмку, некоторых похлопал по плечу, еще раз теперь уже от своего имени пожал руки всем пожарникам, кроме Лёйтольфа и вахмистра, которые и без того были частью его существа.
— Эй, музыканты, присаживайтесь к нам! Кто сегодня не на моей стороне, тот меня оскорбляет!
— Пусть они нам все-таки что-нибудь сыграют! — задорно заявила Жозефина. Ее предложение нашло всеобщую поддержку, так что музыканты неторопливо извлекли свои инструменты. При виде их настроение присутствующих сразу заметно поднялось.
— Ну, Катри, куда же подевался дьявол, который сидел на крыше? — так и вертелось на языке у Конрада. Он огляделся, ища девушку. Но Катри нигде поблизости не было. Только теперь он заметил, что она отсутствует уже довольно долго и даже не поздравила его. Озираясь по сторонам, Конрад наконец нашел ее возле кегельбана. Прислонясь спиной к стене холла, Катри сидела неподвижно на скамейке, словно собираясь сфотографироваться. Руки она сложила на коленях, глаза твердо направила на него, будто хотела попасть в цель. Когда он ее увидел, Катри тотчас же отвела взгляд. Однако когда Конрад снова взглянул на нее, она опять неотрывно смотрела на него. Во всем ее облике была теперь какая-то мягкость; девушка была так не похожа на прежнюю несгибаемую Катри. Конрад понял, что эта мягкость, эта нежность адресовалась ему, только ему, ему одному. Сердце молниеносно подсказало об этом разуму. Сначала он опрокинул в рот рюмку вина, а потом направился прямо к ней.
По дороге его окликали, но он не остановился.
Только швейцар назойливо преследовал Конрада по пятам, согнувшись в поклоне и теребя в руках фуражку:
— Господин хозяин, они опять собираются внизу у виноградника.
— Кто?
— Ваггингенские.
Конрад небрежно пожал плечами и продолжил путь. Но швейцар не отпускал его.
— Господин лейтенант, они помирились между собой — верхние с нижними. Они хотят вас обмануть.
— Пока еще светло, а вернуться незамеченными трудно.
— Не обижайтесь, хозяин, но они собирают камни возле виноградника и поклялись вам отомстить, в особенности вам. Не стану повторять, чем они вам грозили...
— Ну, если речь идет об одном только злом умысле, то
они бы давно уже сжили меня со свету. Но коль угрозы касаются меня, я здесь и начеку. Хватит об этом.
— Теперь, когда вы стали хозяином, я, наверное, потеряю свое место в «Павлинах»? Или вы еще на недельку дадите мне испытательный срок? Я буду стараться изо всех сил.
— Об этом поговорим завтра, — ответил Конрад и махнул рукой.
Катри застыла, будто статуя, когда он деловито поспешил к ней.
— Ну, Катри, — пошутил Конрад, — где же тот дьявол, который сегодня утром сидел на крыше? Наверное, по гро-моотводу отправился в ад, где ему и место. Как видите, храбрые мужчины — всегда самое лучшее средство против дьявола. Но чтобы навеки заказать ему сюда дорогу, я хочу ввести в дом доброго гения, доброго духа — вы понимаете, кого я имею в виду? — А так как дыхание ее затрепетало, словно чайка над бурным морем, он прямодушно протянул ей руку.
— Катри, сегодня торжествует все самое хорошее. Давайте себя сразу свяжем и обяжем!
— А что подумает обо мне ваша сестра? А ваша мать? — запинаясь, пробормотала она, вставая с места и стыдливо отворачиваясь от него.
— Пусть думают что хотят! — рассмеялся Конрад. — Я теперь независим и ни перед кем не отчитываюсь. — И он быстро схватил девушку за руку.
— Хорошая мысль! А что, Катри, если я без долгих раздумий представлю вас всему народу как свою невесту?
По ее телу пробежала счастливая дрожь. Катри смущенно опустила голову и неуверенно возразила:
— Не так, не сейчас, в первый день знакомства. Что вам вздумалось! Может, потом, позднее. Только не сегодня. Вы так взволнованы. Все это от вина. Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете, а завтра можете обо всем пожалеть.
— Пожалеть? Я? Завтра? Я не понимаю, что делаю? Ладно, тогда завтра я еще раз сделаю все честь честью. Завтра с десяти до одиннадцати в водолечебнице. Вам это время подходит или мне лучше прийти позднее? — А когда она молча вздохнула, Конрад продолжал: — Хорошо, на том и порешим. Итак, завтра не позднее половины одиннадцатого я приеду на Лисси в лечебницу. А пока до свидания. — Сказав это, он бросил на нее задиристо-дружелюбный взгляд, крутнулся на каблуках и ушел резво и лихо. Дело было в порядке.
Тогда Катри догнала его и взяла за руку.
— Я вам немножко нравлюсь, да? — спросила она с улыбкой, и глаза ее при этом сияли.
— Я отвечу завтра, а сегодня это пока строжайшая тайна, — сказал Конрад, привлекая ее сильнее к себе, так что идти обоим стало неловко.
От кегельбана до террасы было не больше тридцати шагов, но этот путь показался ему бесконечно долгим и счастливым, как некогда расстояние от места в строю до штаба бригады, когда полковник Аллегри назвал его имя, а потом выразил благодарность перед строем.
— Катри! — и Конрад с улыбкой показал на конек крыши гостиницы. — А ну-ка отгадай, кто теперь сидит там? Кто-то с белыми крыльями и золотым поясом держит пальмовую ветвь в руке! Мне даже кажется, что я слышу, как он шевелит крыльями. Ты ничего не чувствуешь? Я чувствую.
В ответ она несколько раз подергала его за усики. При ее гордом нраве, как догадался Конрад, это должно было заменять поцелуй. Но вдруг девушка остановилась и с угрозой взглянула ему в глаза.
— Все-то я чувствую, — со значением сказала она. — И отныне требую от тебя верности без снисхождения и всяких исключений: если я кого-нибудь однажды впущу к себе в сердце, то буду держать его, будто омар клешнями. Знаешь, если бы у меня был выбор: узнать, что ты когда-то любил кого-то сильнее, пусть даже сестру или мать, либо услышать о твоей смерти, я с большей охотой предпочла бы второе. Вот я какая. Заявляю тебе об этом честно и откровенно.
— Брр! — засмеялся Конрад и в шутку затрясся, словно от озноба. Вообще-то его немного удивила легкость, с которой Катри распоряжалась его жизнью. Он-то считал, что женщина, скорее, пожертвует собой, чем пожелает смерти любимого. Но то была лишь мимолетная печальная мысль.
А Катри добавила:
— Я бы даже Гансу никогда не простила, если бы он предпочел мне свою невесту. — Сочтя, что довод достаточно веский, она благосклонно улыбнулась.
— Когда они подошли к террасе, музыканты заиграли знакомую песню, тут же подхваченную многоголосым раскатистым хором и как нельзя лучше выражавшую их собственные чувства: «Коль души храбрых мощью расцветают». Напевая, они взмахивали сцепленными руками, словно танцующие альпийские пастухи, при этом Конрад смотрел в лицо своей спутнице, а Катри глядела прямо перед собой, целиком отдавшись пению.
Их не беспокоило, что они на виду у всех, потому что знали: присутствующие благоволят к ним. Кроме того, идя навстречу красному солнечному диску, они были так ослеплены его сиянием, что никого не замечали.
Нечаянно столкнувшись с Анной, спешившей к брату с мундиром, они отскочили друг от друга, будто прелюбодеи.
Анна смотрела на них с невыразимым страданием, пока брат снимал порванную куртку. Но когда рукав мундира случайно коснулся земли, Катри тут же подхватила его, словно хотела помочь фрейлейн Ребер.
— Да, а кто сейчас, собственно говоря, ухаживает за моим братом — я или кто-то другой? — тусклым голосом спросила Анна и прикусила губы.
— Господин Ребер, выбирайте, кто должен вас обслуживать? — с веселым смехом Катри подхватила вопрос, будто речь шла о пустяковом, шутливом споре.
Но взгляды обеих женщин, встретившись, словно ядовитые кинжалы, выдали их ненависть друг к другу.
— Обе! — ответил Конрад, вымученно улыбаясь и думая, что нашел соломоново решение. Но когда он простодушно сунул левую руку в рукав кителя, Анна с оскорбленным видом уронила правый рукав и отошла, уступая место сопернице.
Она принесла также шарф и шляпу и машинально держала все это в руках. И то и другое с неслыханной дерзостью выхватила у нее из рук Катри, будто сама была здесь хозяйкой. Анна снесла все молча и покорно смотрела, как чужачка изо всех сил ухаживала за братом. Но вид у нее был печальный и униженный. Казалось, в своем отречении она была готова лишиться всего и кончить свой век лесной отшельницей. Наконец, когда Катри удалилась с уничтожающей миной победительницы, вся сияя гордостью невесты, подняв плечи в предвкушении скорого домашнего всевластия в «Павлинах», величественно закинув голову, будто ей приходилось тащить мантию со шлейфом» бледные губы Анны дрогнули в судорожной улыбке, прежде чем она смогла промолвить:
— А я? Значит, я теперь больше не нужна?
— У тебя есть твой доктор, — полушутя-полусерьезно утешил брат.
А так как Анна с укором смотрела ему в глаза, словно продрогший нищий, которому скупец вместо теплой одежды бросил жалкий медный грош, он нежно обнял ее и пожурил:
— Не будь глупышкой! — Вообще-то он собирался сказать ей что-то очень ласковое, чтобы согреть ее больную душу. Ему было жаль ее, как некогда умиравшую Иоганну, дочь школьного учителя, которая обвила его шею исхудавшими руками и прошептала: «Ты еще помнишь, Конрад, что было десять лет назад?» — Только Конрад не сумел найти нужных слов. Как он ни старался, ничего не мог придумать. Чтобы утешить сестру, он прижал ее к груди. Несколько минут Анна молчала, постепенно успокаиваясь, только все еще немного дрожала. Потом произнесла:
— Знаешь, я послала за матерью. Она скоро придет.
— Мать уже что-нибудь знает?
Анна молчала и старалась избежать его взгляда. Конрад посерьезнел и спросил:
— Тебе известно, что мать прежде впадала в меланхолию?
— Да, ну и что?
— Да ничего, просто вдруг подумалось.
Разговор не клеился.
— Мне надо забежать наверх в спальню, присмотреть за отцом, — засуетилась Анна. Потом вздохнула, подавляя в себе желание произнести слова, готовые невольно сорваться с языка, но не выдержала и призналась: — Я за него боюсь.
— Боишься? Почему?
Анна медлила с ответом.
— С ним что-то неладное. Он уже жалеет о своем решении, жалуется на тебя, обижается, после того как наобещал тебе. Ты будто бы припер его к стенке и приставил нож к горлу.
— Но это же неправда! — в запальчивости воскликнул Конрад и тут же постарался успокоить себя. — Скоро он сам убедится в том, что такое решение было самым лучшим для всех и для него самого.
— Ладно, будем надеяться, — поспешила заверить Анна и собралась уйти, но вдруг обернулась и бросилась на грудь брату: — Прости, что я сегодня то и дело плачусь тебе. Честное слово, не знаю, что со мной творится. Боюсь, что у нас никогда не будет по-хорошему.
— Но ведь все хорошо, глупышка!
Она покачала головой.
— О нет, нет! Не хорошо, все плохо, ужасно плохо, худо как никогда, — и заплакала.
Пока Конрад безуспешно пытался понять, что ее так огорчило, внимание его привлек необычный шум, доносившийся из спальни. Разбитые невидимой рукой, одно за другим дождем осколков посыпались на землю оконные стекла. Из глубины комнаты раздавались какие-то звериные звуки — то жалобные, будто мычание теленка, то гневные, похожие на рев быка, который роет землю рогами.
— Что случилось? — поразился Конрад.
— Он тебя проклинает! — догадавшись, с болью в голосе воскликнула Анна.
Конрад побледнел и вздрогнул.
— Если он меня проклинает, — выдавил он ледяным голосом, — я его тоже прокляну. А потом посмотрим, не громче ли прозвучит справедливое проклятие замученного сына под сводами ада, чем несправедливое проклятие жестокого отца.
— Нет, нет! — умоляла Анна, судорожно вцепившись ему в плечо. — Нет, ты этого не сделаешь! Подумай, ведь он старый, больной человек и не ведает что творит! Одумайся! Ты должен помнить, что он, как бы то ни было, наш отец!
Его терзали противоречивые чувства.
— Ты права, — глухо произнес Конрад. — Я его все-таки не стану проклинать.
— Рассчитывай на меня, — благодарно ответила Анна. — Я его утихомирю. Конечно, я сумею его уговорить, — и со всех ног бросилась в дом.
Конрад отправился к пировавшим друзьям, которые, отдавшись веселью и одурев от шума и вина, не замечали борьбы злых и добрых духов за своей спиной. Но даже находясь в окружении друзей, Конрад чувствовал себя теперь одиноко, как тусклый стеклянный фонарь посреди яркого цветника. Он не слышал, о чем говорили, смотрел невидящим взглядом и лишь одно было у него постоянно перед глазами: бесформенное черное пятно, парившее в воздухе возле ног. Куда бы он ни повернулся, пятно следовало за ним.
Скоро его поведение бросилось в глаза окружающим.
— Конрад! Что это в самом деле с тобой? Ты что-то не в себе!
— Да он немного навеселе, — заметил кто-то тоном знатока. — Кьянти кого угодно возьмет.
— Или, может быть, думает о красавице Катри? — вмешалась Берта.
А между тем время было совсем не подходящим для тонких наблюдений и познания человеческой души. Кругом ликовали, кричали; Конрада тащили от одного стола к другому, изо всех сил уверяя в дружбе и преданности.
— Ты герой, тебе нужны доспехи, — сказал Лёйтольф, снимая с Конрада шляпу и напяливая свой шлем. Вахмистр пожаловал Конраду свой шарф; кельнерши натыкали цветов наподобие орденских розеток на мундир, обвязали лентами. Прикалывая незабудки, Жозефина провозгласила:
— Рыцарь Голубого Павлина!
— Нет, Белой звезды, — уточнила Берта, подходя с букетиком ясменника.
Вскоре Конрад выглядел как агнец, украшенный перед закланием.
Он терпеливо снес все это, так как был слишком опечален, чтобы обижаться на чьи-нибудь шутки. Зато, когда Катри дотронулась до его пальцев, в ее взгляде он прочел тайное сочувствие и недовольно отвернулся, сам не зная почему.
Внезапно на плодовые деревья обрушился град камней, срывая листья и цветы, ломая ветки и повреждая кору.
— Подлые трусы! — раздался глухой ропот. Проворно, будто альпийские охотники, сотня мужчин, горящих мщением, бросились с террасы к нападавшим. Их опередили херрлисдорфские крестьяне, расположившиеся как зрители в стороне от пировавших, на дороге, ближе к дну долины. Они с жадностью воспользовались этим случаем, чтобы наверстать упущенное в танцевальном зале.
Будто артиллерийские снаряды, они устремились по склону, чтобы проучить врагов, которые врассыпную бросились через поля, спасаясь от преследователей паническим бегством. Крестьянам едва удалось догнать с полдюжины отставших ваггингенцев, которых они уложили на землю мощными ударами. Раз, два, три — и готово. После этого они возвратились спокойным маршем, в соответствии с солдатской выучкой, загодя расставив несколько постов у подножия холма.
Гулкое «браво» вальдисхофских пожарных стало похвалой деревенским за быстрый успех.
— Чистая работа! — отметил Лёйтольф.
Крестьян пригласили за стол и приняли сердечно, искренне, с поднятыми рюмками.
— Музыку! — велел вахмистр. — Но что-нибудь эдакое зажигательное, а не какие-то жалкие причитания, от которых опускаются руки и падает дух! — Музыканты заиграли веселый галоп, заряжая огненным ритмом тело и душу, так что радость жизни запрыгала в каждой жилочке.
Конрад не сразу очнулся от своих тяжелых дум. Вернувшись к действительности, он вдруг обнаружил, что все уже улажено. Но зато только теперь заметил опустошение и приблизительно прикинул размеры убытков: значительная часть урожая фруктов была потеряна, несколько великолепных деревьев превращены в калек, один саженец сортового персика погублен. Больше всего его мучили не финансовые потери, а варварское разрушение райской красоты, а также раны, нанесенные нежным, чувствительным растениям, зверское уничтожение плодов того, чем природа одаривает за терпеливый, тщательный уход.
Гнев Конрада все усиливался. Вдруг поблизости упал запоздалый камень, потом второй, а немного спустя и третий. Каждый из них описывал похожую траекторию. Вероятно, нападавший притаился в каком-нибудь дальнем укрытии.
Только Конрад мог быть мишенью для того, кто бросал камни. Некоторое время он не мог засечь злоумышленника, так как блеск вечернего солнца ослеплял глаза. Думалось, что все еще день, а свет был уже не тот. На низины уже упала тень; группы предметов слились в сплошную массу с общими резкими очертаниями; над крышами прошелестела ранняя летучая мышь.
Наконец Конрад обнаружил снайпера, но не внизу, а сбоку, за вишневой аллеей, за ореховыми деревьями, росшими у сарая столяра Гансйорга. Чтобы поймать его, существовала единственная возможность: обойти сзади, со стороны пашни, отрезав путь к бегству. Но только стоило ли? Вообще-то да. Всегда стоит наказать пакостника. Но честно говоря, Конрад устал телом, а душа была занята совсем другим — той войной, которая больше касалась его, откуда ему угрожала гораздо большая беда, чем материальный ущерб.
Но случилось так, что новый камень, брошенный с еще меньшей силой, чем предыдущие, попал в ручей. Звук падения камня на мелководье оскорбляет слух, будто оплеуха. А может, загрязнение прозрачной воды горного источника переполнило чашу терпения Конрада? Теперь ему захотелось хорошенько проучить бросавшего.
Стараясь двигаться как можно незаметнее, сложив руки за спиной, будто прогуливаясь, Конрад побрел наверх, к дому, прижавшись к стене, словно охотник, выслеживающий дичь.
Камни продолжали лететь в прежнем направлении, враг пока еще не заметил, что Конрад исчез.
Из окна столовой выглянула Анна.
— Сколько времени? — небрежно спросил он, лишь бы что-то сказать.
— Восемь часов, — ответила она.
— Собери мне что-нибудь поесть, — попросил он, подойдя к сестре. На сей раз вид у нее был не такой безутешный.
— Сейчас отец ведет себя разумно, — шепнула она брату, — впервые улыбнувшись за несколько последних часов. — Он с доктором у меня в гостиной.
Когда Конрад хотел пройти мимо окон, до него донесся голос отца. Старик хныкал, словно маленький ребенок, которому причиняет боль врач. Он замедлил шаги и затаил дыхание, и душа его омрачилась. Что бы это значило? Неужели опять речь идет о нем? И почему?
Сначала он не мог ничего разобрать, потому что одновременно с хныканьем старика слышались уговоры доктора, и голоса обоих сливались. Наконец ясно прозвучали слова отца:
— Он нанес мне смертельный удар! — Этот обрывок фразы поразил Конрада, будто молния.
Так вот в чем дело! Теперь будут гримасы мученика, горестные вздохи, обвиняющие взгляды и упреки до конца дней? А потом могильный камень с вечной, нестираемой надписью: «Ты, мой собственный сын, и есть мой убийца!» Как ответить на это? Терпеть обиды или бороться с ними, возражать отцу? Но ведь от немых упреков нет спасения! Конрад задрожал. Крайнее отчаяние затмило разум.
— Я его все-таки прокляну! — кричала душа, а руки судорожно хватались за все вокруг, но внезапно ослабели, безвольно упав. Конрад больше не понимал, что делает сейчас и что собирается делать. Но воля, гнавшая его отсюда, снова вывела на предначертанный судьбой путь, будто паровоз на рельсы.
— Конрад, довольно, на сегодня хватит! — крикнула вслед сестра, догадавшаяся обо всем по его крадущейся походке, но не заметившая перемены в настроении.
Но тут дерзко вмешалась Катри:
— Господину Реберу лучше знать, что делать!
А тем временем пожарники хватились Конрада. Узнав от Катри о возможной причине его исчезновения, они, будто легкомысленные зеваки, вытянули шеи в ожидании забавного спектакля — сцены мести. Так как вечерние сумерки уже заметно сгустились, Лёйтольф достал полевой бинокль, чтобы лучше следить за происходящим, и принялся комментировать события:
— Он спрятался за орехом, возле сарая. В руке у него булыжник. Однако он растерялся, ищет цель. Злоумышленник — длинный, нескладный верзила, уши огромные, как у слона. Не верю своим глазам — да это, кажется, тот самый подлец!
— Тот самый с ножом? Маттисов Михель? — раздались возмущенные голоса.
— Дай сюда, покажи!
— Дай посмотреть! — попросил вахмистр и забрал бинокль. — Ей-богу, это и есть тот самый скользкий тип, безбородый мерзавец! — И, в гневе отшвырнув бинокль, он яростно набросился на Лёйтольфа: — Ну, вот вам и ваши дипломатические меры умиротворения! Что из всего этого вышло? Если бы мне разрешили действовать, он бы не стоял теперь под орехом с булыжниками, а лежал бы где-нибудь. И с костями у него не все было бы в порядке, так что пришлось бы опять кликать доктора.
— Ничего, так даже лучше, — спокойно ответил Лёйтольф. — Конрад Ребер ему уж за все сразу воздаст в полной мере.
Вахмистр сердито махнул рукой.
— Как бы не так! Конрад не тот, каким мог бы стать и каким мне его хотелось бы видеть. Мускулы у него, как у льва, нервы, как порох, а сердце, как у барышни. Сначала кажется, будто он способен кого угодно избить до полусмерти, а едва достигнет перевеса, всех отпускает. А такая подлая, коварная гиена, как Михель, не заслуживает никакой пощады! Милосердие к нему — просто слабость.
Сказав это, вахмистр повернулся и в раздражении ушел от товарищей, чтобы вышагивать в сторонке взад и вперед, бурча себе что-то под нос.
А тем временем бинокль шел по кругу. Одна только Катри отказалась от него, презрительно заявив:
— Мне не нужны никакие глазные протезы, я вижу вокруг и так намного больше того, что хотела бы видеть. — И вдруг радостно воскликнула: — Надо же! Именно этому я дважды смазала по роже в танцевальном зале! Вот только жаль мыла, которым после пришлось мыть руки. Знала бы, так заранее надела бы перчатки.
— Ура! Вон Конрад подходит! — восторженно крикнул кто-то. — Смотрите вон туда, в поле, вон он пробирается вдоль сарая.
— Он хочет схватить негодника сзади. — Браво, Конрад! — Теперь уж он его не выпустит из рук! — Да замолчите же! Спокойно, черт бы вас побрал! Сядьте! Слезайте со столов! — Скорей, скорей, Конрад! Давай, схвати его за горло! — Чего он там еще ждет? — Он остановился. Это просто непонятно! — Он размахивает руками, будто спорит с кем-то, а ведь он совсем один! Будто разума лишился! — Да он еще здесь был каким-то странным. — Наверное, какой-то недоброжелатель наговорил ему всяких гадостей, вот его и мучают эти мысли! — жестко произнесла Катри, посылая враждебный взгляд в сторону столовой.
— Да, конечно, теперь уже слишком поздно! Теперь долговязый его обнаружил. — Он бросает камень. Нет, просто взбеситься можно! — Да чего вы все сгрудились, словно стадо баранов? — Все равно! Теперь ему не убежать! — Наконец-то, наконец, слава Богу! Ура! Он его настиг! — Бей его, вали на землю! — Стойте! Да что же это? Конрад потерял шлем! — А тот, другой, катается по земле! — Нет, честное слово, невозможно смотреть! Господи, да он опять дал подлецу убежать! Баста, хватит! Дурацкая история!
— Ну, что я говорил? — рокотал вахмистр. — Прав я был или нет?
И сердитые, будто их кто-то обманул, все опять принялись пить, шумно чокаясь, чтобы забыть пережитое.
Одна только Катри застыла на месте, следя за происходящим. Через некоторое время она заметила:
— Мне что-то не нравится.
— Почему? В чем дело? Да он возвращается! Он уже на дороге.
— Да, но держится как-то странно.
— Вы же сами сказали, что его что-то постоянно тревожит.
— Нет, дело не в этом. Только бы он не получил серьезного ранения или чего-то в этом роде.
— Как бы не так! В танцевальном зале у него для этого было больше возможностей. Сильный Конрад Ребер и вдруг серьезное ранение! Притом от одного-единственного драчуна! Да еще от такого! Ну ладно, он сам обо всем расскажет. Глядите, он уже возле дома!
В этот миг Анна выглянула из столовой, бросила один взгляд на Катри, а другой на брата, побледнела и мгновенно выпрыгнула из окна.
— Конрад! Что с тобой? — запричитала она, обнимая брата. — Скажи, скажи мне! — И оттолкнула подбежавшую Катри.
Губы Конрада дрожали.
— Я получил ножевую рану, — прошептал он.
У Анны вырвался душераздирающий крик, напугавший всех присутствующих. Только музыканты продолжали пиликать.
Конрад заговорил снова:
— Я потерял шлем. Он лежит под орехом. Шлем я взял у Лёйтольфа. Сейчас я не могу есть, у меня нет аппетита. Где же мать? Я ведь не знал, что она была душевнобольной. Скажи ей об этом. Отец — чудовище, бессердечный, дикий зверь — вот кто он. Принесите же шлем, он не мой, он принадлежит Лёйтольфу. К сожалению, я не смог его поднять.
— Господин Ребер! — со слезами в голосе сказала Катри. Он обернулся к ней, но его смятенный взгляд бродил по ее лицу, будто по какому-то незнакомому предмету. И Катри, которую опять оттолкнула Анна, отошла в сторонку, к стене, устыженная, униженная, оскорбленная.
А тем временем сбежались возмущенные люди, за ними, запыхавшись, подбежал доктор.
— Где? — спросил он, ощупывая тело Конрада. И, обер-нувшись назад, приказал: — Прекратить музыку.
— Прекратить музыку! — повторило многократное эхо.
— Почему прекратить? — тихо спросил Конрад. — Почему вообще здесь так много людей? Почему все они уставились на меня? Чего им от меня надо? Пусть доктор уйдет, он причиняет мне боль. Анна, пойдем вместе домой, я не хочу быть один.
Произнеся эти слова, он мертвенно побледнел, а потом, выскользнув из рук доктора, рухнул на колени, будто поленница в жарком костре, и вытянулся на земле.
Анна бросилась к нему, непрестанно повторяла его имя, называла самыми нежными, ласковыми именами, лепеча, воркуя, напевая, исторгая все звуки, на какие был способен голос, призывая всеми заветными уголками сердца.
Народ благоговейно умолк, внимая этой ужасной мелодии.
А доктор упал на колени, выхватил из сумки инструменты, разложил на земле, внимательно пощупал пульс — сначала у запястья, потом, отстранив Анну, у сердца. Постепенно лицо его принимало озабоченное выражение. Наконец он медленно встал, пряча инструменты. И поскольку все смотрели ему в рот, ожидая ответа, он тихо пробормотал, говоря как бы самому себе:
— Тут уже, пожалуй, ничем не поможешь...
Анна услышала эти слова и все поняла. Лицо ее вмиг поблекло, она беззвучно опустилась на землю. Но, прежде чем кто-нибудь успел ее поддержать, она снова вскочила, обратив погасший взгляд в сторону дома:
— Ну, теперь вы довольны? — закричала она, словно хотела, чтобы звук проник сквозь стены. — Теперь он вас уже не огорчит! Теперь не даст ни малейшего повода для жалоб! Теперь он уже не будет слишком благородным! Не будет всезнайкой, не станет смеяться в неподходящее время, ваш многократно обруганный Конрад, бедный, бедный Конрад! — И опять упала на мертвое тело.
По толпе собравшихся пронеслось одно-единственное слово: «Мертв». Шепотом в передних рядах, приглушенными голосами в задних, с возмущенными и протестующими криками недоверия по сторонам.
— Что? Где? Кто? Хозяин «Павлинов»? — Да не старик, а молодой хозяин, лейтенант Конрад. — Да неужели? Этого не может быть! — Нет, просто бессмыслица какая-то!
Вдоль террасы стояли сбежавшиеся люди. Кельнерши в первых рядах тихо плакали, закрыв лицо руками, словно хотели заслониться и не видеть ужасной правды.
— Нет, этого быть не может! Как же так? — Никогда бы не видеть такого! Бедный хозяин! Он был такой добрый такой душевный! Господи Иисусе! Не дай Бог увидеть такое отцу и матери!
Стоя у стены, Катри с покрасневшим лицом отрешенно смотрела в пустоту. Губы ее дрожали.
— Самый лучший, честный, благородный человек на всем белом свете, а убит последним подлецом!
Произнося эти слова, Катри от возмущения все сильнее пинала ногой стену. Пальцы ее судорожно дергали за пояс фартука, пока он не порвался.
Недалеко от Катри, тоже у стены, в стороне от остальных людей, собрались пожарники, окружив вахмистра, который что-то вполголоса втолковывал им. Тем, кто присоединялся к пожарным, что-то шептали на ухо, потом союзники обменивались мрачными взглядами и крепкими рукопожатиями, словно давая клятву.
Очевидно, составлялся какой-то заговор.
Возникло движение, образовался живой коридор. Задерживаемый сочувствующими, которые увещевали его, по коридору с трудом двигался старый хозяин «Павлинов», словно гусеница, тащившая на себе груз напавших на нее мучителей-муравьев.
— Пустите меня! — задыхаясь, кричал он. — Пустите меня к сыну! Я хочу к своему сыну!
Он протестовал против смерти, как против приговора кантонального суда, утверждая свою правоту и демонстрируя благие намерения.
— Мне ничего больше не нужно. У него теперь есть все, чего он хочет! — Но когда старик увидел дочь, обнимавшую мертвое тело брата, он затряс головой, будто бык.
— Он всю жизнь, вечно причинял мне одно только горе.
Анна медленно повернула к отцу свое лицо, которое
горе и верность в любви озарили неземной красотой:
— Взгляни, отец, вот что стало с нашим Конрадом! — нежным, покорно-певучим голосом произнесла она, превозмогая муку.
Старик с силой вырвался и поковылял к телу. Он хотел броситься на землю, но опухшие суставы не повиновались. На толстых неуклюжих ногах он топтался перед мертвым сыном, как подстреленный слон. Вдруг он яростно толК' нул в грудь доктора и взревел:
— Оживить! Снова вернуть к жизни!
Доктор повернулся к нему с торжественным видом верховного жреца.
— Оживить, к сожалению, не в нашей власти!
Катри обронила язвительным тоном:
— Да, теперь слишком поздно оживлять!
Подбежала Анна и метнула в Катри острый, как копье,
взгляд.
Пока напрасно пытались увести старика, его буйство внезапно перешло в жалобное хныканье. Он заметил жену, которая скорее выползла, чем вышла из-за угла дома со стороны деревни. Ноги ее подгибались, она держалась за стену.
— Неужели это правда? — кричал ужас в ее погасших глазах.
А когда страшную истину ей подтвердило скопление народа вокруг некоего невидимого места и тень беды, падавшая оттуда на все лица, мать судорожно вцепилась в камень, чтобы удержаться на ногах.
Анна побежала ей навстречу. Следом за ней тяжело двинулся старик, которого перегнали прислуга и соседи.
Мать упала на чьи-то руки.
— Конрад! — пронзительно крикнула она. — За что ты мне это причинил?
Люди, стоявшие вокруг, смущенно переглядывались. А Берта шепотом сказала Катри:
— Кажется, хозяйка думает, будто он сам наложил на себя руки.
— Совесть нечиста, — с горечью ответила Катри.
Она произнесла эти слова громко и категорично. И опять Анна взглянула на нее, на сей раз угрожающе.
Старик же благоговейно склонил голову перед материнским горем.
— Я отдал ему все, чего он требовал, я не могу понять — У него не было ни малейших причин. Должно быть, в драке его ударили ножом.
Доктор, Лёйтольф и другие взяли хозяйку «Павлинов» под руки и повели к двери дома мимо тела сына, которое заслонили собой. Отец, что-то бормоча, плелся следом, Анна сбоку следила за обоими. Шествие напоминало похоронную процессию.
— Я должна проститься с ним, я должна попросить у него прощения! — причитала хозяйка «Павлинов».
— Да, теперь у нее есть причина для причитаний и вздохов! — невольно воскликнула Катри.
Анна оторвалась от родителей и бросилась к ней:
— Бездушная, бессердечная женщина! Твердокаменная эгоистка! У вас, у вас одной он на совести! Вместо того чтобы удержать Конрада, вы его еще и подначивали!
Катри хладнокровно смерила противницу ненавидящим взглядом:
— Несчастье в доме все же лучше, чем преступление!
— Что вы имеете в виду? — вне себя от негодования крикнула Анна.
— Я считаю, — твердо произнесла Катри, — что, если это должно было случиться, лучше все-таки от чужой руки, чем... — И она запнулась.
— Чем? — требовала Анна. — Чем? — А потом вдруг закричала: — Прочь отсюда! Лицемерка! Интриганка! Охотница за мужчинами! Вон! Вон сию же минуту! Я как дочь хозяина дома приказываю вам, служанке, вон из «Павлинов», притом немедленно!
Катри надменно выпрямилась:
— Я решительно протестую против того, чтобы меня ^выгоняли с руганью и позором, как негодную служанку, будто я что-нибудь украла. Неправда, что меня привели сюда какие-то эгоистические намерения. И никто не имеет права увольнять меня, продержав до отхода последнего поезда. Впрочем, ладно, я ничего не имею против, ладно, я уйду. Но не потому, что вы приказываете — у вас на это нет права, а добровольно, потому что меня тошнит от этого оставленного Богом дома, где царят ненависть и распри. Пусть вас терзает раскаяние! Перекладывайте вину друг на друга! Я уйду, но скажу одно: это ваша вина, только ваша, а не моя. Если бы ему здесь постоянно не отравляли жизнь, никто бы не смог ему ничего причинить. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Если бы это не случилось сегодня, то завтра или послезавтра случилось бы все равно.
Сказав это, Катри гордо закинула голову и прошествовала в дом, в каморку швейцара. Там она надела соломенную шляпу, поправила ее перед зеркалом и собралась уйти, но повариха Лизабет преградила ей путь.
— Возьмите ваше жалованье, — ледяным голосом напомнила она, небрежно протягивая золотой.
Катри взвилась от возмущения, хотела оттолкнуть руку» но потом опомнилась:
Жалованье я честно заслужила усердным трудом. Мне нечего стыдиться. Это не подарок. — Она взяла деньги и пошагала к двери на террасу.
Выйдя во двор, Катри громко произнесла:
— Призываю Бога и свою совесть в свидетели. Со мной обошлись несправедливо, я не заслужила такого позорного обращения.
В это время мимо нее в дом проносили тело Конрада. Носильщики заслоняли туловище, и Катри отвернулась, охваченная болью и ужасом. Тем не менее взгляд ее невольно скользнул по сапогу на левой ноге, каблук которого волочился по земле, и она тут же мгновенно вспомнила, как принесли домой ее брата Баши. Охваченная страданием, Катри потеряла выдержку. Безмерная жалость исторгла из ее груди сдавленное рыдание. Она прошла сквозь толпу гордая и прямая, как всегда, ни на кого не глядя и ни с кем не попрощавшись.
Потрясенные люди пропускали ее со смешанными чувствами — восхищаясь и ужасаясь, сочувствуя и проклиная. С одной стороны, ее уход был похож на расправу, с другой же казалось, будто она идет прямым путем с сознанием своей невиновности и суд людской ее не касается.
Жозефина и Берта поспешили за ней.
— Не воспринимайте все так буквально! — утешала Жозефина. — Нельзя все понимать дословно.
— Не надо мерять такой строгой меркой, — увещевала Берта, — надо же посочувствовать горю сестры.
Остальные кельнерши смотрели холодно и безучастно.
Катри неудержимо стремилась вперед. Возле деревянного сарая она осталась одна. Одиночество было холодным и безутешным, огромным, безмерно огромным и пустым, до отчаяния пустым, словно она затерялась где-то в вечности.
Возле кегельбана ей повстречались два бестелесных образа. Руки их сплелись, прекрасные лица сияли счастьем и надеждой: она и Конрад. Это видение смягчило ее душу, которую бесконечная, неистовая боль хотела повергнуть оземь, на священный клочок земли, где совсем недавно они посадили древо своего союза, украсив веселыми вымпелами и флажками. Словно сотней сильных рук удерживала ее природа, чтобы на этом священном месте она покорно, тоскливо и страстно выплакала свое горе. Но гордость не позволяла Катри согнуться, а упрямство гнало прочь отсюда. Она заплакала, уткнувшись лицом в ладони.
И как раз в тот миг, — всхлипывала Катри, — когда думаешь, когда веришь, что счастье...
Потом она погрузилась в сумерки, быстрыми равномерными шагами пошла вдоль виноградника, наполняя все вокруг низкими грудными звуками своего печального плача. Но вскоре из боли родился гнев. «Зачем было приходить, разыскивать меня и упрашивать, чтобы я оказала любезность?! Мне прекрасно работалось в лечебнице. Там меня чтят и умеют ценить. Да если бы я хотела, если бы хоть как-то дала понять! «Интриганка! Охотница за мужчинами!» Кто? Я? Я вовсе не стремлюсь пролезть в хозяйки. Стоило пожелать, и я бы получила все на тарелочке, да еще и получше, чем в «Павлинах». Мне не нужно подлавливать мужчин, они сами себя предлагают мне. Но разве я в этом виновата? Я вовсе не из тех, кто идет им навстречу. Мне нужен только один-единственный, который будет мне мил и которого я стану уважать. И у меня, как у всякой другой, есть на то священное право. Конечно, она всем распоряжается, имеет права и полномочия, может запретить мне переступать порог дома, хотя стоило мне сказать всего одно словечко, и он бы представил меня всему народу как свою невесту, ведь он же собирался это сделать! Посмотрела бы я тогда, кто запретил бы мне занять подобающее место у тела жениха! Я не смею даже увидеть его и дотронуться до него, не могу поцеловать в бледные губы в первый и последний раз! Ладно, обручились мы или нет, на свете есть правда и верность. Слово есть слово — сказано ли оно публично или с глазу на глаз. А когда двое порядочных людей дали друг другу слово, то оно сохраняет свою силу и без кольца, свидетелей, священника или чиновника. Он дал мне обещание, а это значит, что он принадлежит мне на вечные времена, мертвый или живой. И никакой другой он не принадлежит, какого бы смешного идола она из него ни делала! То, что он под конец не узнал меня, вовсе ничего не доказывает. Ведь это же понятно! У того, кто борется со смертью, борьба поглощает все силы, и дух не может отвлекаться ни на что иное».
Тут ее опять охватил новый приступ горя, так что она громко застонала. Вдруг Катри остановилась и повернулась лицом к «Павлинам».
— А впрочем, разве она обручена? — Катри с силой стиснула губы, не давая злому слову сорваться с языка. Но не смогла удержаться:
— Если бы одна особа знала, какие глазки строил мне некий доктор! — Катри пошла дальше. — Я просто снова вернусь в водолечебницу, — решила она.
Внизу у склона, где херрлисдорфские виноградные лозы спускались к рубистальским скалам, из виноградника вслед ей прозвучало насмешливое хихиканье.
Безусловно, это были ваггингенцы, ибо только враг может радоваться чужому горю. Катри моментально повернулась и обрушила на тех, кто был в винограднике, проклятия:
— Позор вам, богооставленные убийцы! Пусть каждого из вас в смертный час душит совесть, вам наверняка не миновать ада. Я не молюсь о том, чтобы вас убил гром небесный, ибо молния Господня слишком чиста для таких вонючих удодов, как вы. Неужели это мужчины? Это кривое, уродливое, ублюдочное отродье, эти кастраты, трусливые, бессильные, хилые, безголосые? Ну ладно, довольно. Я своими глазами видела, как он его ударил ножом, знаю, кто ударил, и вместе со мною это знают другие. Убийца известен, его назовут по имени. Это Маттисов Михель из Нижнего Ваггингена, и никто иной. Я дала ему по роже в танцевальном зале, я покажу на него пальцем на суде и скажу: это ты. И я подтвержу это клятвой. А если семья убитого не захочет подавать в суд, я сама обвиню убийцу, пойду к прокурору и не отступлю, пока не добьюсь суда и кары. А если прокурор не захочет, я заставлю его выполнить свой долг при помощи государственного советника и газеты.
Когда после этих слов мимо нее пролетел булыжник, Катри в два прыжка перескочила через невысокую каменную ограду, вырвала подпорку от виноградной лозы и погрозила нападавшим с таким видом, как грозят собакам.
— Эй, вы там! Я всего лишь слабая девушка, но если нужно будет, то пойду против такого сброда, как вы. — Потом, постояв какое-то время с вызывающим видом, Катри с презрительной миной отбросила подпорку и пошла своей дорогой вдоль железнодорожной насыпи к вокзалу.
За ее спиной послышалось шарканье ног, кто-то похлопал пальцами по ее плечу. Несмотря на темноту, она узнала верхневаггингенского адвоката.
— Катри или как вас там! Вы отдаете себе отчет о степени ответственности, беря на совесть такую клятву? — промямлил он.
— Конечно, — насмешливо ответила Катри, не замедляя шага. Адвокат дернул ее за юбку.
— Но ведь у вас доброе сердце. Вы же не станете зря накликать беду на человека, который, быть может, скорее из юношеской запальчивости... — и адвокат показал большую блестящую пятифранковую монету. Но Катри так толкнула его локтем под дых, что монета зазвенела, прыгая по каменистой дороге, после чего адвокат с руганью отстал от нее, чтобы разыскать в темноте свои деньги.
На железнодорожном переезде Катри перешагнула через закрытый шлагбаум.
— Эй, стой, стой! — возмущенно крикнул сторож, — вон поезд идет!
— Ну и пусть! — коротко бросила Катри и оказалась уже по другую сторону путей.
На вокзале было довольно много народу. Вид у всех был торжественный, как на похоронах. Все разговаривали вполголоса, ужасались происшествию и жадно ожидали новостей. Хотя «Павлины» были отсюда не целиком видны, да к тому же усадьба погрузилась в сумерки, люди все-таки продолжали смотреть вверх, на гостиницу, собравшись в зале ожидания и осуждая местные нравы. Приход Катри стал новым поводом для перешептываний, а когда глаза всех присутствующих устремились в ее сторону, ей почтительно уступили место.
Начальник станции вежливо снял перед ней фуражку.
— Неужели это в самом деле правда? — осторожно спросил он.
Катри не сдержалась.
— Да, правда то, — крикнула она, — что лучшие в этом мире погибают, а худшие оказываются победителями.
Нойберша, хозяйка станционного трактира, нежно взяла ее за руку.
— Не лучше ли выйти из толпы, пока придет ваш поезд? Ждать еще не меньше четверти часа.
— Поезд номер двенадцать и без того уже опаздывает на двадцать две минуты, — вежливо добавил начальник.
— Пойдемте, — настаивала Нойберша. — Посидите немножко, вам надо успокоиться.
Катри позволила увести себя через дорогу в садик, в беседку.
— Здесь вам совершенно никто не будет мешать, — утешала Нойберша. — Вы, должно быть, убедились, что у нас тут все просто ужасно по сравнению с вашей благородной водолечебницей.
Но Катри молчала, недовольно сморщив нос. В беседке, стоя на коленях, положив руки на скамейку и уткнув в них растрепанную, косматую голову, всхлипывала женщина в измятой юбке. Плакала она так, словно ей навсегда был заказан путь в царство небесное. Нойберша принялась толкать и трясти ее, помогая подняться; потом дала пинка ногой.
— Юкунда, встань же наконец! Ты своим глупым ревом не сможешь его воскресить!
Юкунда не обращала внимания на тряску и пинки. Тело ее раскачивалось из стороны в сторону, а всхлипы превратились в горестный вопль.
Поняв свое бессилие, Нойберша оставила ее в покое.
— Не обращайте на нее внимания, Христа ради, — со вздохом попросила она. — Это же Юкунда. Даже у неразумной скотины и то больше ума.
Катри села на краешек скамьи, взглянув на Юкунду как на что-то нечистое.
— Может, подать вам рюмочку вина? — пыталась по-дольститься Нойберша.
— Нет, спасибо.
— Тоща, может, поставить свечу? Уже заметно стемнело.
Катри отказалась.
Скрестив руки, Нойберша молча застыла на месте, лишь время от времени вздыхая.
— Ох и тяжелое же выдалось это воскресенье! — пожаловалась она. — О нем еще, наверное, целые годы будут вспоминать и не только в Херрлисдорфе, но и во всем округе.
А потом принялась вкрадчиво выпытывать:
— И как это все случилось?
— Все выяснит суд! — резко ответила Катри, сразу отбивая всякую охоту к расспросам.
Нойберша почесалась от нечего делать. Потом опять взялась за свое:
— А что сказал об этом отец, старый хозяин «Павлинов»? А хозяйка? Она же и без того все видит в черном свете! А сестра, красавица Анна, которая разве что не молилась на своего Конрада? Теперь это дело с доктором Индервилером, ну, обручение, придется, видно, надолго отложить...
Но так как Катри упорно молчала, Нойберша повернулась, сделав вид, будто собирается уйти, но не смогла пересилить себя: она сгорала от любопытства. А когда ребенок, маленький Конрад, проковылял по садику на неуверенных ножках, она взяла его на руки и сказала, с сожалением показывая в сторону «Павлинов»: — Вот, детка, помнишь того красивого дядю, который сегодня перепрыгнул через шлагбаум? Так он умер.
Услышав эти слова, Юкунда пронзительно закричала, словно поросенок под ножом, а Катри искоса посмотрела на нее, испепелив своим враждебным взглядом. И только мальчонка лепетал на руках:
— Тпру, тпру!
Наконец Нойберша собралась уходить, хотя и с явной неохотой.
— Я вас позову, когда придет ваш поезд.
Едва Юкунда заметила, что осталась с Катри наедине, она, не поднимая головы, протянула к Катри свою зареванную руку с растопыренными пальцами. Поймав руку девушки, она судорожно сжала ее — так родственники у тела близкого человека выражают общую боль, если слова бессильны. Вне себя от отвращения, Катри вырвалась, встала и, вытирая носовым платком места, которых коснулись пальцы Юкунды, возмущенно бросила:
— Я этого не потерплю!
И еще дальше отодвинулась от Юкунды, сев на самый краешек скамьи. Но чтобы впредь избежать подобных вольностей, Катри сказала подчеркнуто строго:
— Я не люблю, когда со мной фамильярничают незнакомые люди.
Юкунда не обиделась на оскорбительное обращение, но покорно подняла свое мокрое от слез лицо.
— Так, значит, вас он любил! — произнесла она восхищенно, с раболепием.
— Вас это не касается! — сказала Катри.
Юкунда снова положила голову на руки.
— Вон там, за тем столом, он сидел, — рассказывала она в промежутках между приступами плача. Потом показала свою пораненную руку, но из-за слез не в состоянии была хоть что-нибудь объяснить.
— Ох, если бы я не дала ему уехать! — всхлипывала она. — Почему я была такой холодной! Такой сдержанной и неприступной! Почему не бросилась за ним вслед, не догнала, не стала поперек дороги и не схватила за колени?! Теперь он сидел бы в саду, живой и здоровый. Ушел, не попрощавшись! О Господи! — Она билась головой о руки.
А он еще оглядывался на меня, а я так и не появилась! Ох! — Она взлохматила волосы и вела себя, будто безумная.
Потом Юкунда умолкла, только беспрестанно плакала. Казалось, ни одно существо не способно плакать жалобнее. И все же всякий раз, когда она устремляла свой растерянный взгляд в сторону «Павлинов», белые стены которых еще виднелись в сгустившихся сумерках, словно открывались все новые и новые шлюзы ее горя. Слезы и вздохи стали еще горестнее и безутешнее, а ее растопыренные, широкие, грубые пальцы опять пытались найти руку Катри. Так зверек с подрубленной лапкой протягивает вперед свой обрубок, но потом снова боязливо отдергивает его, потому что понял: там ожидает боль.
С важным видом бодро подошла Нойберша.
— Вы уже слышали? — задыхаясь от волнения, спросила она. — Они еще раз сошлись в драке, ваггингенцы и вальдисхофские пожарники. За виноградником, в рубистальских скалах. Будто бы вальдисхофцы прошли лесом и отрезали ваггингенцам путь. Вальдисхофцы вели себя совсем неразумно, словно дикие звери, а не люди, особенно Кристиан, вахмистр. Это ведь тоже неправильно! Ваггингенцы ведь тоже люди, хотя и чересчур задиристые и шумные. Они же молодые! По крайней мере, когда они заглядывают к нам, никогда не дают повода на них жаловаться. Несколько человек остались лежать в винограднике. Верхневаггингенского адвоката отвезли домой на телеге, а Маттисова Михеля пришлось отнести в Херрлисдорф. Вряд ли он теперь поднимется.
— Вот и поделом, меня это радует, — заметила Катри.
В этот момент затрепетал воздух и задрожала земля.
Раздался сигнал, и со свистом и шумом из мрака выкатилась черная бесформенная масса с красными глазами, мгновенно приобретая гигантские размеры, словно вырастая из земли.
— Пришел ваш поезд, — напомнила Нойберша. Катри поспешно встала, бросив на ходу «спасибо».
— Вы собираетесь меня покинуть? — запричитала Юкун- Да. — У меня больше не будет никого на свете, кто бы меня хоть немного понял и утешил!
В тот миг, когда Катри спешила через дорогу, на бесшумных колесах под звон колокольчика и дробный стук копыт лошади быстро подъехала пролетка.
— Конрад еще в трактире или уже дома? — благодушна
крикнул Бенедикт.
Катри не стала задерживаться и отвечать, а побежала к станции, где как раз затормозил поезд.
Колеса еще не совсем остановились, как уже отовсюду послышались взволнованные возгласы и расспросы:
— Вы уже знаете? Что? Где? Когда? Не может быть!
Но начальник станции закричал любопытным:
— Сейчас не время для расспросов! Поезд и без того опоздал больше чем на полчаса. Выходите, кто хочет выходить, и поднимайтесь, кому ехать дальше! — сказав это, он, как одержимый, ударил в вокзальный колокол.
Последовало беспорядочное движение людей в проти-воположных направлениях.
— Где третий класс? — добивалась Катри.
— В третий класс подниматься сзади, — грубо ответил кондуктор. — Да поскорее!
— Третий класс, — повторила она, когда, совсем запыхавшись, добежала до заднего вагона. Кондуктор яростно крикнул ей:
— В третий класс заходить спереди!
— В свином хлеву и то больше порядка! — возмущенно ответила Катри.
После этого между кондукторами разразилась перебранка, а Катри властно потребовала машиниста.
Возмущенный задержкой отправления поезда, к ним поспешал начальник станции. Узнав Катри, он сам вежливо проводил ее в купе первого класса.
— Все, отправляйтесь! — проворчал он.
Раздался пронзительный свисток машиниста.
Стрекотали кузнечики, перемигивались звезды. Тяжелый состав, глухо стуча колесами, медленно проехал мимо Лисси, которая нетерпеливо вытянула ноздри через шлагбаум, жадно вдыхая знакомые запахи родного дома. Поезд прогромыхал в сторону водолечебницы мимо станционного трактира, где в ночной черноте раздавались безутешные причитания Юкунды.