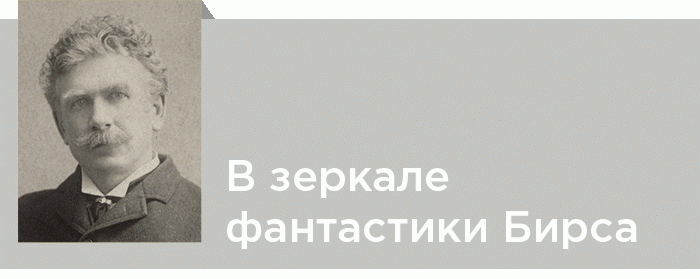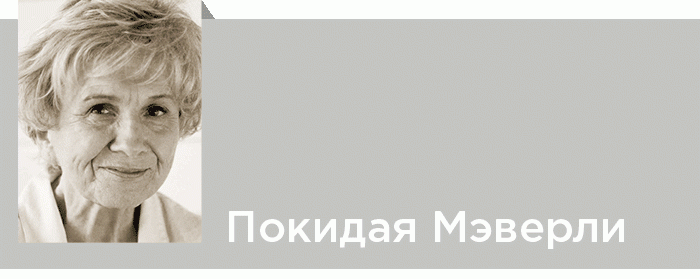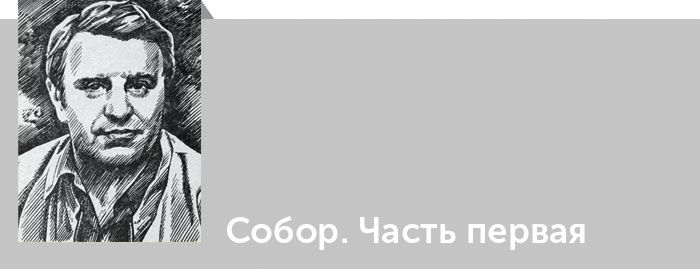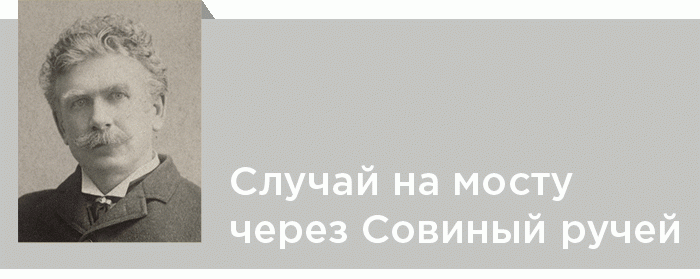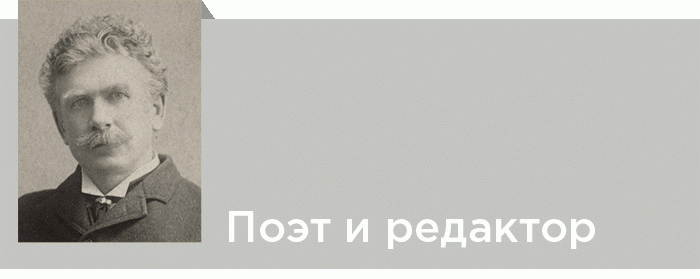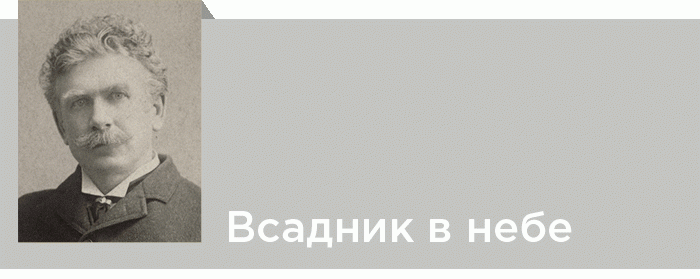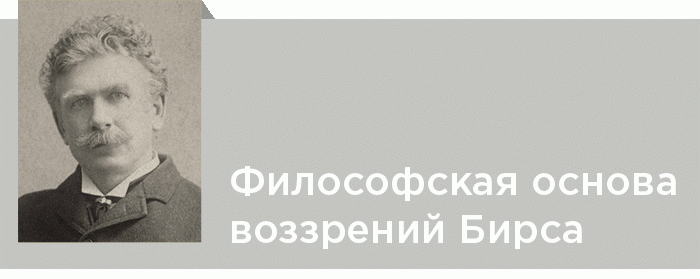Сан-Франциско и Амброз Бирс
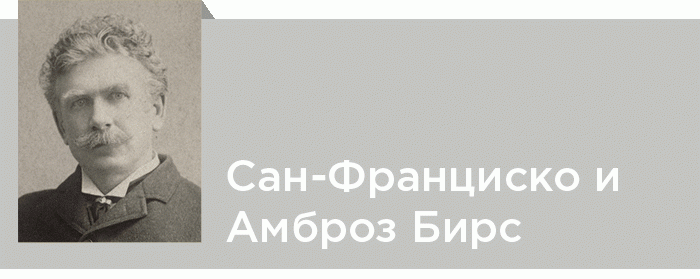
Ван Вик Брукс
Интеллектуальным деспотом Сан-Франциско в 1890-е годы, - строгим и педантичным законодателем литературного мира был Амброз Бирс, человек холодного, ироничного ума и надменного нрава, большой поклонник Вольтера и Свифта. Им был написан «Словарь сатаны», своего рода «блокнот циника», в котором сухим винам отдавалось предпочтение перед сладкими, рассудку — перед чувствами, остроумию — перед юмором и где «удовольствие» характеризовалось как «наиболее приемлемая разновидность зеленой тоски», а «терпение» — как «ослабленная форма отчаяния, замаскированная под добродетель». Бирс во всеуслышание сравнивал Сан-Франциско с «исправительной колонией нравов», Содомом и Гоморрой современности и призывал обрушить залп «самой крупной картечи» на головы своих врагов лицемеров и мошенников, а также бесчестных политиканов и владельцев Южно-Тихоокеанской железной дороги, которая в то время «владела» всей Калифорнией. Этот железнодорожный гигант, нареченный впоследствии «спрутом» в романе Фрэнка Норриса, полностью контролировал законодательное собрание штата и его полицию, журналистов и судей. Его наемники терроризировали фермеров и сельскохозяйственных рабочих, но Бирсу, который совершил поездку в Вашингтон, чтобы принять участие в слушании дела против Саут-Пасифик, удалось положить начало процессу, в конце концов сокрушившему могущественную монополию. При этом Бирс вовсе не был другом рабочих и его взгляды могли бы в ту пору показаться «реакционными». Он считал, что женщины «должны знать свое место», и всей душой презирал «чернь». Бесстрашие сочеталось в нем с редкой бесцеремонностью; фразы типа «Фрэнк Пиксли врет как обычно» часто слетали с его языка, а своих противников он именовал не иначе как шимпанзе и стервятниками. На калифорнийских журналистов Амброз Бирс в полном смысле слова наводил трепет.
Бывший офицер армии северян в Гражданскую войну, Бирс приехал в Сан-Франциско в 1866 году из Омахи, где он служил инженером-топографом. По пути на Запад в сопровождении знаменитого Джима Бекуорта, который сохранил в памяти немало историй из области индейского фольклора, Бирс первым нанес на карту многие пограничные блокпосты и поселения на всем необозримом пространстве Северной и Южной Дакоты и Монтаны. Со своей солдатской выправкой и жесткой щеткой усов Бирс действительно походил на первопроходца-скаута; вскоре с тем же упорством и безрассудной храбростью он, уже став журналистом в Сан-Франциско, вступил в борьбу с многочисленными врагами. Вначале Бирс вел в различных газетах колонку обозревателя под заголовком «Шутейный лепет», но к 1888 году, 46 лет от роду, когда начали печататься его рассказы о Гражданской войне, он успел превратиться в титана, окруженного пигмеями, непререкаемого оракула в литературных кругах на всем западном побережье Соединенных Штатов.
И в самом деле, в 90-е годы никто в Сан-Франциско не дерзнул бы бросить вызов Амброзу Бирсу, ибо время Норриса еще не пришло, а Джек Лондон был тогда еще непутевым сорванцом, рассказавшим впоследствии историю этих лет в «Мартине Идене». Лишь в 1884 году появилась в печати первая книга Джона Мюира, который писал свои дневники и рассказы пером из крыла орла, подобранным на берегу реки Йосемите, и много лет прожил в горах Сьерры-Невады, прежде чем переселиться на берега Сан-Францисского залива. Что касается Жоакина Миллера, то он был весь в прошлом, грезя о тех днях, когда Брет Гарт, о котором все уже забыли, занимал калифорнийский литературный престол, доставшийся ныне по наследству Амброзу Бирсу. В конце XIX века Брет Гарт жил в Англии и, как всегда, много писал, но публика предпочитала ему Стивенсона, который как-то наездом провел в Сан-Франциско всего-навсего несколько недель. Городу, однако, полюбился заезжий англичанин; ему воздвигли памятник и переименовали в честь одной из его книг близлежащий островок, а Брет Гарт, певец Ревущего Стана, так и остался в безвестности. Редьярд Киплинг, который наряду с Норрисом и Бирсом очень многое воспринял от Брет Гарта, называл Сан-Франциско «святой землей» и одновременно был поражен равнодушием его граждан к знаменитому писателю, чье имя навсегда осталось связанным с Калифорнией.
Противореча собственной репутации несдержанного в выражениях журналиста и общественного деятеля, Бирс сочинял свои рассказы, сознательно стремясь к элегантности и изяществу стиля, сурово выговаривая своим соперникам не только за их фактические и логические ошибки, но и за погрешности в грамматике и слоге. Этот вкус к словесным баталиям Бирс вывез из Лондона, где провел три-четыре года в среде журналистов, привыкая к таким нелестным характеристикам конкретных лиц, как «убийца» и «кочан капусты». Его коллегам с Флит-стрит то и дело приходилось спасаться бегством от обвинений в диффамации, но Бирсу эти годы сослужили хорошую службу: он познакомился с капитаном Майн Ридом, столько раз воспевавшим в своих романах американские прерии, и снискал себе репутацию одного из самых оригинальных писателей-юмористов с Дальнего Запада. Первым из всех американцев, завоевавшим популярность в этом качестве среди англичан, был Артур Уорд, а затем образовалось как бы трио в составе Амброза Бирса, Жоакина Миллера и Марка Твена.
В Лондоне Бирс напечатал три небольшие книжки, составленные из всевозможных заметок, очерков и побрехушек из жизни рудокопов и золотоискателей в западных штатах. Другим его литературным занятием было издание недолговечного журнала в защиту интересов бывшей французской императрицы, супруги Наполеона III, Евгении Монтихо, проживавшей после 1870 года в Англии. Однако по-настоящему Бирс выучился писать лишь благодаря общению с английскими литераторами и художниками, ибо, получив очень скромное образование, он долгое время выражал свои мысли весьма неуклюже и прямолинейно. Уже став неофициальным главой целой школы последователей, Бирс формулировал свои эдикты на языке, очень близком фразеологии воинского устава, и находил в этом истинное удовлетворение. С другой стороны, его, как всякого запоздалого самоучку, привораживали редкие и вычурные выражения типа «интерцеребральная атаксия» или «микроцефальные библиоманы». Гордясь своим вкладом в «сокровищницу британской славы», Бирс на всю жизнь остался англофилом, и, признавая, что республиканская атмосфера в Соединенных Штатах «противопоказана королям и аристократам», он вместе с тем во многих своих привычках ж суждениях оставался закоренелым тори. Долгое время по возвращении в Сан-Франциско он, можно сказать, чувствовал себя, словно очень большая лягушка в слишком мелком пруду.
Обстоятельствами рождения Бирсу была уготована судьба простого землепашца, о чем сам он потом вспоминал с нескрываемым чувством отвращения. Вскоре после рождения сына, в 1842 году, его родители перебрались из маленького поселка штата Огайо в штат Индиана и поселились на «малярийной ферме» вблизи «заросшего и грязного пруда», как много лет спустя Бирс писал в одном из своих стихотворений. С ранней юности острую неприязнь вызывало в нем не только убожество жизни в глухой провинции, но и религиозная атмосфера, в которой его воспитывали, и вольнодумство Бирса — равно как и Роберта Ингерсолла — соответствовало умонастроениям, распространившимся в то время по всему Среднему Западу. Отслужив волонтером все пять лет Гражданской войны, Бирс решил не возвращаться под родительский кров и до конца своих дней сохранил презрение к так называемым писателям «от сохи», которым он всегда рекомендовал заниматься своим «прямым делом», то есть земледелием, а не литературой. Ему были чужды «взращенный на кукурузе» энтузиазм Хемлина Гарленда, «поэзы тыквенного поля», выходившие из-под пера Джеймса Уинстона Райли, и, наконец, тот самый «язык безграмотной деревенщины», будто бы лучше всего служивший цели выражения «нутряных побуждений и чаяний крестьянина в Америке». «Труженики хлева и конюшни» были лишены в его глазах всякого обаяния.
Горечь воспоминаний о жизни на ферме в кругу «неумытых дикарей» (так отзывался Бирс о своих родителях) распространялась и на память о более поздних временах, когда он, уже юношей, работал на кирпичном заводе и учился ремеслу наборщика в Варшаве, штат Индиана. Это был тот самый «чудо-городок», расположенный в излучине реки и окруженный озерами, что тридцать лет спустя так пришелся по душе Теодору Драйзеру и его матери, набожной менонитке. Восторженность Драйзера лишний раз оттеняет в наших глазах душевную муку Бирса, навсегда порвавшего все родственные узы и в написанных позднее рассказах излившего печаль и разочарование этой порой своей жизни.
Жестокий и мрачный колорит новелл Бирса, несомненно, имеет своим источником многие факты биографии писателя; так, разрыв с женой и сыном был причиной появления в его окрашенных могильным юмором новеллах фигур маньяков, с необычайной легкостью расправляющихся со своими близкими: родителями, женами и прочими родственниками. Но складывавшийся таким образом «иронический стиль» был всего лишь маской впечатлительного и легко ранимого человека, а что касается знаменитого бирсовского цинизма, то он обязан своим возникновением отнюдь не только обстановке в Сан-Франциско, этом «райском местечке для невежд и оболтусов». Вначале Гражданская война подорвала идеализм романтически настроенного волонтера, а последовавшие за ней годы бесчестных спекуляций и коррупции окончательно лишили его последних иллюзий. Неся службу в федеральных войсках, расквартированных в Алабаме, Бирс был вынужден способствовать беззакониям, творимым новоявленными наместниками, а перебравшись позднее в Луизиану и непосредственно наблюдая за самоуправством Бена Батлера, он уже не мог не сожалеть о том пыле, с которым некогда сражался за дело северян.
Война Севера и Юга была для Бирса прежде всего борьбой за освобождение рабов, и в качестве военного топографа он участвовал в сражениях при Чикатоге и Мерфисборо, был тяжело ранен под Кинсо-Маунтин. Особенно запомнилось Бирсу его боевое крещение в длившейся пятнадцать часов кряду битве при Шейло, отзвуки которой слышны во многих из его военных рассказов. В «Отрывках из автобиографии» он пишет о том особом впечатлении, что производят на человека, выросшего среди равнин Среднего Запада, красоты девственной природы гористого штата Западная Виргиния. Вместе с товарищами в немом восторге взирал он на сосновые рощи, заросли ели и лавра, и каждый холм, даже пригорок, получал у них гордое наименование «пика». Остроконечные утесы, устремленные в бездонную голубизну, — неотъемлемая часть ландшафта в новеллах Бирса (вспомним хотя бы «Небесного всадника»), а их «звуковой фон» складывался из шумов и шорохов ночного лагеря, ставшего биваком в чаще населенного призраками леса, пения незнакомых лесных птиц, жалобного писка зверьков в стычке с внезапно подкравшимся врагом, шуршания опавшей листвы — то ли пробежала мышь, то ли прокралась пантера. Клочья тумана, окаймлявшие опушку леса, исчезали с восходом солнца или с первыми каплями дождя, который щедро поливал трупы солдат с лицами цвета глины, разбросанные вдоль проезжей дороги. Подчеркнутой реалистичностью деталей Бирс соперничал со Стивеном Крейном. «Рассказы о военных и штатских» (другое название сборника «В гуще жизни») служат тому особо наглядным примером.
В своих ранних зарисовках жизни калифорнийских рудокопов Бирс находился под влиянием Брет Гарта, которого он хорошо знал в 60-е годы по Сан-Франциско, но его подлинным кумиром был «величайший из известных нам американцев» Эдгар По, личность более замечательная в глазах писателя, нежели Линкольн и Вашингтон. Бирс многому учился у По, но в особенности — искусству композиции и лаконизму. Предпочитая игру воображения наблюдениям над повседневностью, он считал, что романтика составляет «важнейшую и неизменную» особенность художественной прозы, в то время как реалистический роман — явление «случайное и преходящее». Бирс презирал «мисс Нэнси Джеймс», а в особенности — «мисс Нэнси Хоуэлле», в творчестве которого он видел лишь подобие репортажа и возводимое в добродетель отсутствие поэтического воображения. «Даже малоинтересное в жизни становится интересным в литературе» — эта мысль Хоуэллса, считавшего, что развитие реализма проистекает из усиления интереса людей к жизни друг друга, оставалась чуждой мизантропически настроенному Бирсу, для которого, по его словам, существовал лишь «золотой круг искусства... свет и тени страны-фантазии». Именно таким был мир любимых Бирсом арабских сказок «Тысячи и одной ночи», но сам он теснее, чем кто-либо из американских писателей после По, примыкал к направлению «фантастического реализма», если использовать выражение Достоевского. Ибо что может быть реалистичнее, чем некоторые из батальных сцен в рассказах Бирса (несмотря на их известную подчас мелодраматичность), а также описания лесов Огайо и Теннесси, Камберлендских круч или гор Западной Виргинии. Но у Бирса была и еще одна особенность, отмечавшаяся Достоевским у Эдгара По, — невероятные события в его книгах приобретали естественную и закономерную окраску. Так, в «жестокой схватке» часовой, охранявший развилку дорог, найден утром мертвым от ударов сабли, которые нанес ему полуразложившийся труп, а в рассказе («Ночью в доме покойника» позеленевший от могильной сырости китаец встает со своего ложа, чтобы потребовать назад свою косичку. Каждая, даже мельчайшая, деталь в этих произведениях была мотивирована — отсюда возникало и ощущение правдоподобия.
Многое перенял Бирс у Эдгара По — в том числе и его пристрастие к могилам, склепам и кладбищам, и в сборнике «Может ли это быть?» нас встречает целый сонм ясновидцев, заживо погребенных, а также интеллигентных убийц, цитирующих античных классиков. Страсть Бирса к рациональному объяснению загадок природы напоминала соответствующую черту характера По, и в рассказе «Хозяин Моксона», например, повествующем об изобретателе автоматического игрока в шахматы, идет речь о том, что «материя наделена разумом» и что «каждый атом есть живое, чувствующее, мыслящее существо». Бирс походил на По и той особой мрачной шутливостью, с которой он рассказывал об ужасных, чудовищных преступлениях, и небрежная реплика матери «Джон, ты меня удивляешь», обращенная к ее раздражительному сыну, только что отрезавшему ухо у лежащего в колыбели младенца, не представляет в этом смысле ничего чрезвычайного (рассказ «Клуб отцеубийц»). Чем необычнее, несообразнее ситуация, тем спокойнее должна быть интонация автора — такова традиция, берущая начало от По и безымянных рассказчиков эпохи фронтира.
Как правило, Бирс был лишен дара Эдгара По в воссоздании целостной атмосферы события, хотя, скажем, в «Тайне долины Макарджера» достаточно сильно передано ощущение тяжести и исходящей неведомо откуда угрозы, которое охватывает случайного путешественника, забредшего в хижину, где когда-то старик-шотландец убил свою жену. Располагая более скромным, чем По, художественным талантом, Бирс все же иногда (как, например, в рассказе «Житель Наркозы») не уступал своему учителю по части изысканности и законченности слога. Бирс был, конечно, вовсе лишен свойственной его великому предшественнику магии слова, но в его рассказах было и много нового, нетрадиционного, самобытного. Как и всякий американец, он любил слушать рассказы о «домах с привидениями» и о призраках, встающих по ночам из заброшенных копей, и сочинял сам леденящие кровь истории о, скажем, чучеле змеи с башмачными пуговицами вместо глаз, ставшем причиной смерти «загипнотизированного» им человека. Лучшие из рассказов Бирса имели под собой тонкую психологическую подоплеку; так, Паркер Андерсон, философ из одноименного рассказа, будучи уличенным в шпионаже в пользу северян, хладнокровно беседует с генералом армии конфедератов на тему о своей смерти, но приходит в неистовство, когда ему сообщают, что вместо свидания с виселицей на рассвете следующего дня он должен быть расстрелян без промедления.
«Случай на мосту через Совиный ручей» — пожалуй, лучшая из новелл Бирса, в которой запечатлена предсмертная агония диверсанта-южанина, повешенного на мосту через быструю алабамскую речку. Падая в бездну, разверзшуюся под его ногами, Пейтон Факуэр надеется на чудо: ему кажется, что веревка оборвалась, а снайперы противника промахнулись и что перед ним открыт путь к семье и родному дому. Искусство Бирса здесь настолько совершенно, что многие читатели готовы поддаться иллюзии, вместившей целую вечность в последнюю секунду жизни алабамского плантатора.
Широкое признание Амброз Бирс получил лишь после Первой мировой войны, в эпоху всеобщего разочарования, когда слишком многие разделяли чувство героя одного из его рассказов, губернатора штата, приходящего к выводу, что «в войне нет и намека на славу». Обозревая поле брани, губернатор думает не о блестящей экипировке, трубных звуках, боевых штандартах и отличной выправке, а о горе трупов и веренице раненых. Бирс вовсе не принижал солдатского героизма и воинской доблести — как-никак Гражданская война стала огромным событием в его жизни, воспоминания о которой не сгладились в его памяти и тридцать лет спустя. Но он знал подлинную цену усилиям одиночки, знал, как угнетающе действует на сознание человека, одетого в униформу, бессмысленное передвижение армии, подчиняющейся сбивчивым, противоречивым приказам.
Впоследствии Бирс, подобно Стивену Крейну, воспринимался как провозвестник послевоенной эпохи, хотя в 90-е годы его рукописи отвергались издателями, а его известность, «известность обскуранта», не простиралась далее Сан-Франциско. Предпочитая слыть «первым человеком в деревне, нежели вторым в Риме», Бирс долгие годы был провинциальным диктатором «литературного Назарета», не испытывая при этом особой конкуренции и порой бравируя своими предубеждениями и довольно поверхностным цинизмом. Нередко сверкая перлами подлинного остроумия и обладая достаточным талантом как автор дюжины превосходных рассказов, Бирс писал неустанно до конца своих дней, но его двенадцатитомное литературное наследие отнюдь нельзя назвать собранием шедевров. Лишенный прочных связей с умственной жизнью эпохи, Бирс остановился в своем развитии где-то около 1850 года; с тех пор он, по собственному признанию, не прочел ни одной новой книги. И все же прав был Джек Лондон, откликнувшийся в письме к поэту Джорджу Стерлингу на утверждение последнего о том, что талант Бирса «выкристаллизовался» задолго до появления молодого поколения американской литературы. «Это слишком величественный кристалл, чтобы вступать с ним в спор», — заметил Джек Лондон и добавил, что, несмотря на всю свою нетерпимость и дурной характер, Амброз Бирс был «славный старикан»...
Л-ра: Брукс Ван Вик. Писатель и американская жизнь. – Москва, 1971. – Т. 2. – С. 60-67.
Произведения
Критика