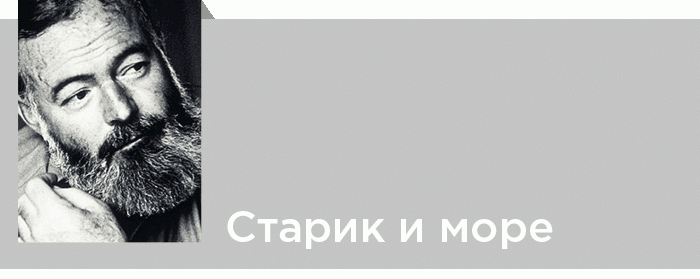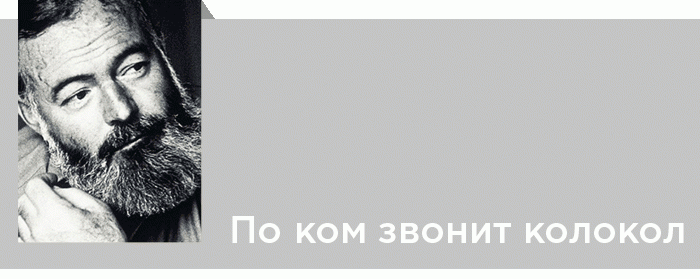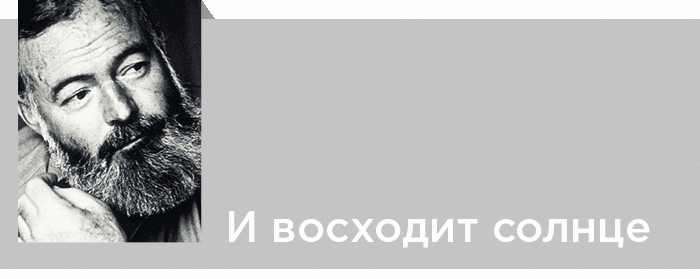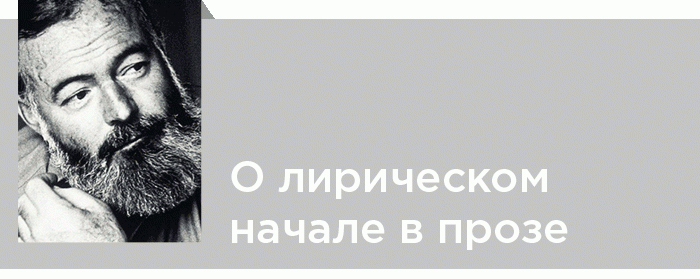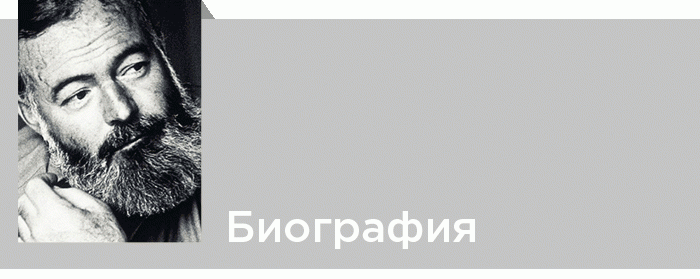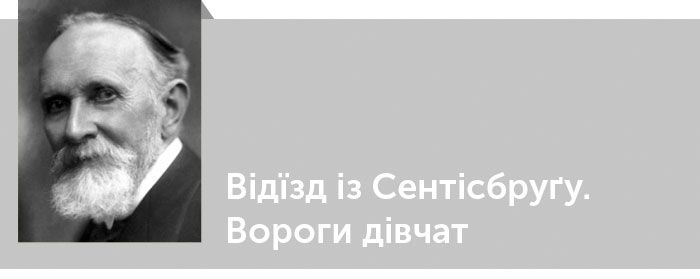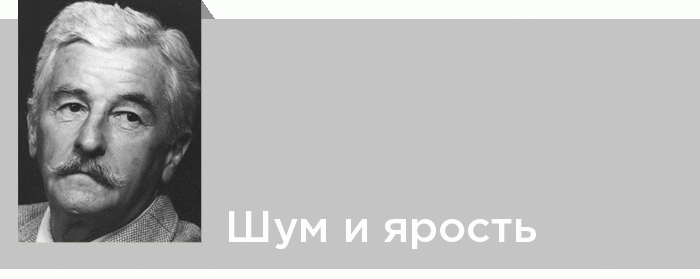О культурно-историческом контексте творчества Хемингуэя
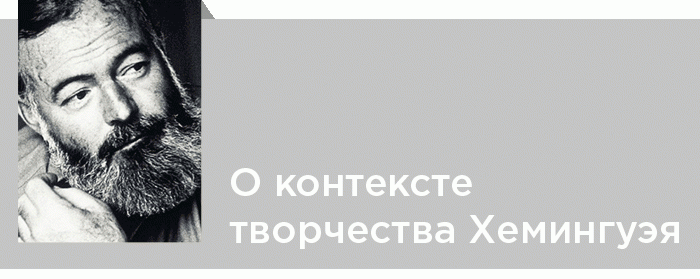
В.Л. Махлин
Отношение Хемингуэя к культуре, традиционной и современной, — одна из актуальных проблем его творчества, поучительная как для теории культуры, так и для уяснения того, что мы называем «современной культурой», «XX веком», в отличие, скажем, от предшествующей культурной формации XVII-XIX вв. — Нового времени. Ведь ситуация кризиса культуры, ответом на которую стало творчество Хемингуэя, это не только конкретная уникальная историческая ситуация 10-20-х годов или последующих десятилетий. Нет, «кризис культуры» — перманентное и нормальное состояние социокультурного мира XX в., когда привычные, так сказать оговоренные, формы социального общения, речевого взаимодействия людей распадаются и проблема культуры оборачивается проблемой творческого преображения ее и в жизни, и в искусстве. Там, где те или иные культурные формы теряют авторитетность и внутреннюю достоверность, культура и сама жизнь перестают быть данностью и становятся заданностью, задачей «дерзать от первого лица» (Б. Пастернак) ради создания новых форм общения и общности людей. Своеобразным решением этой задачи в литературе и определяется, по нашему мнению, особое место Э. Хемингуэя в культуре XX в.
Положив в основание своей этики и эстетики принцип непосредственного «знания» в противоположность «образованию» («то, что действительно чувствуешь, а не то, что полагается чувствовать и что тебе внушено»), Хемингуэй противопоставил моральным и эстетическим нормам своего времени «антилитературную литературу» (Д. Фукс) и даже особый стиль жизни, в которых привычная дистанция между автором и героем, между творчеством и действительностью, между писателем и человеком, казалось, была нарушена. Хемингуэю присуща своя концепция литературного героя, последовательно проводившаяся им на всех этапах его творческого пути, концепция, далеко выходящая по смыслу за пределы литературы и не случайно оказавшая влияние на культуру вообще. Речь идет, разумеется, не о теоретическом построении, а о практически реализованной в искусстве идее — в отвлеченном виде Хемингуэй сформулировал ее в конце жизни. В 1952 г. в письме к М. Каули по поводу повести «Старик и море» он, между прочим, заметил: «Видите ли, миф невозможен, если нет героя. Герой обращен к такой реальности, с которой не имеет дела никто, кроме него. Чтобы стать мифом, реальность должна быть неправдоподобной, но представить ее надо абсолютно правдоподобно. И героя тоже надо сделать правдоподобным. Им должен быть тот, кто страдал и потерпел поражение».
Таким образом, миф для Хемингуэя не «мифологическая», а культурологическая категория, как бы идеальная проекция общественного сознания данной культуры. Соответственно герой — это не традиционный «персонаж» литературы, а тот, кто «обращен» к общественному идеалу, ответствен за него, действует в свете этого идеала, т. е. тот, кто в значительной мере должен «сделать самого себя», стать автором самого себя. Задачей же самого Хемингуэя как писателя-автора является изображение «мифообращенного» героя средствами литературы, «неправдоподобной» реальности идеалов — средствами реалистического искусства, «абсолютно правдоподобного».
В контексте этой позитивной задачи, по-видимому, и следует оценивать постоянные нападки Хемингуэя на культуру «высоколобых», на «благопристойных гуманистов», на критиков, подменяющих литературный анализ разного рода «категориями», общую ориентацию американского писателя на «примитив в пику нашей эпохе, небоскребам и прочему».
Полемическая позиция Хемингуэя далека от голого отрицания, она объясняется ощущением распада традиционной культуры, разрыва между разными сферами человеческого существования, пргрессирующей механизацией и формализацией всех связей в буржуазном обществе. «Вымарать» из своего текста не соотносимые с жизнью «высокие» слова, ходульную литературность, стереотипы речи значило для Хемингуэя, по его выражению, «обнажить до костей», демифологизировать язык традиционной культуры и вместо отвлеченных «суждений» о мире, о человеке создать свой индивидуальный язык — «миф», т. е. новую знаковую систему взаимопонимания между героем, читателем и писателем.
Хемингуэй не только «этику» превращает в «эстетику» (А. Платонов); познавательное отношение к миру как сущности («что такое мир») он превращает в этическое, так сказать внутриситуативное отношение поступка («как в нем жить»), в принципы существования и поведения героя. То, что герой писателя знает или узнает о мире, он должен претворить в поступок, сделать как бы знаком своего присутствия в мире, события с другими людьми.
Творчество и жизнетворчество Хемингуэя — это попытка на свой, на американский лад собрать культуру в человеке. Современники чутко улавливали (хотя и не всегда правильно объясняли) основную тенденцию его творчества и жизнеповедения — «мечту», но мечту не о «порядке» (А. Кейзин), а о новом живом единстве личности и единении людей в ситуации, когда человек «не имеет не может никак нельзя некуда».
Писать «правдиво» — для Хемингуэя значит привести в контакт «нормы» и «правила» с реальной действительностью, с «силой необходимости». Общепринятые верования, представления, эмоции писатель «фамильяризует», разоблачает в свете «самого факта», помещает в кругозор мнимого простака, ориентирующегося в своих воззрениях на эмпирически достоверное настоящее.
Интересен в этой связи знаменитый пассаж из книги «Смерть после полудня»: «Что касается морали, то я знаю только, что морально то, после чего чувствуешь себя хорошо, а аморально то, после чего чувствуешь себя плохо».
Заметим: «моральное» и «аморальное» не отрицаются Хемингуэем, но и не анализируются умозрительно. Оба понятия как бы теряют свой отвлеченно назидательный, безотносительный смысл, попадая в зону существования говорящего, «тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства». Критерий «морального» и «аморального» для писателя — не в словах самих по себе, а в их, так сказать, экзистенциальных эквивалентах — ситуациях испытания традиционных ценностей в реальном времени с его «до» и «после». Преднаходимое, «чужое» слово должно быть лично пережито в реальном событии, в столкновении с миром; слово должно как бы заново родиться, заново стать ответственным. Хемингуэй не создает нового содержания, новых понятий: он чаще испытывает старые ценности, проверяя их на прочность, на «неизменность». Поэтому традиционная «норма» отличается у него от «самого факта» не столько по существу, сколько по существованию: она попадает из вневременного («священного») плана во временной («профанный»).
Хемингуэй не принимает вневременной, «вненаходимой» точки зрения и оценки человеческого существования, не принимает судьи, который «вне игры». Сделать изображаемое «абсолютно правдоподобным» — значит заставить читателя сойти с отстраненной точки зрения, приковать его к ситуации героя, к его кругозору. И за собой, автором, Хемингуэй не оставляет никакого существенного смыслового избытка по сравнению со своими героями; отсюда принципиальный отказ писателя от точки зрения «третьего», традиционного «всеведущего повествователя». Только внутриситуативное «мышление-в-мире», а не интеллектуальное «мышление-о-мире» для него нравственно оправданно и познавательно реально.
С этим связана перестройка пространственной иерархии явлений: то, что по традиции мыслится «выше» (и чем выше, тем дальше от «профанного» мира), у Хемингуэя оказывается рядом. Характерный пример — его полемика с немецким ученым Ю. Мейер-Грефе в книге «Смерть после полудня» в ответ на попытку последнего установить табель о рангах среди великих испанских художников в зависимости от их веры в Христа.
Д. Эль-Греко, по мнению Ю. Мейер-Грефе, выше Веласкеса и Гойи, поскольку из всех троих только ему удавалось изображение распятия. Неправда, возражает Хемингуэй, все зависит от того, во что «верит» тот или иной художник. «Судить о художнике можно по картинам, на которых он пишет то, во что верит, или любит, или ненавидит».
Что хочет сказать Хемингуэй? В чем смысл его полемики с одним из «профессоров и евангелистов истории»?
Слово «вера» для Ю. Мейер-Грефе по традиции связано с религиозной, сакральной сферой культуры. Как высшая, уникальная реальность Христос — самый достойный, самый высокий предмет изображения. Поэтому художник, которому лучше удается этот предмет, является художником в превосходной степени. Такова, по-видимому, логика Ю. Мейер-Грефе.
Хемингуэй с ним спорит, соединяя понятие «вера» не с одним (высшим), а с различными (высокими и низкими) предметами: «Греко верил в город Толедо, в его местонахождение и архитектуру, в некоторых его обитателей, в голубые, серые и желтые тона, в святого духа, в причастие и всех святых, в жизнь после смерти и в смерть после жизни и в сказку...».
Ни одно звено этого ряда ценностей не оспаривается Хемингуэем. Оспаривается, и принципиально, только «внушенная» иерархия ценностей (небесного и земного), переступается граница между ними.
Кризис культуры всегда связан с переосмыслением границ между различными областями культуры, сферами деятельности, способностями человека. Поставить в связь то, что в условиях буржуазной действительности обособилось, отъединилось, — такова тенденция творчества Хемингуэя в целом, особенно первого и второго периода (20-30-х годов).
Вернемся к спору писателя с Ю. Мейер-Грефе. Не «святой дух», а дух творческий, по мысли Хемингуэя, питает великое искусство. «Гойя походил на Стендаля: вид сутаны для этих ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству». Логика возражений Хемингуэя, как видим, такова, что гениальность одного художника может быть связана с его религиозностью, а гениальность другого — с его атеизмом. То и другое человечно, как бы говорит Хемингуэй, и потому может стать «стимулом к творчеству».
Писатель ищет первичного («из себя») отношения к миру, он словно начинает культуру сначала, «от Адама». Писатель беспощаден при этом и к условным символам европейской литературной традиции, и к вульгарным абстракциям массового сознания. В рассказе «Трехдневная непогода» мальчики, Ник и Билл, обмениваются впечатлениями от книг:
«Любовь в лесу» читал?
Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?
Хорошая книга, Уимидж.
Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча. Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не мешает.
Это символ, — сказал Билл.
Наверно, — сказал Ник. — Только здравого смысла в этом ни на грош.
«Здравая», гекльберрифиновская реакция Ника на «символ» напоминает приведенное высказывание Хемингуэя о морали, с той только разницей, что в книге «Смерть после полудня» точка зрения «простака» используется гораздо шире — как сознательный прием для критики культуры, отчужденной от бытия.
А вот пример того, как Хемингуэй разоблачает ходячие представления, которые в XX в. иногда превращаются в фантомы массового сознания. В ответ на утверждение мисс Фергюссон, шотландки и приятельницы Кэтрин Баркли («Прощай, оружие!») «Мы не любим англичан» Ринальди спрашивает: «Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?». «Ну, это совсем другое, — говорит мисс Фергюссон. — Нельзя понимать так буквально». Здесь то же низведение отвлеченного суждения, что и в оценке «символа» Ником Адамсом: «здравый смысл» переводит понятие из «далевого» плана в «зону фамильярного контакта» (М. Бахтин), разрушает его понятийную замкнутость, безоговорочность, бесчеловечность.
Существенно и другое. Проблематику культуры Хемингуэй помещает в открытое «неубереженное» пространство большого мира, переводит на язык сознания обыкновенного человека, вовлеченного в события мирового масштаба. На материале «живых людей» писатель изображает конфликт между традиционными идеалами в сознании героя и его же поведением, обусловленным объективной «силой необходимости». Так, в рассказе «Естественная история мертвых» врач, запрещая унести умирающего из мертвецкой, поступает «негуманно» не потому, что он бесчеловечен, а потому, что и умирающий, и сам врач, и артиллерийский офицер (который, как «человек гуманный», предлагает пристрелить умирающего) находятся в общей (прифронтовой) ситуации, подчиненной нечеловеческой «силе необходимости». В этой ситуации врач, действуя, казалось бы, разумно, в моральном смысле может представиться «зверем», в то время как благородное возмущение артиллерийского офицера, наоборот, выглядит как бы неуместным, гротескным.
«Зазор» между сознанием героя и его поведением в данных обстоятельствах образует специфический для Хемингуэя подтекст. Традиционные идеалы оказываются у раннего Хемингуэя «подводной частью айсберга». Идеалам нет места в мире, они только идеальны, т. е. не могут развернуться в реальное пространственно-временное событие. С этим связана проблема обновления гуманизма в творчестве писателя, проблема реализации традиционных гуманистических ценностей. Как соединить идеальное и реальное в конкретном поступке, в общении с другими людьми? Возможны ли новое единство, «интеграция» личности в условиях распада личности? Осуществимы ли отношения свободы, равенства и братства в условиях очевидного краха буржуазной демократии? На каких путях осуществим насущный синтез частного, «сепаратного» человека и человека общественного, не принимающего социальной несправедливости? Такие и подобного рода вопросы объясняют как отрицательное отношение Хемингуэя к отвлеченным моральным добродетелям, так и его положительные искания, в особенности во второй половине 30-х годов.
И.Л. Финкельштейн отмечал сосуществование в творчестве американского писателя двух контрастных тенденций: дегероизации и героизации. Действительно, наряду с тенденцией к «снижению» для Хемингуэя характерны поиски абсолюта, ценности «абсолютно неизменной, как метр-эталон в Париже». Даже в раннем творчестве писателя за профанацией «символов» ощутимо (особенно в «Фиесте») стремление приобщиться к тому, что «пребывает вовеки», что «всегда с тобой» или, как говорится в речи Хемингуэя по случаю присуждения ему Нобелевской премии, «предстоит вечности». Отсюда тот внутренне закономерный поворот, который произошел в его творчестве во второй половине 30-х годов. «Потеряв» себя, свою причастность традиционным идеалам, герой Хемингуэя должен снова и по-новому обрести себя в мире, в истории. Писатель, скептически и настороженно относившийся к политике, тем не менее глубоко заинтересован в социально-политической ситуации, заинтересован как человек и как художник: ведь только история может духовно спасти и обновить его героя, только на широком фоне общественного сознания, общественного движения возможен герой как «абсолютно правдоподобное» явление.
Герой романа «Фиеста» Джейк Барнс говорит, что «никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров». Свою творческую сверхзадачу Хемингуэй, по всей вероятности, видел в том, чтобы своеобразную экстатическую полноту жизни, свойственную корриде (с ее «чувством жизни и смерти») перенести с арены боя быков на арену исторической ситуации своей эпохи и героизировать уже не матадора, а сознающую жертву этой исторической ситуации.
Таков прежде всего Роберт Джордан в романе «По ком звонит колокол». Идея «братства» определяет и тему, и образную структуру произведения: «я» Джордана пересекается с голосами других героев — Пилар, Каркова, Гольца, Марии. Можно говорить об особом «лироэпическом» сознании в романе. Это «братское» сознание товарищей по оружию и по судьбе поколения находит концентрированное выражение в двух фразах генерала Гольца, брошенных в телефон по-французски в момент наступления его войск, — благодаря полученным через Андреса сведениям перед русским генералом открывается то, что другой русский, Карков, называет «полной картиной» происходящего.
Эта «полная картина» оказывается подтверждением худших предчувствий Гольца и других героев романа. В двух фразах Гольца представлена квинтэссенция творчества Хемингуэя. Первая реплика генерала («Ничего не поделаешь. Ничего. Не надо об этом думать. Надо примириться») — признание краха всех надежд борцов за Республику. Кроме того, в этом «Rien a faire. Rien» мы слышим голоса прежних героев Хемингуэя: «Все кончено» («У нас в Мичигане»); «Все ни к чему. Все» («Фиеста»); «Ничего не поделаешь... не думай» («Убийцы»); «Мир не наш» («Белые слоны»); мир «ломает и убивает... Сиди, и жди, и тебя убьют» («Прощай, оружие!»). Общим для всех этих голосов является момент разочарования и отчаяния, «потерянности». Однако в романе «По ком звонит колокол» трагический фатализм — только момент целого. Обратимся к следующей фразе Гольца: «Nous ferons notre petit possible» («Мы сделаем, что сможем»). Это «petit possible» и есть то новое, что привнесли в творчество Хемингуэя «красные 30-е» — эпоха, обусловленная конкретными социально-политическими условиями, но ставшая определенной вехой в культуре XX в.
В самом деле, если в 20-е годы на Западе преобладало отталкивание от традиционной буржуазной культуры, от «благопристойных гуманистов» (Хемингуэй), была актуальной, по выражению В. Дильтея, «критика исторического разума» (в плане «мифологии истории» — в интеллектуальном романе и поэзии, в плане «потерянности» человека в истории — у Хемингуэя и других писателей «потерянного поколения»), то в 30-е годы, в условиях экономических потрясений, угрозы фашизма и консолидации прогрессивных сил, изменилась вся ситуация социального общения. В передовых кругах западной интеллигенции усилилась тенденция восстановления «связи времен», реабилитации истории, идеи прогресса ради «грядущей идеи демократии» (Т. Манн). Сознание того, что «домой возврата нет» (Т. Вулф) перестает быть фатальным: «потеряно» прошлое, но его должны искупить настоящее и будущее. Отсюда характерная для 30-х годов апокалиптика «надежды» (А. Мальро), общественный лозунг «Так дальше продолжаться не может» (Ж.-П. Сартр).
В романах 30-х годов «Иметь и не иметь» и «По ком звонит колокол» Хемингуэй как раз и ставит в связь реальные проблемы этих лет — экономическую и политическую — с более общими, «неизменными» для него вопросами, соизмеримыми с проблематикой культуры столетия в целом. Отсюда неповторимое сочетание «ангажированности» и универсализма, присущее этим произведениям.
В романе «Иметь и не иметь» (ч. 3) автор сближает две сюжетные линии — рыбака Моргана и писателя Гордона, подводя ту и другую к одной черте между жизнью и смертью, между прошлым и будущим того мира, представителями которого оба они являются. В этом необычном для Хемингуэя социально многоплановом романе определяющим становится мотив «порога»: он объединяет «момент истины» Моргана (с его знаменитым предсмертным откровением о человеке) с «операцией без наркоза» — моральным и физическим развенчанием Гордона в толпе ветеранов. Трагедия отдельных судеб в романе предстает в контексте «мира как единого целого», мира «на пороге», нуждающегося в коренной перестройке и преображении.
Главный акцент романа «По ком звонит колокол» падает на проблему гуманизма, на существеннейший для писателя вопрос о герое как посреднике между общественным идеалом и его реализацией. В связи с решением этой темы Хемингуэем целесообразно вспомнить А. де Сент-Экзюпери, который писал: «Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действий. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу».
У Сент-Экзюпери и Хемингуэя речь идет не об отказе от гуманистической традиции, а об инверсии ее, переакцентировке «Сущности» с отвлеченно-понятийного языка на конкретно-этический язык «действий». Живо ядро гуманизма, мертва буква, форма его, т. е. тот «благопристойный» кабинетный гуманизм, который Хемингуэй связывал с «бесплодностью отвлеченных разговоров», «суперметафизической тенденцией языка».
Для Роберта Джордана, как и для героя Сент-Экзюпери, «быть» — значит «участвовать». В этой связи у обоих писателей возникает мотив жертвенности (типичный для литературы 30-40-х годов). В «Военном летчике» об этом сказано так: «Самое сложное действие получило название. И это название — жертва. Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым».
Но подобным образом можно определить пафос героя и автора романа «По ком звонит колокол». В самопожертвовании, собственно, и состоит «недолгое счастье» Джордана. Идеальная «Сущность», которая в ранних произведениях Хемингуэя находила себе место лишь в подтексте, в качестве «консервированного бесплодия», теперь включается в реальное историческое время, становится формой общения (в широком смысле: ведь и любовь Джордана и Марии — это, так сказать, обратный вариант «сепаратных» взаимоотношений между Генри и Кэтрин в романе «Прощай, оружие!»). «Сущность» становится событием между людьми — вот что делает общение реальным и ответственным, снимает разрыв между «верхом» и «низом» (в частности в любви), оправдывает жизнь и смерть человека перед лицом «абсолютно неизменных» ценностей. Изображение такого «события Сущности» позволяет Хемингуэю осуществить свой эстетический идеал героя, обращенного к реальности высшего порядка, реальности, показанной «абсолютно правдоподобно».
Представим теперь мир романа «По ком звонит колокол» вне «красных 30-х», вне изображенного в нем события. В этом случае он немедленно распадется на изолированные элементы, потеряет единство. История, изображенная в этом произведении, заключала в себе нечто чудесное, — она делала возможным «братство» людей, в обычных условиях едва ли могущих обрести нечто общее друг с другом. Не случайно в романе «За рекой в тени деревьев» (1950) история превращается в воспоминание о ней, в монолог одинокого, умирающего полковника Кантуэлла.
Кризис героя Хемингуэю удалось отчасти преодолеть в повести «Старик и море». Но это преодоление достигнуто за счет утраты социально-исторических перспектив, за счет сужения, изоляции человека от мира других людей. Решающим акцентом романа «По ком звонит колокол» были слова: «Мы сделаем, что сможем». Старик Сантьяго мог бы повторить их только от своего имени.
Лучшие произведения Хемингуэя давно стали классикой нашего столетия, однако в современных исследованиях мы почти не найдем свежего и конструктивного их прочтения. Не найдем во многом потому, что прежняя актуальность его творчества, непосредственная и «внешняя», в силу движения времени как бы лишилась «языка», перестала быть событием общения, ушла в «подтекст» современной культуры. На Западе говорят о «смерти человека» как культурологическом итоге XX в., и прогноз Хемингуэя о «механизированном роке» как будто сбывается. Однако пока человек и человечество сохраняют возможность сопротивления, они еще не сказали последнего слова. В этом смысле творчество Хемингуэя, как и любую другую классику, ожидает свой, по выражению М.М. Бахтина, «праздник возрождения».
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – 1987. – № 3. – С. 33-41.
Произведения
Критика