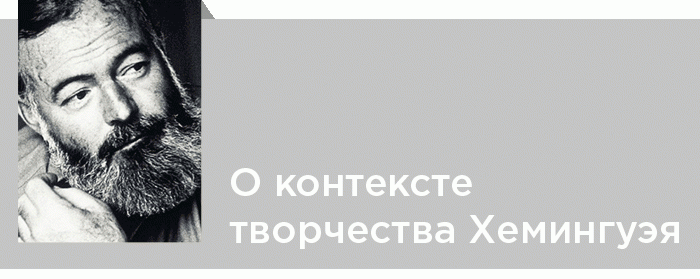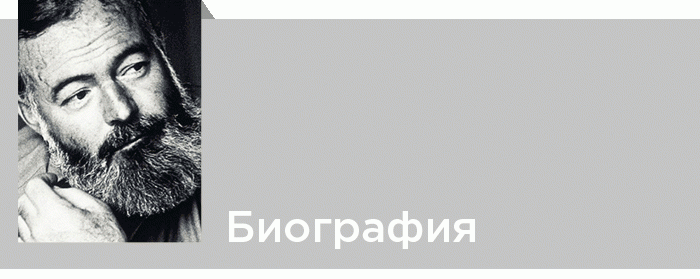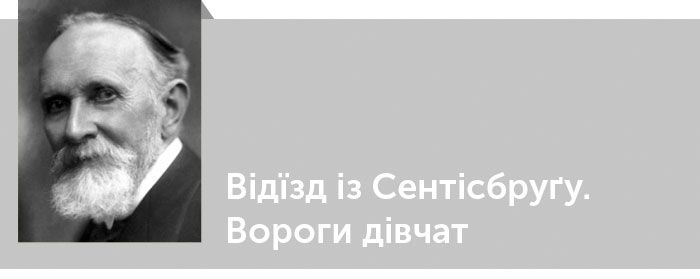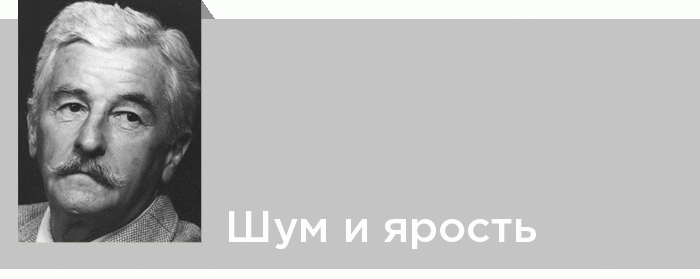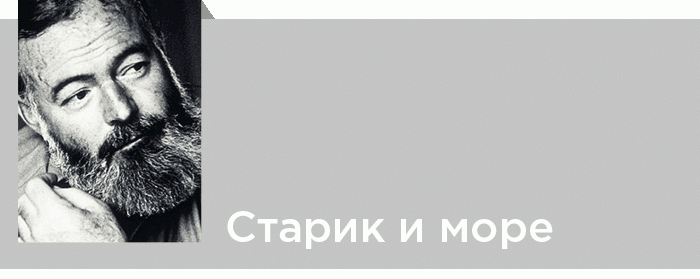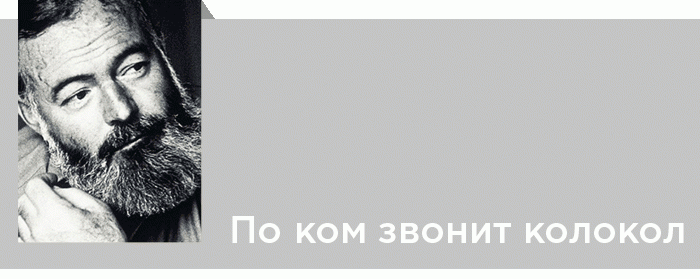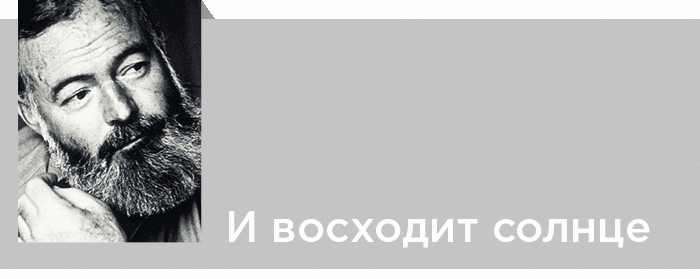О лирическом начале в прозе
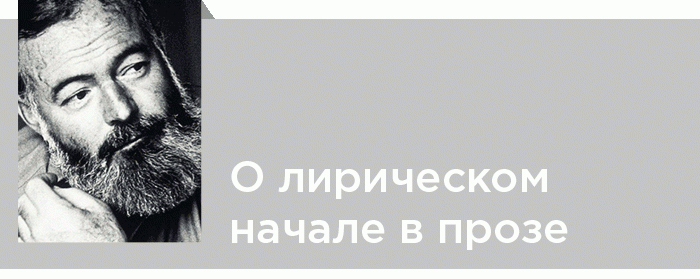
А. Эльяшевич
Один из наиболее значительных художников XX века, работающих в жанре «субъективного» романа, — Э. Хемингуэй. Все творчество этого писателя развивается в лирическом ключе. Стиль Хемингуэя и его новаторские поиски оказывали и продолжают оказывать большое влияние на современную литературу.
Джейк Варне, Фред Генри, Гарри Моргай, Полковник Кентвелл все эти лирические герои Хемингуэя, близкие друг другу общностью восприятия действительности, в то же время являются многогранными типическими характерами, представителями конкретной социальной среды и определенного исторического момента.
Сюжет в романе «Прощай, оружие!» составляет история Фреда Генри — офицера, дезертировавшего с фронта. Генри сам повествует о себе и обо всем, с чем ему приходится столкнуться. Перед нами сама жизнь так, как она открывается герою в каждый данный новый момент.
Всякое вмешательство автора в повествование решительно устранено Хемингуэем. Действительность уведена глазами героя. Все остальные многочисленные персонажи книги, даже такие, например, как Кэтрин Баркли, раскрыты лишь поскольку они являются спутниками жизни героя или его собеседниками. Мы не знаем, что они думают и чувствуют, хотя слышим их голос, видим их и наблюдаем за их поступками. Мир показан писателем в индивидуальном преломлении, «съемка» действительности происходит все время с одной точки.
Следует подчеркнуть, что речь идет именно о лирическом типе сюжета, а не о своеобразной композиции с использованием изложения от первого лица.
У Хемингуэя герой в очень редких случаях рассказывает о себе. Да это и не столько рассказ, сколько своеобразное убыстрение времени, в котором мы привыкли воспринимать дела и чувства Фреда Генри. Чаще же всего мы просто синхронно следим за действиями героя, как бы присутствуем незримо вместе с ним, где бы он ни оказался.
Относительно небольшое место занимают в повествовании и абстрактные рассуждения Генри о жизни. Хотя они есть и в их передаче Хемингуэй тоже остается новатором, — во внутренних монологах подчеркивается ассоциативность, сбивчивость, прихотливость психологических процессов и их предметный, наглядный характер. Вот ход рассуждений Генри: «Хорошо бы поужинать в Кова и потом душным вечером пройти по Виа Манцони, и перейти мост, и свернуть вдоль канала, и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может быть, она и представила бы себе, будто я тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд, и швейцар снимает фуражку, и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ, и она дожидается у лифта. И потом мы входам в кабину лифта, И он ползет вверх очень медленно, позвякивая на каждом этаже...»
Там, где другой писатель ограничился бы одной стереотипной фразой: «он мечтал пойти с Кэтрин Баркли в отель», — Хемингуэй дает развернутое изображение самого хода мысли героя, и под его пером этот ход приобретает конкретно живописный и пластический характер.
Впрочем, Фред Генри в романе редко оказывается в такой обстановке, когда на вопрос, чем он занимается, он мог бы ответить: «Думаю!» Обычно он не «думает», а живет, т. е. одновременно что-то предпринимает, говорит сам, слушаем других, ощущает, наблюдает, вспоминает, принимает решения и т. д. И все это дается Хемингуэем в одном слитном потоке, в котором доминируют диалог и «моментальные снимки» обстановки, окружающей Генри. Объективная действительность включается в книгу в форме субъективных чувственных реакции и впечатлений героя, как содержимое субъективного восприятий индивидуального сознания.
Метод Хемингуэя близок к кинематографии. Кинематографично не только стремительно протекающее в романе действие. Прямо ложатся в сценарий и многочисленные описания.
«В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода в протоках была прозрачная, быстрая и глубокая. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год. И мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой».
Общая картина в этом отрывке складывается из множества зрительных кадров, каждое предложение — кадр: 1) идут войска мимо домика; 2) из-под ног поднимается пыль; 3) пыль садится на листья; 4) стволы тоже белые; 5) падают листья;, 6) идут войска, клубится пыль; 7) несутся по дороге листья; 8) шагают солдаты 9) пустая и белая дорога, одинокие листья на ней.
Так Хемингуэй ведет «съемку» действительности. Вернее, не Хемингуэй, а Фред Генри.
Процесс восприятия и передачи зрительных впечатлений у Хемингуэя соответствует его истинному течению в жизни. Но неужели мы видим мир в столь обобщенных, лаконичных формах? Где описание внешности солдата? Где описание домика? Какие именно деревья роняли листья? Все эти детали сознательно опущены. Фиксируется только основное. Все дело в том, что человеческое сознание, будучи целеустремленным, воспринимает любое явление, любой пейзаж лишь в общих чертах.
Попробуйте, скажем, читая, скользнуть взглядом за окно. Ваш взгляд выхватит лишь отдельные, наиболее бросающиеся в глаза детали: стены какого-то дома, снег на крышах, серое небо, одинокое дерево.
Но вот вы задаетесь целью описать вашу улицу, и тогда вы видите на ней десятки и сотни не замеченных вами в первый раз подробностей.
С попыткой точно воспроизвести некоторые особенности человеческой психики у Хемингуэя связан и характер его диалогов.
Речь персонажей на первый взгляд протоколируется в ее непосредственной данности. И в то же время герои писателя говорят на особом, «хемингуэевском» языке. Происходит это потому, что «стенограмма» разговоров тщательно выправляется. Сохраняется общий характер высказываний: интонации, лексика, но само высказывание предельно сжимается. Остается почти одна голая мысль, в той или иной стилистической окраске. Отсюда ощущение недосказанности, сопутствующее диалогам Хемингуэя, отсюда повторение одного какого-либо слова, составляющего своеобразный лейтмотив разговора.
Подобно напластованию зрительных реакций, в диалогах Хемингуэя напластовываются реакции слуховые. Все маловажное, все второстепенное, все подробности отпадают. Остается только явление, предмет, чувства, побуждающие персонажей к беседе: «Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги. — Какие бумаги? — Отпускное свидетельство. — Мне не нужны бумаги. У меня есть бумаги. — Хорошо, — сказал он (здесь слова «сказал он», перебивающие диалог, так же как и в других аналогичных местах, заменяют психологическую паузу), но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно. — Сколько стоят такие бумаги» — и т. д.
Все внимание говорящих направлено сейчас на один предмет — «бумаги» (т. е. документы). Мысль о них волнует Генри.
И из всего потока слов и фраз собеседников в сознании героя остается прежде всего одно, наиболее нужное, важное и значимое слово-мысль. Примитивность хемингуэевских диалогов идет не от вычурности стиля, а от его глубинных тенденций, от стремления максимально приблизить литературу к жизни. Стремление изображать, а не описывать людей и вещи — важнейший закон хемингуэевской прозы. Ему в «Прощай, оружие!» подчинено все: и строение отдельных образов, и целых картин, и развитие действия, и структура диалога, и даже особенности языка, начисто лишенного всякой метафоричности и пышной «образности».
Отказ Хемингуэя от эпоса и обращение к лирической прозе, со всеми свойственными ей особенностями, разумеется, не случаен и продиктован глубоко принципиальными соображениями, писатель принадлежал к тому поколений молодых людей двадцатого века, для которых Первая мировая война была рубежом, пролегшим через их сердце. Те, кто избежали пуль и снарядов, навсегда сохранили намять о чудовищней бойне, в огне которой сгорели их наивные представления о жизни и человечестве и духе беззубого буржуазного либерализма начала века. Протест против правопорядка, неизбежно ввергающего земной шар в вакханалию убийств и преступлений, решительное разочарование в буржуазной философии сопровождались у этих людей безоговорочным отрицанием всякой, какой бы то ни было философии, всяких социально-экономических выводов и прогнозов.
Долг писателя, по мнению Хемингуэя, заключался прежде всего в создании книг на досконально изученном материале, в создании «простой, честной прозы о человеке». Книга, в которой просто и бесхитростно будет изображена человеческая жизнь, сама должна натолкнуть на определенные социально-экономические выводы, без того чтобы они были нарочито вложены в уста действующих лиц или вклинивались в описание из жизни.
Хемингуэй рисует жизнь «какой она есть». Но это, разумеется, не означает какого-либо смыкания его творческого метода с натурализмом. Бытие, проходящее через сознание героев писателя, освещено светом их мироощущения, обычно близкого мироощущению самого писателя. Мироощущение это глубоко трагично и жизнерадостно в одно и то же время. И Джейк Варне, и Гарри Морган, и «Старик», и Фред Генри стихийно влюблены в жизнь, до краев полную светом, солнцем, бесконечностью горизонтов и желаний, красотой природы, обаянием юных и прекрасных женщин. Всем им свойственна чисто стихийная вера в человека и его возможности. И одновременно все они удивительно бессильны и одиноки в этом звонком и сияющем мире, одиноки и беспомощны перед лицом смерти.
Жизнь бесконечно жестока к героям Хемингуэя. Она издевается над Джейком Барнсом, она убивает любовь Фреда Генри, она наносит поражение Старику в его последней схватке с морем.
Не было бы ничего страшного, если бы люди могли существовать независимо и изолированно друг от друга. Но человек, утверждает Хемингуэй, не остров. Он — часть материка. И поэтому, когда вы слышите звуки колокола, не спрашивайте, по ком он звонит. Он звонит по вас.
Жестокость жизни осознается писателем как социальная и биологическая трагедия человека, выраженная в формуле: «Иметь и не иметь». Те, кто могут «иметь», — самые чистые, самые умные и самые красивые, — ничего не имеют, и если они настаивают на своем человеческом праве, жизнь их убивает или физически, или морально, или так, как она убивает Гарри Моргана, полковника Кентвелла, Кэтрин Баркли, или так, как она убивает Старика, Джеймса Барнса и Фреда Генри.
Но и у бездельников и мотов, имеющих как будто все, тоже фактически ничего. Все эти Брэт Эшли, Ричарда Гордоны и им подобные — просто духовные нищие, ничтожества и скоты. Но если счастье знатных и богатых туристов пародийно и гротескно по существу, фальшиво и иллюзорно, то для лирических героев Хемингуэя оно все же до конца не закрыто. Они сами, не сознают его, но оно существует, воплощаясь в той борьбе, которую Старик и Гарри Морган, Генри и Варне ведут за осуществление своих желаний. И пусть каждый раз эта борьба завершается поражением, однако она велась до конца с великолепным и гордым мужеством, до самого конца, до полного исчерпания сил.
В этом восхищении Хемингуэем мужеством и твердостью его героев, сказывается оптимистическое начало его таланта, которое не нужно замалчивать.
Человека можно убить, говорит нам Хемингуэй, но его нельзя заставить стать на колени, его нельзя заставить ползать на четвереньках.
«Человек один не может ни черта!» Эти многократно цитированные предсмертные слова Гарри Моргана выражают смутную тоску Хемингуэя по социальному идеалу, который позволил бы его героям встать над окружающей их пустотою. И все же человек и в новых произведениях Хемингуэя остается по-прежнему одиноким. По-прежнему он противостоит жестокости буржуазной действительности величием своего одинокого подвига, мужеством своей повседневной неравной борьбы с преследующим его роком.
Лирический роман Хемингуэя, при всей бесспорной ограниченности видения мира и противоречивости идейно-художественных выводов, разумеется, не имеет ничего общего с субъективным романом конца XVIII — начала XIX веков. Перед нами современная, во многом новаторская литература, идущая своими особыми путями. И ее опыт нельзя игнорировать.
Л-ра: Звезда. – 1961. – № 8. – С. 193-196.
Произведения
Критика