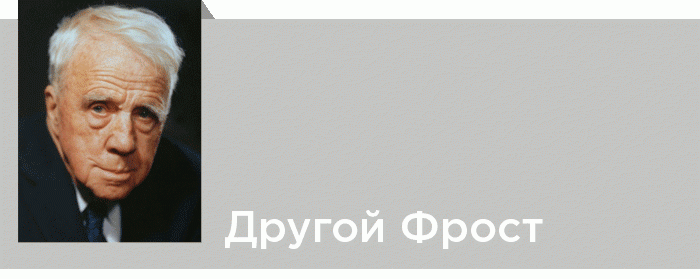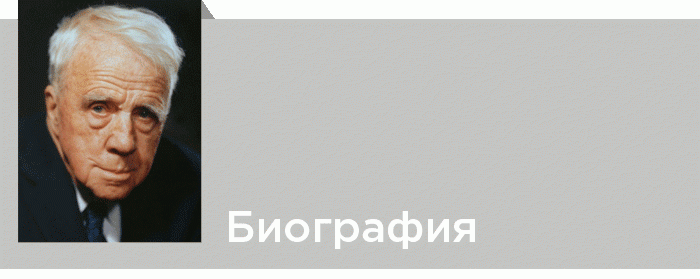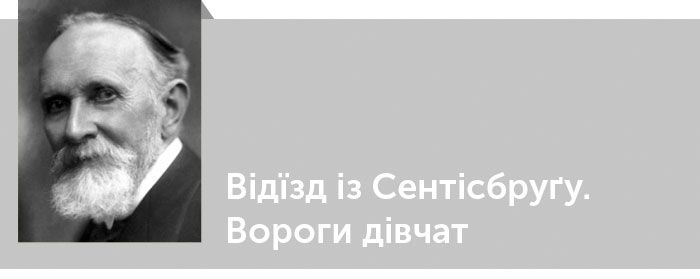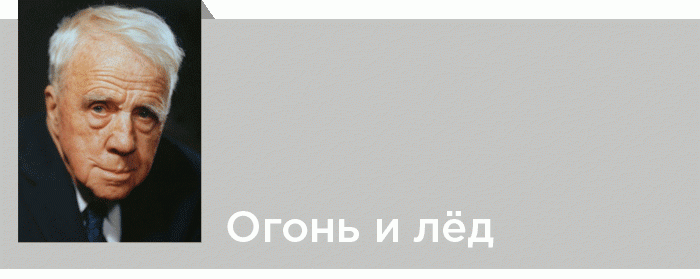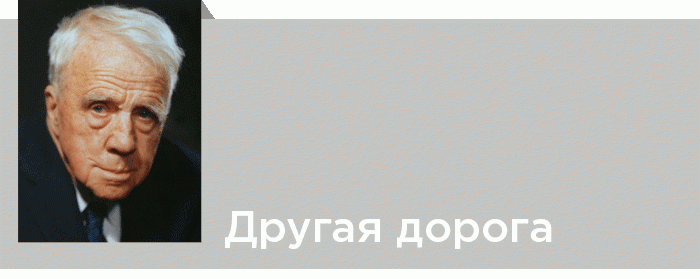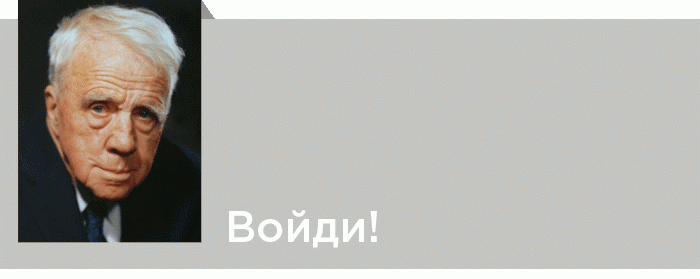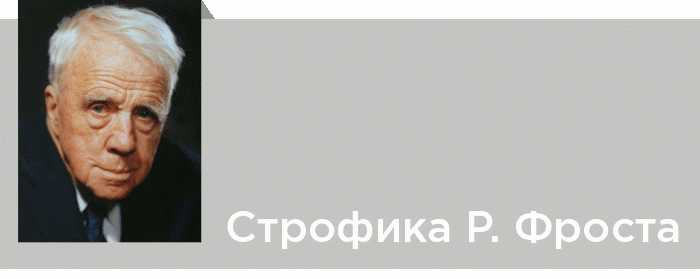О пейзажной константе в лирике Роберта Фроста
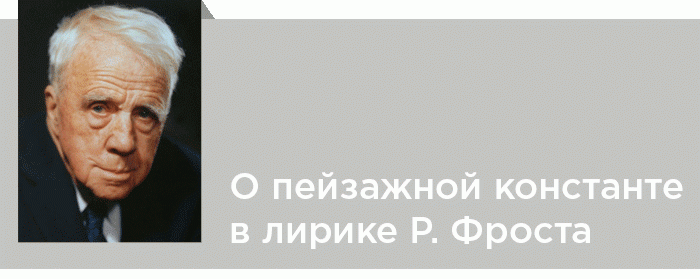
Д.А. Прияткин
Имя выдающегося американского поэта Роберта Фроста (1874-1963) давно и прочно стоит в ряду классиков американской поэзии, наравне с такими мастерами XIX века, как Эдгар По, Ральф Уолдо Эмерсон, Уолт Уитмен, Эмили Дикинсон, и с современниками поэта — Эдвином Робинсоном, Уоллесом Стивенсом, Томасом Элиотом. Опубликовав свой первый поэтический сборник в тридцативосьмилетнем возрасте, Фрост уже через два года стал одним из любимых поэтов Америки и продолжал оставаться им и в течение своей долгой жизни, и по сей день. В круговороте американской действительности поэзия Фроста представляла собой островок стабильности и устойчивости, веры в добрые идеалы прошлого. В отличие от многих современников он не выплескивал свое отчаяние, свою боль прямо на страницы.
Его сознательная установка на воспроизведение интонаций американской разговорной речи позволила ему наделить традиционный стих совершенно новым звучанием.
В поэзии Фроста можно выделить три основных типа стихов: это лирика, где все описываемые предметы и явления символически раскрывают эмоциональное и философское содержание; драматические повествования, строящиеся, как правило, на столкновении различных точек зрения; «мыслительная поэзия», сатира (чаще в том значении, которое придавали этому понятию авторы античности), где в центре — само движение мысли от описываемого явления к неожиданному, но вполне закономерному выводу.
В предисловии к своему единственному прозаическому произведению — одноактной драме «Выход» (A Way Out, 1929) Фрост отмечал: «Все написанное хорошо настолько, насколько оно драматизировано. Это не обязательно должно проявляться формально, но драматизм обязателен. Маленькое лирическое стихотворение... может быть неплохим началом, далее же лирические стихи громоздятся один на другой, пока все вместе не окажется услышанным, пропетым или сказанным определенным человеком в определенном месте и при определенных обстоятельствах».
Этот принцип драматизации стиха объединяет многие главные аспекты художественной системы Фроста: конкретность «предлагаемых обстоятельств», сочетающуюся с последовательным развитием действия или суждения, установку на разговорную речь с ее лексико-грамматическими и интонационными особенностями, с ее лаконизмом и недоговоренностью, обусловленными обилием ситуативного контекста. Эти особенности открывают широкие возможности оперирования подтекстом и позволяют сосуществование в рамках одного стихотворения плана героя (на уровне текста) и плана автора (на уровне подтекста).
Подтекст у Фроста реализуется через использование полисемии слова, историко-культурные аллюзии (например, название стихотворения «After Apple-Picking» — («После сбора яблок» — одновременно подразумевает и реальный процесс сбора яблок, и состояние человека после грехопадения), метафорическое переосмысление слова. Конкретное действие, мысль, высказывание героя приобретают с помощью авторского подтекста общефилософское значение, и стихи становятся «прояснением жизни» («Clarification of life»). При этом все явления и предметы действительности, отраженной в стихе, не теряя своей конкретно-эмпирической определенности, становятся символически-обобщенными.
В отечественной науке проблема фростовской символики поднималась в статье Т.М. Марченко «Снег в поэзии Фроста — образ или символ?», где символическое значение слова «снег» раскрывается через анализ его семантической сочетаемости в стихотворениях «Desert Plaices» (Дебри), «They were Welcome to Their Belief» (Они были вправе так думать). Статья наглядно иллюстрирует достоинства и недостатки контекстуально-семантического анализа поэтического текста. С одной стороны, четко и неопровержимо доказывается наличие переосмысленного, небуквального значения слова «снег» и его конструирующая функция в стихе, с другой же стороны, особенности и степень символического обобщения действительности через переосмысление понятия «снег» и его главного свойства — «белизны» — неизбежно остаются нераскрытыми. Роль понятия «снег» оказывается практически равнозначной в обоих стихотворениях, хотя в одном случае имеет место философское обобщение этого пейзажного компонента в цепи «снег-белизна-пустота» — отсутствие морального начала во Вселенной (Desert Places), в другом же (They were Welcome to their Belief) метафорическая цепь «снег-белизна-седина-старость» строится на уровне трюизма («снегом убелило голову») и композиционно-идейным центром стиха является, определенно, не эта метафора (которая, по всей вероятности, и не воспринималась Фростом как метафора), а развернутое неметафоризированное суждение: то, что делает с человеком время, нельзя приписывать действию печали и нужды.
В принципе же, метод контекстуально-семантического исследования может быть применен к любому компоненту поэтического пейзажа Фроста, и символическая природа этого компонента может быть показана и таким образом. Наша же статья посвящена не столько доказательству наличия символики у Фроста, сколько анализу ее содержательной стороны.
В лирической по сути своей, т. е. ориентированной на показ внутреннего мира героя через определенное душевное состояние в конкретной жизненной ситуации, поэзии Фроста чрезвычайно редки непосредственные описания душевного состояния, слова эмоционально-оценочного значения. Переживание дается опосредованно, через пейзажную характеристику сцены. Иногда Фрост открыто сопоставляет пейзажные компоненты с психологическим состоянием героя. В строках, обращенных к дереву, он говорит:
That day she put our heads together,
Fate had her imagination about her,
Your head so much concerned with outer,
Mine with inner, weather.
В тот день, когда судьба свела нас вместе.
(Она была полна воображения)
Твоя крона так озабочена погодой снаружи,
(Моя голова — погодой внутри).
В другом стихотворении говорится:
Leaves are all my darker mood.
Листья — это мое мрачное настроение.
Чаще же сопоставление пейзажа с внутренним миром героя остается имплицитным.
Подобная корреляция традиционна для англоязычной лирики, особенно начиная с эпохи Романтизма, но механизм ее осуществления у Фроста принципиально отличается от романтического. Если в романтической поэзии природа становится антропоморфной, ее явления наделяются морально-оценочными характеристиками (это свойство тогдашнего искусства Джон Рескин охарактеризовал как «эмоциональную погрешность» — pathetilc fallacy), то у Фроста, в плане содержания, природа резко обособлена от человека, в плане же выражения, элементы пейзажа оказываются не частью эмоционального состояния и не производным от него, а его «объективным коррелятом». Пейзаж перестает уподобляться человеческому состоянию, а начинает служить его выражением. Фростовский пейзаж, оставаясь контрастным и правдоподобным пейзажем, становится символом психологии героя.
Аналогичные процессы мы находим и в творчестве другого крупнейшего американского лирика XX века — Уоллеса Стивенса, но если у последнего пейзаж полностью интернационализируется, психологические и философские коннотации становятся определяющими в облике предметов и явлений и в описании их свойств (так, предмет, через индивидуально-ассоциативную метафору, оказывается символом какой-либо общей категории, а его свойства существенны лишь как умозрительные свойства этой категории. Например, голубой цвет символизирует воображение, зеленый — действительность, белый — стасис, «застывшее мгновение» и т. д., то у Фроста соблюдается равновесие между предметом как элементом объективной действительности и предметом как психо-философским символом. Если Стивенс реализует миметический принцип своей поэзии только на уровне абстрактных категорий, в качестве декларации примата действительности над воображением и необходимости их союза как поэтического идеала, то у Фроста эмпирическая реальность главенствует и в конкретном. Он оперирует земными образами, которые по мере развития стиха раскрываются и как двойственные символы: душевного состояния героя и философской проблемы стихотворения.
Такую тройную нагрузку выдерживает все, что попадает в поэзию Фроста: действия героя — прогулка, колка дров, починка стены, сбор яблок; другие люди — Батист, Поль Баньян, персонажи стихотворных новелл «К северу от Бостона»; животные. С наибольшей же силой эта тройственность проявляется в повторяющихся элементах поэтического пейзажа — лес, ручей, дом и звезды. Практически, всесторонний анализ этих четырех пейзажных констант означал бы почти всесторонний анализ поэзии Фроста.
Самыми постоянными из этих пейзажных элементов оказываются леса и деревья, рассмотрением которых мы в данной статье и ограничимся. Особую роль лесов в своем творчестве Фрост, придававший огромное значение компановке сборников, подчеркивает и тем, что самый первый стих («Into My Own» — «Уйти в себя») самого первого сборника и последний стих последнего сборника организованы вокруг образа леса, создавая «рамочную конструкцию» ко всему канону творчества Фроста.
Уже в первом стихотворении леса выступают как в качестве объективного пейзажа, так и в качестве важнейшей составной части духовного мира героя.
One of my wishes is that those dark trees So old and firm they scarcely show the breeze Were not, as ’twere, the merest mask of gtoom But stretched away unto the edge of doom.
Одно из моих желаний — чтобы эти мрачные деревья, / Такие старые и могучие, что они почти не колышутся под ветром. / Не были бы, как сейчас, обычной маской тьмы, / А простерлись бы до рокового предела.
Даже в этом качестве леса проявляют себя и как априорно данный психологический факт (as ’twere), и как субъективное волеизъявление (one of my wishes is...).
Во втором четверостишии выступает одно из основных значений лесов — необычайная притягательность их для героя.
I should not be withheld but that someday
Into their vastness I should steal away,
Fearless of ever finding open land
Or highway, where the slow sheel pours the sand.
Меня не удержать — однажды я / Прокрадусь в их беспредельность / Не боясь когда-нибудь выйти на открытое место / Или на дорогу, где медленное колесо осыпает песок.
Сопоставив два четверостишия, мы видим, что это влечение имеет принципиальную особенность: леса притягивают героя не красотой своей, не добрым началом, заложенным в природе, синекдохой, в которой, как справедливо отмечает Лентриччиа, выступает лес, а именно своей мрачностью, преобразованной воображением героя в роковую силу.
Эти темные стороны фростовского леса оказываются необходимыми для становления личности героя, помогают ему обрести веру в себя.
They would not find me changed from him they knew Only more sure of what I thought wgs true...
Обнаружат, что я мало отличаюсь от того, каким они меня знали, / но стал еще более уверенным, что все, что я думал, — правда.
Вся история юношеской любви, изложенная в первом сборнике «А Boy’s Will» (Воля мальчика, 1912), протекает на фоне лесов, и в разных стихотворениях раскрываются разные аспекты этого множественного символа. Лес одновременно коррелируется со внутренним миром героя, с теми его сторонами, в которые нет доступа другим людям, и существует как нечто, обособленное от героя— природа, внешний мир, который находится с героем в отношении притяжения — отталкивания. Сама чуждость, нечеловечность этого мира становятся, по всей видимости, притягательными для героя, наделенного чертами естествоиспытателя, отшельника и аналитика.
Лес оказывается и проекцией сознания героя, и объективной реальностью, связанной с героем отношениями сложными, но до известной степени односторонними, т. е. только героем осознаваемыми. В обеих своих ипостасях леса противопоставлены миру людей. Во всех «лесных» стихотворениях герой всегда одинок. Даже возлюбленная остается ждать его на опушке леса. Единственным звеном, связывающим эти два мира, остается сам герой. Леса, как царство абсолютного одиночества, символизируют лишь часть его внутреннего мира, стремление к отмежеванию от людей и слиянию с природой существует именно как стремление, как потенциал, никогда полностью не реализуемый. Всякий выход героя в лес подразумевает возвращение, так же, как и качание на березах в стихотворении «Березы» подразумевает возвращение на землю. Подобно тому, как в этом стихотворении показана необходимость осуществления идеального и реального, так и в совокупности «лесных» стихотворений показывается необходимость сосуществования человека и природы (именно сосуществования, а не слияния и не размежевания), с другой же стороны, — сосуществования личности и общества (примерно на тех же основаниях). Движение стиха Фроста — возвратно-поступательное. Опасность для человека Фрост видит в крайностях: его герой не может продолжительно существовать в полном одиночестве леса, так же, как и не может находиться в постоянном общении с себе подобными.
Аналогично ставится эта проблема и на уровне индивидуального сознания героя, выступая как конфликт между стихийным и рассудочным, между настроением момента и разумным человеческим поведением. Особенно ярко диалектика этих состояний показана в наиболее известном стихотворении Фроста «Stopping By Woods On a Snowy Evening» (Остановившись около леса снежным вечером), где перед героем открываются две взаимоисключающие возможности: или, оказавшись зачарованным красотой и спокойствием картин, остаться в зимнем лесу, или продолжить свой путь; причем все импликации, связанные с образом леса, явственно проступают в этом стихотворении, и оно может быть прочитано как стихотворение о человеке, природе и обществе, о борьбе эмоционального и рассудочного начал, и даже как стихотворение о «желании смерти» и его преодолении.
О том, как разрешается этот конфликт в стихотворении, единого мнения среди критиков не существует, и обусловлено это блистательной двусмысленностью последнего четверостишия.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Леса прекрасны — темные и глубокие, / Но передо мною — обещания, которые надо выполнить, / И длинная дорога, прежде чем я усну, / И длинная дорога, прежде чем я усну.
Одни исследователи считают, что герою удается преодолеть тяготение лесов и продолжить свой путь, другие же, ссылаясь на повторение последней строки, утверждают, что оно свидетельствует о том, что герой околдован и усыплен красотой леса, и что это — его последние слова перед погружением в сон, последний всплеск прекратившего борьбу сознания.
В контексте всей «лесной» лирики Фроста первое суждение предпочтительнее, так как и чувство свободы, испытываемое героем Фроста через подчинение природе, и радость автономного существования (а все это символизируют леса) осознается поэтом как предверье уничтожения человеческой личности, личности героя, т. е. того, что является для Фроста главной ценностью. Однако само затруднение исследователей показывает, насколько притягательной для героя оказываются и природа, и жажда покоя, и иррациональная сторона собственного сознания.
Фрост, верный завету Хоуэллса «исходить не из тенденции, а из самой жизни», всегда был противником абсолютизации какой-либо одной стороны человеческого опыта в ущерб всем остальным. Ни природа, ни иррациональное начало в человеке, ни противопоставленная природе красота не могли быть для него объектами поклонения. Основным критерием для Фроста была человеческая личность во всей совокупности ее качеств, а то или иное отношение к природе, которая, как отмечал Лайнен, «есть для Фроста образ всего мира обстоятельств, в которых оказывается человек», обусловлено ситуативно.
Леса в поэзии Фроста — синтетический символ объективной действительности и определенных компонентов сознания и психики героя, а в каждом конкретном случае значение символа проявляется в конкретной взаимообусловленности этих двух начал.
Л-ра: Известия АН ТаджССР. Серия: Общественные науки. – 1983. – № 1. – С. 76-82.
Произведения
Критика