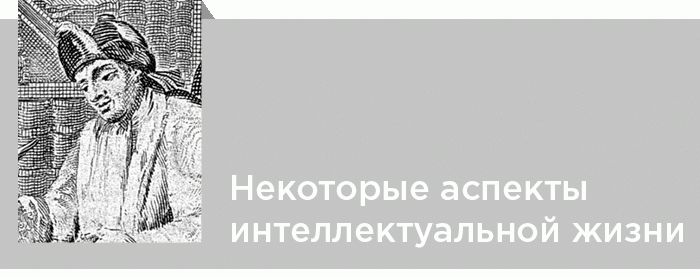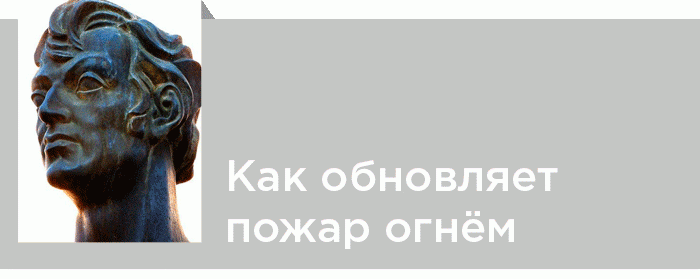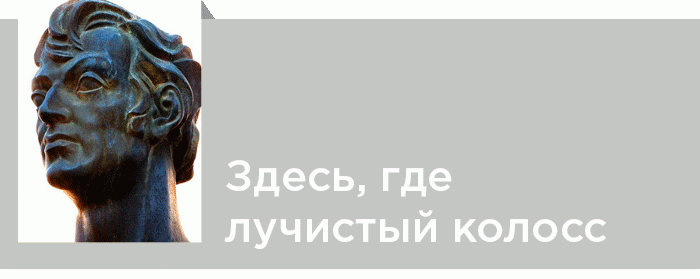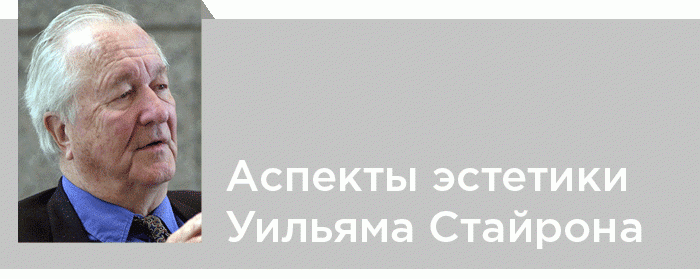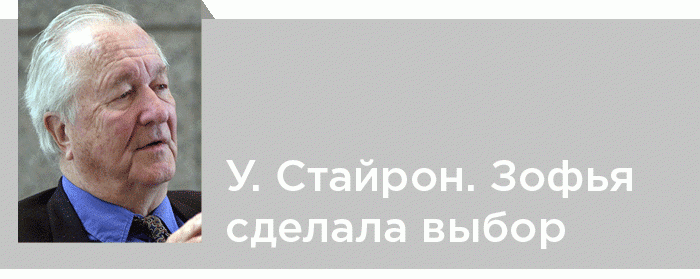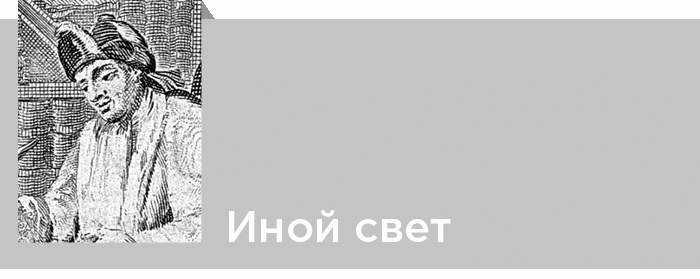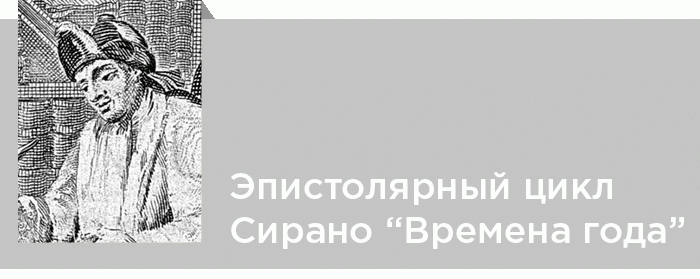Уильям Стайрон. И поджёг этот дом

(Отрывок)
L'ambizione del mio compito non mi impedi di fare molti sbagli.
С любовью и благодарностью моей жене Роз, моему отцу и Уильяму Блекбёрну посвящается эта книга
* * *
Если от провидения Божия, которое печется о жизни всякой былинки, и червя, и муравья, и паука, и жабы, и гада, ни единый луч никогда не упадет на меня; если Бог, который зрел меня, когда я был ничто, и призвал меня, когда меня не было, как будто я был, из чрева и тьмы глубокой, не посмотрит на меня ныне, хотя я, убогая, и отверженная, и проклятая тварь, все равно его тварь и, даже проклятый, прибавляю толику к его славе; если Бог, который взирал на меня в мерзостной моей грязи и, когда я застил око дня, Солнце, и око ночи, Свечу, и очи всего света занавесями и окнами и дверями, все равно видел меня, и видел милостиво, показавши, что видит меня, и приведши меня некогда к нынешнему раскаянию и воздержанию (до поры) от греха, так отворотился от меня к своим славным Святым и Ангелам, что ни Святой, ни Ангел, ни сам Иисус Христос не умолят его посмотреть на меня и вспомнить, что есть такая душа; если Бог, который многажды говорил моей душе: Quare morieris? Зачем тебе умирать? – и многажды обещал моей душе: Vivit Dominus, жив Господь, и ты не умрешь, а будешь жива, не даст мне умереть и не даст мне жить, а оставил умирать вечной жизнью и жить вечной смертью; если Бог, который не мог войти в меня, когда стоял и стучался, войти путем обычным, Словом своим, милостями своими, рассудил иначе, и потряс этот дом, мое тело, судорогами и корчами и поджег этот дом лихорадками и горячками, и устрашил Хозяина дома, мою душу, ужасами и опасениями тяжкими, и так вошел в меня; если Бог, увидя, что тщетно его попечение и намерение обо мне, отверг меня и покинул, будто я ничего не стоил для него; если Бог, наконец, дал душе моей изойти, как дыму, как; пару, как пузырьку пены, и если душа эта не может быть ни дымом, ни паром, ни пеной, но должна лежать во мраке, доколе Господь света есть сам свет, и ни единая искра его света не достигнет моей души, – какой Тофет не Рай, какая Сера не Амбра, какая грызь не услада, какое червя точение не щекотка, какая казнь не ложе свадебное перед проклятием этим: быть отлученну навеки, навеки, навеки от взора Божия?
Джон Донн, настоятель собора Св. Павла. «Графу Карлайлу и его обществу в Сионе»
Часть первая
I
Самбуко.
О поездке из Салерно в Самбуко «Италия» Нэйджела говорит следующее: «Дорога почти на всем протяжении пробита в береговых скалах. Нашим глазам открывается непрестанно меняющаяся панорама лазурного моря, величественных утесов и глубоких ущелий. Из Салерно мы выезжаем по виа Индепенденца. Дорога сворачивает к морю, оставляя внизу Марина-ди-Вьетри. Вновь выехав на побережье, мы любуемся роскошными видами Салерно, Марина-ди-Вьетри, двух скал («Due Fratelli») и Райто. За поворотом перед нами внезапно возникает живописный городок Четара (7 км). Мы возвращаемся к морю, затем огибаем сумрачное ущелье Эркье и вновь приближаемся к морю у мыса Томоло. Выехав из теснины с высокими каменистыми стенами, мы видим Минори и Атрани и высоко над ними – Самбуко. За Атрани дорога уходит в сторону и поднимается по долине Дракона».
О самом Самбуко путеводитель Нэйджела рассказывает в свойственном ему лирическом тоне: «(311 м над ур. моря) городок своеобразного вида и очень красиво расположенный: контраст между его заброшенностью и очаровательным пейзажем вокруг, между развалинами его древних дворцов и веселыми садами производит большое впечатление. Основанный в IX в. при правлении Амальфи, Самбуко в XIII в. переживал расцвет».
Самбуко действительно уже не процветает, но из-за своего географического положения живет благополучнее большинства итальянских городков. В прекрасном одиночестве раскинувшийся над кручей, обособленный и труднодоступный, Самбуко являет собой образец неуязвимости – во всяком случае, это один из немногих итальянских городов, не пострадавших от бомбежек и нашествий последней войны. Если бы Самбуко лежал на каком-нибудь важном стратегическом направлении, ему бы не так повезло, и раньше или позже он, как Монте-Кассино, подвергся бы безобразным разрушениям. Но война не затронула его, почти не заметила, и его дома, дворики церкви, пусть обглоданные нищетой, по сравнению с другими городами этой области пребывают в гордой, даже несправедливой сохранности – подобно здоровому и бодрому человеку в толпе изувеченных, недужных ветеранов. И может быть, как раз из-за его обособленности, из-за того, что там не косила война и не всходила отава послевоенных печальных жестокостей, события недавнего лета показались всем вдвойне ужасными и отвратительными.
Чтобы меня сразу не обвинили в напыщенности, скажу, что этими событиями были убийство, изнасилование, тоже повлекшее смерть, и ряд других инцидентов, не таких страшных, но мрачных и угнетающих. Произошли они – по крайней мере завязались – в Палаццо д'Аффитто («любопытном ансамбле арабо-норманнских строений, живописно обрамленном пышной растительностью. Из сада, разбитого террасами, открывается чудесный вид»), а участниками были многие местные жители и по меньшей мере трое американцев. Один из американцев, Мейсон Флагг, погиб. Другой, Касс Кинсолвинг, живет и здравствует, и если в моем рассказе есть герой, то лучше всего для этой роли годится он. Во всяком случае, не я.
Меня зовут Питер Леверетт. Я белый, протестант, англосакс, вырос в Виргинии, разменял четвертый десяток; здоров, внешности пристойной, хотя без романтического налета; склонен к упорядоченной жизни, любопытен более обычного и особый интерес питаю к лицам другого пола – впрочем, этой мыслью тешит свое тщеславие всякий нормальный молодой человек. Последние несколько летя жил и работал в Нью-Йорке. Без гордости и огорчения признаюсь, что я человек не современный – в нынешнем, расхожем значении слова. По профессии – юрист. Я достаточно честолюбив и хочу преуспеть в своем деле, но пробивным назвать себя не могу, быть, когда нужно, покладистым, когда нужно, ухватистым не умею и боюсь, что не превзойду того сносного, посредственного уровня достижений, на котором застревали все мои предки, как по отцовской линии, так и по материнской. Это не цинизм и не самоуничижение. Я реалист и на основании кое-какого опыта хочу сказать вам, что право – даже в моей тускловатой области, где на карту ставятся только гражданские иски, да завещания, да договоры, – требует такой же юркости и оттирания добрых приятелей, как всякое другое дело. Нет, это не для меня. Я поладил со своей, так сказать, судьбой и стараюсь ей радоваться. Может быть, радости моя работа приносит меньше, чем сочинение музыки – к чему я тоже в свое время примеривался, – зато она в несколько раз прибыльнее; притом композиторов в Америке не слушает никто, а закон, под сурдинку, но завораживающе и властно, наигрывает свою музыку в душах людей. По крайней мере мне бы хотелось так думать.
Несколько лет назад, когда я вернулся из Италии, из Самбуко, и поступил в нью-йоркскую фирму (второразрядную, что греха таить, и не на Уолл-стрит, а в нерасторопной близости от нее, в связи с чем наши конторские остряки предлагали лозунг «Пройдешь квартал – сбережешь капитал»), – несколько лет назад я был в очень тяжелом состоянии. Смерть приятеля – особенно такая, какая выпала Мейсону Флаггу, особенно когда тебе пришлось быть ее свидетелем, самому видеть кровь, месиво, суматоху, – от этого так просто не отделаешься. Даже если – а считал я именно так – тебе чужд и сам приятель, и все, что за ним стоит. До смерти Мейсона я еще дойду и, надеюсь, опишу ее со всей необходимой правдивостью; сейчас скажу только, что она основательно меня ушибла.
В то время меня преследовали сны о предательстве, измене – такие сны натекают потом на день. Один я особенно запомнил; как большинство свирепых кошмаров, он имел обыкновение повторяться снова и снова. Мне снилось, что я в каком-то доме, ложусь спать; глухая ночь, ледяная, бурная. Вдруг я слышу шум за окном, зловещий звук, непохожий на шум дождя и ветра. Вижу там тень, кто-то шевелится, неясная фигура, зловещий ночной гость подкрадывается ко мне. В страхе хватаюсь за телефон, позвонить соседу-другу (моему лучшему, последнему, ближайшему другу – кошмар изъясняется только превосходными степенями): он, он один, близкий, хороший, поможет мне. Но никто не отвечает на мои захлебывающиеся звонки. И, бросив трубку, слышу – тук-тук-тук в окно, поворачиваюсь, и за рыбьим дождевым стеклом – заголившаяся в адской злобе, кровожадная, страшная харя этого самого друга…
Кто предал меня? Кого я предал? Я не знал, но был уверен, что это как-то связано с Самбуко. И хотя я не очень горевал по Мейсону – пусть это будет ясно сразу, – я был подавлен, страшно подавлен тем, что произошло в итальянском городке. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мучило меня вот какое подозрение: конечно, я не виноват в смерти Мейсона, но что, если я мог ее предотвратить?
Однако природа умеет сладить с самым черным нашим унынием. Постепенно, потихоньку, незаметно для меня самого мои воспоминания бледнели и расплывались, и спустя недолгое время я почти успокоился. А через несколько месяцев даже обручился. Ее звали Анеттой, она была красива – и вдобавок богата.
Уныние мое рассеялось, а любопытство и недоумение – нет. Я узнал, что останки Мейсона через много месяцев были вывезены из Италии, которую он терпеть не мог, и покоятся теперь – если о Мейсоне, даже мертвом, можно сказать «покоится» – где-то в американской земле. Кажется, в штате Нью-Йорк, а город называется Рай, но это не так важно. Я узнал, что девушка-итальянка, которую он, по-видимому, изнасиловал и избил, тоже умерла (в ту ночь я видел ее несколько секунд, девушка была редкой, удивительной красоты, и из-за этого, наверно, несчастье подействовало на меня еще тяжелее). Я узнал также, что дело – tragedia, как называли его неаполитанские газеты, – было закрыто: оба главных действующих лица решительно и бесповоротно скрылись под землей, и для ищеек, сплетников и просто любопытных поживы почти не осталось. Хотя фамилия Флагг пользовалась известностью, даже нью-йоркские газеты, как выяснилось, не мусолили эту историю: Самбуко – не ближний свет, а главное – не нашлось человека, который выставил бы его вину и позор на обозрение стервоядным. И если не считать того, что я был тогда в Самбуко, я знал об этом кровавом происшествии не больше рядового пассажира метро.
С одной только разницей: кое-что я знал, и это не давало мне покоя, хотя сама похоронная хандра давно прошла. Кое-что я знал, и пусть я знал немного, и не так даже знал, как подозревал, – мое любопытство и недоумение питались этим еще целый год. Но и любопытство наверняка прошло бы, если бы я не наткнулся однажды в воскресенье на карикатуру в «Нью-Йорк таймс»…
Всякому, кто жил один в нью-йоркской квартире, знакома эта особая воскресная атмосфера. Позднее, медленное пробуждение в неожиданно тихом городе, чашки кофе, многотонные вороха газет, ощущение вялости и скуки, залитые солнцем дворы, где жмурятся и потягиваются кошки под заборами, да кружат голуби, да церковный колокол грустно и безнадежно роняет в тишину удары. Это время настоящего оцепенения и вместе с тем смутного, но неуемного душевного зуда и беспокойства: причину его я так и не смог ухватить – но не в том ли она, что среди этого самого публичного из городов ты вдруг остался наедине с собой и вечные вопросы: Что я делаю? К чему иду? – наседают на тебя так, как не могли бы насесть в понедельник? То воскресенье, о котором идет речь, было в конце весны – неподходящая пора для самосозерцания. Моя девушка поехала к родителям в Паунд-Ридж, друзья были кто в отлучке, кто нездоров, и я, уже застегнув воротник, чтобы прогуляться в одиночестве по Вашингтон-сквер, просто от нечего делать взял в руки первую тетрадь «Таймс». Очень может быть, что и в этот день я думал о Самбуко, перебирал старые огорчения и сожаления и даже корил себя без толку. Не помню точно, но знаю, что, когда я увидел карикатуру и ясную подпись в нижнем углу К. Кинсолвинг, сердце у меня заколотилось, память выхватила меня из настоящего и легко, как пушинку, вынесла в Самбуко. Все те дела нахлынули на меня снова, но без жути теперь, без мурашек. Из дому я так и не вышел. Я разглядывал рисунок – это была перепечатка из газеты города Чарлстона, Южная Каролина. Я разглядывал рисунок и подпись, я ходил по комнате, курил сигарету за сигаретой, так что щипало десны, я смотрел в окно на тихие воскресные садики (скоро их не останется в Гринич-Виллидже), на голубей, смотрел, как пьют пиво люди в рубашках навыпуск, как шныряют коты. Когда стало смеркаться и через дорогу долетел стук тарелок – там собирались ужинать, – я сел и написал Кассу письмо. Кончил я в полночь. Я ничего не ел и падал от усталости. Во втором часу ночи я пошел в «Белую башню» на Гринич-авеню и съел две булки с котлетами. На обратном пути бросил в ящик письмо – вернее, не столько письмо, сколько документ, – в адрес чарлстонской газеты, для К. Кинсолвинга.
Он не спешил с ответом. Я подождал месяц, потом еще несколько недель, и наконец в июле, когда я уже собрался с духом, чтобы написать второе письмо, ответ пришел:
Дорогой Питер,
конечно, я Вас помню и рад, что Вы объявились. Вы правы, я думаю, К. Кинсолвингов не так уж много. Рад, что Вам понравилась карикатура, и очень удачно, что Вы наткнулись на нее в «Тайме» – хотя бы потому, что благодаря ей Вы разыскалименя и прислали такое милое письмо. Я тоже доволен карикатурой и, хотя вообще политику презираю, считаю, что хорошо вмазал вашингтонским лицемерам. Что касается Вашего вопроса, карикатуры для меня – приварок, а не главная работа, я получаю полставки на здешней сигарной фабрике и веду класс живописи, хотя сейчас, под конец лета, и там и там затишье. Но к карикатуре свысока не отношусь, кто знает, может, это и есть Истинно Американский Жанр (кроме шуток), а свою родословную веду по прямой от Домье и Роулендсона, кроме того, за штуку платят $35 и больше, а они, как говорится, на улице не валяются. Поппи тоже работает, бухгалтершей на военной верфи, а за детьми, когда они не в школе, смотрит очень хорошая цветная женщина, так что, может, мы кусаем от оковалка пониже, чем другой знаменитый каролинец, Б. Барух, жаловаться нам грех. Все свободное время я пишу, и весь этот столбняк и угасание души, которые Вы наблюдали, более или менее прошли.
Питер, всегда хотел поблагодарить Вас за то, что Вы сделали в Самбуко для Поппи и всех нас. Она рассказала мне обо всем, что Вы сделали, и теперь я должен был бы просить прощения и неубедительно оправдываться тем, что не знал, как Вас разыскать в Н.-Й. Но это будет неправдой, поэтому я просто говорю еще раз спасибо и надеюсь, что Вы поймете.
Я тоже хорошо понимаю Ваш интерес к М. и Ваше желание побольше узнать о делах в Самбуко. Но мне ужасно трудно говорить и даже думать о М. и о том, что там было, а писать тем более. А все-таки, знаете, странно – вот и Вы не возьмете в толк, что произошло в Самбуко, и я тоже иногда спрашиваю себя, кто такой был М., то есть именно КТО, и что его грызло, и почему он так кончил.
Думаю, этого никому не понять, и, наверно, это все к лучшему, как ни посмотри. Вы правильно «предполагаете», что меня там припекло. Кажется, я довольно близко подошел, что называется, к краю, но сейчас, по-моему, все ничего. Кстати, за 2 года капли пива в рот не взял. Это очень облегчает чтениеСофокла, а сейчас я уже начал продираться через Шекспира, заполняя в моем преклонном возрасте пробелы американского всеобщего образования.
Если будете в наших краях, Питер, непременно дайте о себе знать. Мы живем у Батареи, в 200-летнем доме, платим за него недорого, и для гостя места у нас сколько угодно. Поппи вспоминает Вас с нежностью, ребята тоже.
Molti auguri,
Касс
Я никогда не верил этой фразе: «Если будете в наших краях» – и сам несколько раз отделывался сю в скользких положениях, сознавая, что чувства, скрытые за словами, слишком очевидны. Фраза вежливая, дружелюбная, но она определенно не упрашивает и не умоляет. Это совсем не «Рад буду видеть Вас» и так же далеко от «Приезжайте, пожалуйста, я по Вас соскучился», как простая любезность от любви. Однако по письму Касса я почувствовал, что его не так уж удручил бы мой приезд, – наоборот, коль скоро речь зашла о Мейсоне, ему, пожалуй, хочется увидеть меня не меньше, чем мне его. В сентябре мне предстоял трехнедельный отпуск. Первую неделю я собирался провести с моей девушкой Анеттой (есть что-то необратимое и предрешенное в слове «невеста») в Белых горах. А на оставшиеся две хотел поехать к родителям в Виргинию: между нами, правда, никогда не было очень большой близости, какая бывает в других семьях, но оба, и отец и мать, состарились, прихварывали, и в их письмах сквозила такая усталость и грусть, что я затосковал по ним. И намерения у меня – я сразу сообщил о них Кассу – были вот какие: пока я гощу у родителей, слетать из Норфолка в Чарлстон и на два выходных дня обременить Касса своим обществом. Я не рассчитывал остановиться у него, несмотря на подразумеваемое приглашение. Удобны ему такие-то числа? Не закажет ли он мне номер в гостинице? Удивляться мне, конечно, не следовало, однако я был удивлен: Касс не ответил вообще.
Наше – мое и моей ослепительной Анетты – пребывание в Нью-Гемпшире было полной и окончательной катастрофой. Не буду углубляться в это и скажу только, что шел дождь, что мы протянули два дня и что покидали под ливнем нашу горную хижину, уже разорвав помолвку. Физиология тут была ни при чем. Мы просто решили, что не созданы друг для друга. При расставании оба храбрились, но роман, как некое чудо пластической хирургии, – это живая ткань, приживленная к другой ткани, к кончать с ним – значит отрывать от себя большие куски и клочья. Я отправился в Виргинию в угрюмом, траурном настроении, с чувством невыносимой утраты.
О поездке в Виргинию, пожалуй, стоит сказать чуть больше. В Америке ничто не остается постоянным надолго, но я никогда не думал, что приличный южный город может стать таким огромным, зализанным и похожим на шута, как мой родной Порт-Уорик. Конечно, он всегда был городом верфей и портом (представьте себе Тампу, Пенсаколу или ржавые пирсы Галвестона; если вы их не видели, сойдет Перт-Амбой) и в официальной пропаганде никогда не значился украшением Матери Штатов; но в детстве я узнал тихое обаяние взморья, услышал запах океанских ветров, вволю посидел под гигантскими магнолиями, нагляделся на то, как уходят в море чумазые грузовые суда, – короче, окунулся в самобытную романтику города. Теперь магнолии вырублены и там проходит приморское шоссе; всюду возникли торговые площади, сизые от выхлопного дыма и оцепленные универсамами, гектары и гектары телевизионных антенн над ступенчатыми крышами, и – может быть, самое худшее – исчезли паромы до Норфолка, эти низкие дымящие корыта, в которых был свой неповторимый грузный шик, а вместо них янки соорудили трехкилометровый автомобильный тоннель, просунувшийся смрадным белым рылом под илистое дно пролива Хэмптон-Роудс. Прыткий и воспаленный, хмельной от собственного преуспеяния, запруженный кочевниками, людьми без роду и племени («Выскочки, – сказал отец. – Мальчик, ты наблюдаешь гибель Запада»), город показался мне чужим и вместе с тем до оскомины знакомым – близнецом какого-нибудь Бриджпорта или Йонкерса. Оторопь, тревога, невыносимое ощущение сдвинутости мира, которое мне редко приходилось испытывать с такой остротой и до этого, и после, – все говорило о том, что я не смогу остаться здесь надолго; и в самом деле, я чуть не уехал в первый же день, когда, в смутной панике, разыскивая хоть какое-нибудь знакомое место, брел в мягких сентябрьских сумерках берегом реки и вместо широкого зеленого луга, исхоженного вдоль и поперек (он назывался «Казино», и под вечер его обступали тени шелестящих платанов; там была эстрада для оркестра, а мимо текла широкая теплая Джемс-Ривер, и в ней купались звезды; там мы до темноты играли в бейсбол, а негры в рубашках продавали арахис и вареных крабов, покуда не смолкал щебет последнего кларнета и все замирало, кончалось, только пары гуляли под деревьями, да сыпались в тишине шарики платанов, да свистел пароход, выходя в море). – Вместо луга я увидел рычащий автовокзал и диковинное приземистое ромбовидное здание, все в зеленой плитке, где обосновались мозольный оператор, психоаналитик без степени и – что еще сказать об угасании Юга? – целая контора консультантов не то контрагентов по информации и рекламе.
Но все это слишком известно, и нет надобности распространяться дальше. У нас в Америке не уследишь, как быстро меняются, сдвигаются и пропадают наши межи и вехи. Только что ты прочно стоял на земле и дорожка опыта была изучена до последней ворсинки; вдруг словно фокусник выдернул ее из-под ног, а когда ты опять приземлился, ты оказываешься – где? Да, конечно, на той же самой улице. Только теперь у нее не раскатистое, звучное название Банкхед-Магрудер-авеню, дорогое всем, кто помнит этого солдата, связавшего порукам Макклеллана, а Буэна-Виста-Террас («Калифорнийское поветрие, – пожаловался отец, – подожди, оно нас всех доконает»); через дорогу необъятный зев афиши (законы о границах застройки смяты; здесь, бывало, перистым утром мы качались на виноградных лозах) велит нам «Слушать Джека Эйвери, любимого диск-жокея Виргинского взморья», и, хотя нас смутно трогают эти признаки роста, прогресса, мы ощущаем пустоту и уныние. Ностальгия наша не беспредметна. Только дураки сокрушаются о переменах как таковых; но в этом «разграбленном городе», по выражению отца, немало найдется дураков, которые на смертном одре будут стонать о своей непричастности к всеобщему осквернению. «Верните зелень, верните листья! – вот что они запоют, – сказал отец. – Вот что они запоют, когда станет меркнуть свет. А получат они вот этого вот Эйвери».
На четвертый или пятый день после моего приезда отец, ушедший с верфи на пенсию, долго катал меня по городу на своей машине. Мы ездили по всем старым улицам, часто неузнаваемым (самые большие и древние деревья, как видно, становятся первыми жертвами градостроительного восторга: не только магнолии, но и дубы и вязы пали, уступая место, например, первой на Юге церкви Пятидесятницы, вдохновленной Баухаузом), мы запивали свиные ножки пивом в засиженном мухами ресторанчике Джека Эйзенмана, который посреди Само-стиров и Скоро-питов одиноко противился переменам, противился неону, пластику и хрому, новой гигиене и новой клиентуре (старая молодая братия, пожелтевшая и полысевшая, до сих пор терлась здесь, между бильярдных киев и зацветших ярь-медянкой плевательниц, до сих пор трепалась про баб, белых и черненьких, но теперь вдобавок и про другую акробатику, законодательную, гордость виргинских ликургов, – интерпозицию, которая поставит нашего негра на место), а после, слегка разомлев от пива и жаркого сентябрьского солнца, полюбовались из машины на порт и медленно покатили по берегу картинно-голубого залива. Был ясный день, с легкой дымкой вдали, где стояли на якоре гигантские серые крейсера и танкеры, но все равно прозрачный, волшебный, пропахший солью, искрящийся белыми чайками. Мы проехали мимо пляжа, где мальчишки с грязными ногами собирали ракушки, а малыши рылись в песке под надзором мам и пухлые мамы в косынках лоснились от крема, как тюлени. Вдалеке катер беззвучно резал воду на две серебряные арки брызг. В коротком забытьи меня обступили впечатления давних лет: хлопанье паруса, запах смолы, прохладная шершавость ракушек с песком на ладони – и этот неизменный мир приморского детства вот здесь, вот сейчас словно отводил от себя мародерскую лапу прогресса. Мы остановились перед светофором – с визгом; это было в духе отца – тормознуть так, чтобы мурашки по спине, чтобы ни сантиметра в запасе, – на волосок от вечности.
Когда мы остановились, он сказал:
– Питер, ты как приехал сюда – все время киснешь. Неприятности? По женской линии?
Что я мог ему ответить? Ида, и нет: конечно, по женской и вместе с этим кое-что другое, поглубже и поядовитее, – но про Самбуко я еще никому не рассказывал и сейчас тоже не смог. Я промямлил что-то насчет влажности.
Тогда (чутье ему не изменило) он сказал:
– Я знаю. Знаю, Питер. В жалкое время живем. – Зажегся зеленый свет, и мы рванули с места. – Жалкое время. Пустое время. Серое время. В воздухе прямо пахнет гнилью. А главное – будет еще хуже. Это ты понимаешь? Почитай Карлейля. Почитай Гиббона. Возьми время вроде нашего, когда люди блудят с фальшивыми богами, когда второй от конца – это уже первач, когда кидаются на все, лишь бы было новым, гладким, забористым, – и к чему ты в конце концов приходишь? К моральной и духовной анархии, вот к чему. Потом – к политической анархии. А потом? К диктатуре! У нас в штате мы ее получили, – добавил он и выплюнул имя здешнего проконсула, чьи дела питали его возмущение вот уже тридцать лет.
Редкий и удивительный человек мой отец. Родись он на Севере, он мог бы, я думаю, стать радикалом старой закваски. А так – добрый англиканец, волей обстоятельств очутившийся в самом жестоковыйном приходе по сю сторону Кентербери, – он умудрялся поддерживать шаткое равновесие между своей искренней набожностью, с одной стороны, и широкими человечными взглядами – с другой, и эта трудная работа сделала его, наверно, единственным подлинным либералом из всех, кого я знал. Быть таким в Нью-Йорке – проще простого, но на Юге это не всякому крепкому человеку по плечу. Он жаждал мудрости, понимания, как другие жаждут известности и денег, и думаю, что в большой мере достиг и того и другого. Он был одним из немногих в Порт-Уорике, кто прочел на своем веку книгу. Возраст чуть согнул и подсушил его – но не жизнь, и в моих глазах он вырастал все больше. Я никогда не встречал более порядочного человека, и если в последние годы речи его иногда бывали раздраженными, нравоучительными и многословными, то я могу это понять, ибо предмет его гнева – низость и лицемерие – стал непомерным даже для человека его стати. «Сын, жизнь есть поиски справедливости», – сказал мне этот старый чертежник и даже не подумал смутиться перед огромностью своего изречения. Теперь я знаю: он ее так и не отыскал; но гораздо важнее, наверное, то, что в своих одиноких поисках он шел через погибели любви, через скорби радости.
– Кажется, Питер, я становлюсь парией в этом городе, – продолжал он (мы уже два квартала ехали на второй скорости, и мне пришлось напомнить ему, чтобы он переключил), – кажется, я привык давать волю языку, но вот уже скоро сорок лет, как я пытаюсь сказать им правду. И что получается? А вот что получается. Является этот невежда генерал с младенческой улыбкой, который приобретает веру и читает книжки про ковбоев, и они выбирают его президентом. А между тем кому они раньше всего обязаны своими красивенькими домиками, своими «бьюиками»? Никакому не генералу. Франклину Рузвельту – вот кому, и они тут же отрекаются от его принципов, от его стараний сделать жизнь лучше – стоило только появиться этой широкой улыбке с пятью звездочками и пообешать им, что с ними ничего не будет, что у них никто не отнимет их побрякушки и безделушки, к которым они приросли пуповиной, что они вечно будут сытыми баловнями и чем старше, тем дряблее, глупее, тупее. Но им, видишь ли, и этого мало. Им подавай все. И вот в штате они раз за разом выбирают этого яблочника-миллионера, который обещает им хорошие дороги и паршивые школы, а главное – что негр никогда не получит того же, что они. Мм-м. – Он угрюмо сжал губы и помотал головой. – Иногда я думаю, что стоики были правы. Хороший выход – перерезать себе горло, коли иначе нельзя.
Я отвел глаза от залива и повернулся к нему. Было в этом что-то здоровое, очищающее: в нашу эпоху наевшихся и молчаливых послушать, как мечет громы старый отступник.
– Нет, больше я с ними не разговариваю, – заключил он. – Пошли они к такой-то матери на легком катере – от Альфреда Леверетта они не услышат больше ни слова. У меня с ними – все! – Он сделался красным как рак, оглушительно рыгнул, и я испугался за его сердце.
Некоторое время мы ехали молча. На горизонте высоко над восточным берегом набухли грозовые тучи, и седая спутанная борода ливня, свесившись с них, дымными клочьями мела море. Вдалеке наклонился белый парус, почти лег на воду и медленно выпрямился: порыв ветра пролетел дальше, стаскивая за собой синюю рябь. Тут в потрохах нашей машины, «гудзон-хорнета» выпуска 1948 года, ковылявшего к ветхому возрасту, возникло нехорошее чириканье (я краем уха услышал его еще накануне), но отец в глубокой задумчивости, словно какой-нибудь Иеремия над пепелищем своего бессилия и мрака, щурился на закат и не обращал на шум внимания. Он был членом приходского управления. Он горбился. Он носил бифокальные очки, нос у него был костистый и крючковатый. Я увидел, как он зашевелил губами, беззвучно складывая слово. Оно сгустилось в слабый, неоперенный шепот: сброд.
– Иногда мне кажется, что мы – страна детей, – сказал он, – детских маленьких умишек. То, что сделал Верховный суд… у него на это было столько же права, сколько у меня – учить жить араба или китайца. Да и само решение – какая бездарность и убожество! Мы еще будем страдать и страдать от этого. Ведь люди здесь – они не понимают, что негр должен получить справедливую плату, хотя бы за столько лет рабства. Погляди, Питер. – Он показал на искрящуюся воду. – Вот куда их привезли в 1619 году. Как раз сюда. Это один из самых печальных дней в истории человека – и черного и белого. Мы еще платим за этот день и будем платить дальше. И кровью и слезами. – Он отер лоб. Я посмотрел на восток. Солнце спряталось за облаком, опять выглянуло, и мне вдруг померещилось, что я вижу, как те голландские галеоны с черным товаром валят к мутному устью реки Джемс.
– Куда! – вырвалось у меня. Он чуть не завез нас в канаву. Струи горячей пыли хлынули в кабину, и щебет под капотом стал сбивчивым и недужным.
– А надо стране, – продолжал он, снова овладев машиной, – этой большой стране надо, чтобы с ней что-нибудь случилось. Буря, трагедия, как с Иерихоном и городами Ханаана, что-нибудь ужасное, понимаешь, Питер? – когда люди пройдут через огонь, через пекло, когда отведают муки и хватят горя, они снова станут людьми, человеками, а не стадом благополучных, довольных свиней у корыта. Не шушерой, без разума, без духа, без сердца. Торговцы мылом! Жалкое время – все прошло на моих глазах. Мы продали свое первородство, и старик Том Джефферсон переворачивается в гробу. Продались с потрохами – а за что продались, я спрашиваю? За кучу никелированного детройтского хлама, склеенного жвачкой и слюнями! – Красный и потный, он топнул по полу. – Ты только послушай – скрипучая жестянка! Совершенно косный и непотребный хлам. – Он снова топнул по полу. – Что же, по-твоему, разладилось? – спросил он ворчливым голосом.
– По-моему, тебе пора сменить кольца, – сказал я с видом знатока.
– Да ничего подобного, нам надо все начать сначала, строить заново, с первого этажа. То, что творится с этой страной, было бы позором для Римской империи в эпоху самого глубокого упадка. У наших отцов-основателей были благородные мечты, и поначалу, мне кажется, они сбывались. За исключением разве негра, простые люди получили свободу, какая им и не снилась, – свободу, сытое брюхо, право искать такого счастья, какого ты хочешь. Можетбыть, это была самая большая, самая благородная мечта, какую знало человечество. Но где-то по пути все пошло вкривь и вкось. Черт возьми! – сказал он и наклонился вперед, навострив уши. – Что-то испортилось. Простой человек набил брюхо, но кем он стал? Он перестал быть благородным божиим созданием – он просто простой, и все тут. Мудрости и достоинства он не нажил. Нажил только пузо и кошелек. Он отрекся от своего Создателя – в воскресение подмазался к Истинному Богу, отбубнил что положено, а душой служит одному только всемогущему доллару. Он обобрал целый континент, выкачал недра, извел все живое, всю красоту. Мудрость всех веков, все, чему учили предки, для него пустой звук. Он плевал на своего черного брата, он испортил глаза, сидя перед телевизором, он спал с женой лучшего друга в загородном клубе. Он напридумывал чудодейственных лекарств, чтобы продлить жизнь, – и что же? В семьдесят лет от него осталась пустая шелуха, начиненная нечестным барышом и мусором грехов, он боится смерти, он лежит и жалеет себя на каком-нибудь пляже в Майами. Шелуха. Питер! Я знаю, о чем говорю! И знаешь что? Наступит Судный день… наступит Страшный суд, и всеблагой Господь взглянет на эту шелуху и скажет: «И ты еще требуешь спасения, мой друг?» И спустит его с крыльца и крикнет вдогонку: «За то, что продался мамоне! За то, что душу на мошну променял и от моей любви отрекся!»
Его грустные дряблые щеки дрожали от гнева, к слезы негодования застилали глаза. Я успокоительно похлопал его по руке и попросил не волноваться; потом возле нового жилого квартала заставил его свернуть к заправочной станции, и там, шебеча и чирикая, как целый птичник, мы остановились.
Дело было не в кольцах, а в масле – масла у него не осталось совсем. «Машина без масла не ходит, мистер Леве-ретт», – подмигнув мне, сказал механик, когда отец вылез; а меня обожгло воспоминание об этом месте, и я откинулся на спинку. От слов отца меня взяла тоска. Я ощущал себя усталым, вымотанным – прежде времени стариком, – и чувство полного отчуждения накатило, как внезапная острая боль: я словно потерял самого себя и не понимал, кто я, где я был раньше, куда иду. Настроение было не мимолетным; усталость, досада, апатия охватили меня. А час, оказывается, был поздний, день гас, смеркался, и сырная корка молодого месяца плыла в вышине над заливом, над Норфолком, а над спадавшей водой мигали бакены и стояночные огни больших кораблей. Я слышал свистки буксиров, а позади – глухое громыхание и возню разросшегося города, который раньше, даже в такой час, когда все расходятся по домам, не терял спокойствия и безмятежности. Я сидел в машине, смотрел, как отец болтает с механиком («Родственники? – говорил он с добрым старческим воодушевлением. – Вы тоже из Нансемонда? Так как же нам быть не родственниками!»), и память вдруг крикнула мне, где мы находимся. Потому что здесь задолго до того, как были осушены эти гектары соленой болотистой низины, до появления алебастрово-белых бульваров без единого деревца, пригородныхдомиков и зеленых лужаек, где играют дети, – прямо здесь, на глубине нескольких метров под фундаментом вот этой самой станции обслуживания, я когда-то стоял по колено в прохладной песочно-серой соленой воде, ловил раков, и здесь же в возрасте двенадцати лет я тонул.
На этом месте я пошел ко дну, в сумятице пузырей, со шлейфом водорослей, которые судорожно зажал в руках, и выбрался на поверхность посреди приливной бухточки, извергая воду, как кит, барахтаясь и задыхаясь от внезапной бурной любви к ускользающей жизни, и негр-краболов, вставший над водой черным, милосердным и потным Христом, втащил меня за волосы в свою лодку. Меня выпороли; несколько дней у меня из ушей вытекала вода; отец вознаградил рыбака деревенским окороком и пятью серебряными долларами – в те кризисные годы такая плата, даже спасителю, превышала его возможности, – и, хотя мне запретили приближаться к этому месту, я все лето украдкой бегал сюда, один. Потому что все здесь – бухточка и торопыги-раки, топкий берег, солнечный свет, мелькание чаек и раскоряченная над осокой трамвайная эстакада, трезвон и лязг трамвая, который вдруг вылетал на болото, громыхал по эстакаде, уносился под осыпью трескучих искр, и его электрическое завывание втягивалось будто в бесконечность или в нутро самого времени, чтобы оставить после себя только берег, полдень, желтое, сонное с треньканьем насекомых безлюдье, – все это было одушевлено таинственным ощущением бренности. Бывает, что давно знакомый отрывок музыки ты вдруг услышишь новым ухом, и он врывается в тебя уже не мотивчиком, не мелодией, а чистым бессловесным изъяснением переполненного сердца – вот так же и это место открылось мне в светах и тенях, о каких я прежде и не подозревал, в новых титанических измерениях, и я убегал к нему, дрожа и обмирая. Здесь было отнято у меня детское представление, что я буду жить вечно; здесь я узнал о непрочности – не столько своего даже, а всякого – бытия, и по этой причине место, хотя и страшное, зловещее, облеклось новой, необъяснимой красотой. И, тайком захватив завтрак, я приходил сюда изо дня в день. Я лежал ничком в осоке под жарким солнцем, трогал раков палкой, смотрел, как они удирают, мечтал и думал. С железным жужжанием и звяканьем проезжал трамвай и пропадал в полуденной тишине. Белые чайки мелькали в небе. Черные рыбаки в лодках кликали ветер голосами псалмопевцев – и вдруг все затихало. И в этой тишине, перед новым желтым миром, раздувшись от ситро и бутербродов с майонезом, я содрогался от того, что узнал о тленности жизни.
И все-таки на том же месте много лет спустя я подумал: нет, ничто не может быть так стерто с лица земли. В правнуках моих самый даровитый археолог будет биться понапрасну, чтобы прозреть то нагретое солнцем болото, тот ручеек, тех раков, тот звонкий трамвай. Исчезло все. Не то чтобы изменилось, преобразовалось, преобразилось, поступилось границами или очертаниями (новая поросль здесь, лысина вместо поросли там, ива раскинулась пошире, заливчик врезается поглубже), но осталось узнаваемым, устойчивым, подобным себе – мое болото исчезло, растаяло как дым, от него не осталось и следа. Сколько тонн земли, песка, камня, щебня, шлака и доброго порт-уорикского мусора понадобилось для этого изумительного уничтожения, сказать трудно, но работа была сделана на совесть и до конца. Под всем этим – один приморский пейзаж, погребенный навеки. Вокруг нас – затейливые шоссейные развязки; на лужайках-ступеньках, присевши в полутьме, шеренга над шеренгой, – полк карликовых домиков, именуемый (почему?) «Усадьба Глендора». Машины с хвостовыми плавниками, каждая больше домика, тяжеловесно плывут по крохотным улицам, распугивая кокер-спаниелей, и причаливают к газонам, где вертятся разбрызгиватели, и в зеленых тарахтящих сумерках бензиновые газонокосилки тащат на буксире своих хозяев, и фонари на столбах напоминают серебряные баскетбольные мячи. Деревья пока еще были маленькие, но видно было, что и они стараются. А теперь, прикинул я, если опустить отвес в том месте, где колонка Эссо-Экстра, как раз попадешь туда, где я погружался в морскую пучину.
Но хватит про мое детство. Во времена напряжения и опасности, как я слышал, во времена тревог и ужаса, когда люди молчат и жмутся друг к другу, они склонны хвататься за прошлое, даже подражать ему: воскрешают старые моды, напевают старые песни, разыскивают исторические места, заново переживают войны предков – только бы забыть тусклое настоящее, только бы не задуматься о жуткой сказке будущего. Может быть, мы, американцы, оттого такие нервные и замотанные, что наше прошлое стирается, даже не успев побыть настоящим; хотим лицезреть прошлые воплощения – находим только призраков, тени, шепотки: почти не осталось пиши зрению, чувствам, не на что излить свою тоску об ином. В тот вечер меня проняло не на шутку: и старинная мягкость отца, его порядочность и гнев, и сознание того, что часть меня самого, вернее, самой жизни – так была ярка эта часть – безвозвратно потеряна. Чужой самому себе и своему времени, не в силах обосноваться ни в истребленном прошлом, ни в фантастическом, непостижимом настоящем, я понимал, что должен найти ответы по крайней мере на несколько вопросов, если хочу опять овладеть собой и чего-то добиться в работе. «Вы о мисс Минни Морхаус из Уэйливилла? – восклицал отец, по-виргински глотая согласные, как делал когда-то и я. – Ну конечно, я был! А как же. И принес цветы на ее могилу!»
Тут я зажмурился, потом открыл глаза – надеясь, наверно, что при помощи такого шаманства я скова окажусь среди осоки, у места, где жизнь ошарашила меня, лишила заблуждений невинности. Но тут, в переменчивом настоящем, все было мглой, я ничего не видел, ничего не слышал, только по-прежнему мелькали чайки перед глазами да с трезвоном вылетал трамвай – словно через просвет в столетиях, подобно привидению…
В тот вечер я протелеграфировал Кассу Кинсолвингу в Чарлстон, что завтра приезжаю. Вообще такая опрометчивость не в моем характере, и я сознавал, что могу только надеяться на доброжелательный прием. Но, не узнав про Касса, я не мог выяснить, что же произошло в Самбуко – с Мейсоном – и какую роль сыграл в этом я.
Два года назад я понятия не имел о Кассе. Наше знакомство я бы не назвал многообещающим, хотя он сразу показался мне непростым человеком, и он, пожалуй, так и скользнул бы мимо моей жизни, если бы всего через несколько часов я не очутился на периферии тех событий, в фокусе которых был он. Надо описать обстоятельства нашей встречи – хотя бы для того, чтобы вы поняли, почему я приехал в Самбуко и оказался свидетелем этой злополучной истории.
Когда Мейсон Флагг написал мне в Рим и пригласил погостить в Самбуко, я счел, что это как нельзя лучше отвечает моим планам. Я прожил в Европе четыре года – три из них в Риме – и почувствовал, что корням моим, какие они ни на есть, пора в родную почву или они засохнут окончательно. Вот почему письмо Мейсона прекрасно согласовалось с моим желанием кинуть «прощальный взгляд» на страну перед тем, как вернусь в Америку.
Как я очутился в Европе и что там делал, объяснить недолго и несложно. На войну (ту, что до Корейской) я не попал, зато прошел поистине ужасающее обучение под эгидой Флота в одном иллинойском колледже и был произведен в лейтенанты ровно за два дня до того, как упала бомба на Хиросиму. Потом я закончил юридическое образование и недолго поработал в Нью-Йорке. Потом, решив, что судьба поскупилась на приключения и путешествия, отправился в Европу – шаг вполне обычный для вяловатого молодого человека без ясных перспектив. Я поступил в юридический отдел большого правительственного агентства, которое занималось экономической помощью, и переехал в Париж, намереваясь протянуть щедрую демократическую руку растоптанным и разоренным войной, а вместо этого должен был выслушивать жалобы разочарованных чиновников, своих коллег из Луисвилла и Де-Мойна. Из моего окна открывался сказочный вид на площадь Согласия, а я занимался отчетами о командировках и накладными, которые были произведениями искусства.
Через год меня перевели в Рим, в еще более красивый кабинете видом на зеленый простор Чирко Массимо: здесь почти во всякое время года шел карнавал, и мои дни оживлялись визгом труб и сумасшедшей музыкой каллиоп. Рим мне нравился, хотя моя работа – выслушивать сетования служащих агентства – почти не изменилась: таков, видно, климат Италии, что средний американский бюрократ, и без того чуждый всяческим механизмам прогресса, становится здесь еще более брюзгливым и недовольным; а молочные коктейли в столовой – из-за скверного качества молока – не могли сравниться с парижскими, хотя к концу моей службы мне сообщили, что молоко теперь будут возить самолетом с голландских ферм. Платили, однако, неплохо (на удивление неплохо, если сравнивать с моими итальянскими сотрудниками, которые, кажется, работали вдвое за половинное жалованье), и я купил маленький щеголеватенький спортивный «остин», чтобы ездить на нем вверх и вниз по длинному склону холма Джаниколо. Там у меня была квартира в запущенном доме и ревматическая старуха Энрика, которая стряпала мне ужин и заполняла мои вечера своими неустанными стенаниями. Кроме того, у меня был проигрыватель, скрипучая машина, доставшаяся мне от прежнего жильца-американца, со всеми, какие только есть на свете, пластинками Вагнера, Листа и Чайковского. Вид с моей террасы был роскошный, особенно в летние сумерки, когда я ставил концерт Листа, пил виски из нашей американской лавки и весь город расстилался внизу светящейся рыже-золотой парчой. За это время у меня было несколько девушек: одна по имени Джиневра, другая Анна Мария, а под конец – возможно, как предзнаменование скорой репатриации – старшекурсница из колледжа Смита, с чудесными черными глазами, – так что обычно мы сидели вдвоем, всем довольные, слушали злодейскую музыку, а заходящее солнце трогало последним зыбким лучом валы Форума, и тень моего холма шагала на восток, упрятывая город в темноту.
Произведения
Критика