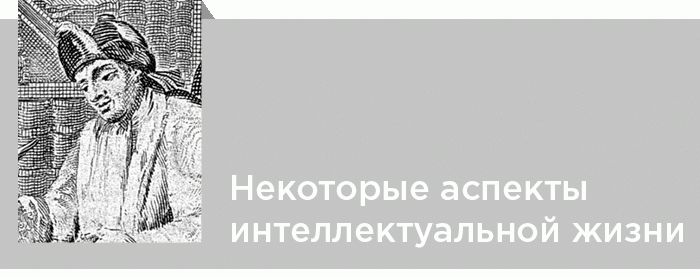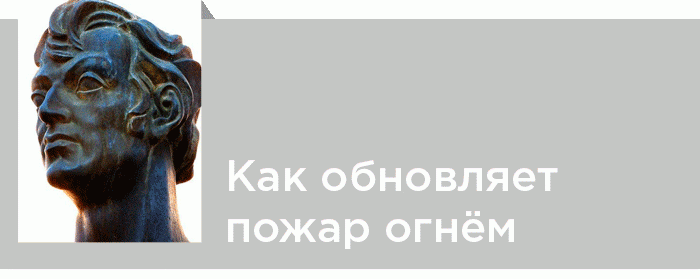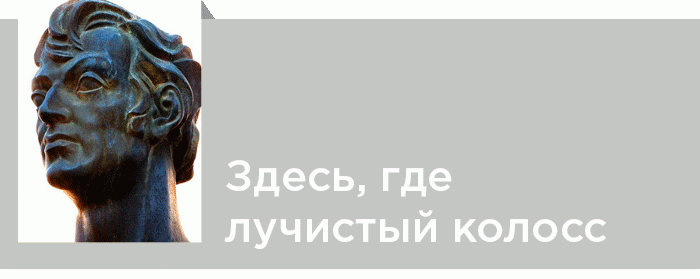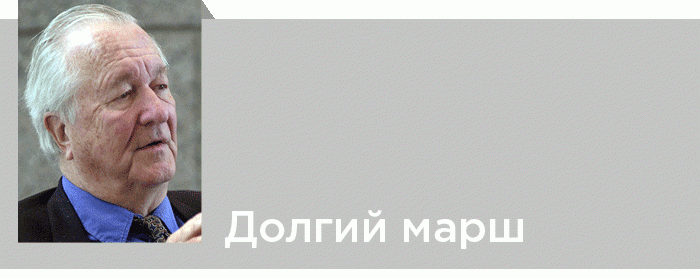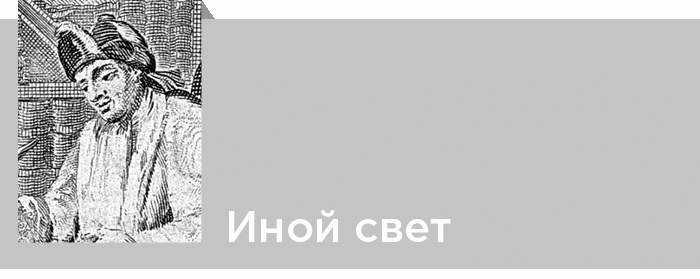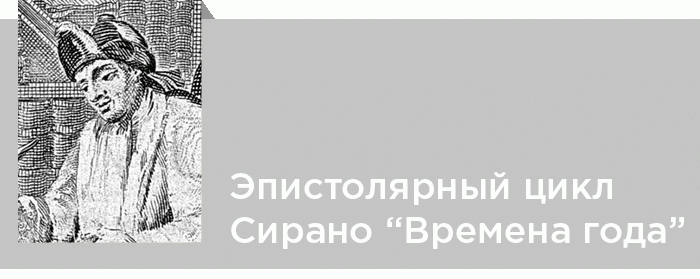Уильям Стайрон. Зофья сделала выбор
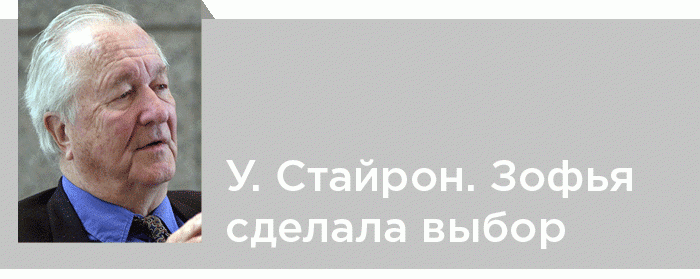
Г. Злобин
«Мы, американцы, плохо отдаем себе отчет в том, что фашизм — это абсолютное зло. Моя новая книга — как раз об этом...», — говорил мне Уильям Стайрон в декабре 77-го, когда я побывал у него в коннектикутском местечке Роксберри.
Было известно, что Стайрон давно работает над «большой книгой»: последний его роман «Признания Ната Тернера» вышел двенадцать лет назад. Это было не столько обычное историческое повествование о восстании, поднятом негром-рабом Натом Тернером в 1831 году в тех же самых местах, откуда родом Стайрон, сколько «размышления над историей», как определил книгу сам автор. Двенадцать лет... Впрочем, если подходить с количественными мерками книжного рынка, то пятидесятидвухлетний Стайрон написал, не так уж много — всего четыре романа. Зато первой же своей книгой, отличным семейно-психологическим романом «Сойди во тьму» (1951), он прочно утвердился в национальной литературе как писатель безошибочно «южный» и вместе с тем — решительно порывающий с традицией почвенничества и легенды, чем грешили даже большие мастера.
И вот новая книга Стайрона, наконец, появилась. Она не только о молодой польской женщине, прошедшей ад Освенцима. Не только о бесчисленных жертвах германского фашизма («Я потрясен страданиями, которые перенесли славяне», — говорил Стайрон). Это книга и о нем самом, о его молодости, о том, как приобщался он к большому миру человеческих переживаний и становился писателем. История, индивидуальное «я» и литература — таковы три взаимопроникающие плана произведения. Роман-автобиография жанр редкий и трудный. Он обнажает самое сокровенное и личности писателя.
Известно, что в 1974 году Стайрон посетил Польшу, побывал на месте освенцимского концентрационного лагеря, говорил с людьми. Но я не знаю, действительно ли летом 1947 года — время действия романа — он познакомился с Зофьей Завистовской (так зовут героиню) и был свидетелем ее трагедии. Да и так ли уж важно, существовала ли в жизни писателя эта женщина, или он слышал о ней от других, или же просто выдумал? В книге настолько убедительно воссоздается собственно «стайроновская» линия, столь определенно авторское умонастроение, что читатель с доверием устремляется в «даль свободного романа», с его широким жгучим многотемьем, в котором отчетливо различимы два стилевых потока — лирико-исповедальный и документально-публицистический.
Рассказ ведет двадцатидвухлетний вирджинец: «Зовите меня Стинго...» Отслужив свое на Тихоокеанском театре военных действий и закончив образование, он работает в издательстве и истово пробует писать сам. Вскоре, однако, назревает конфликт с начальством. Прельщенный скромной квартирной платой, он переезжает из Манхэттена в Бруклин и поселяется в еврейском квартале на Флэтбуш-авеню. Здесь он и сближается с Натаном Ландау — образованным, обаятельным, искрометного ума мужчиной лет тридцати, и Зофьей — красавицей-полькой, освобожденной из лагеря русскими и буквально возвращенной к жизни стараниями и заботой ее возлюбленного-американца.
Розоватый пятизначный номер на руке молодой женщины, внешний знак пережитого, и ослепительное белые зубы, верх американского стоматологического искусства, — это как два слагаемых ее существа, ее прошлого и настоящего. Но былое не отпускает Зофью, оно входит в сегодняшнее, и не только гнетущими воспоминаниями.
И в этом романе значительную роль играет тема американского Юга. В частности, Стинго оказывается наследником порядочной суммы денег, которые выручил в незапамятные времена его прадед от продажи раба — черного паренька по имени Артист. Проклятие рабства приносит просвещенному и совестливому южанину возможность писать. Иронические, а точнее — исторические парадоксы такого рода — неотъемлемая часть своеобразной поэтики романа.
Как раз на почве южного вопроса и вспыхивает первая ссора между Натаном и Стинго. На Юге линчевали невинного негра. Натан разражается многословной тирадой, обвиняя поголовно всех белых южан в таких же злодеяниях, какие чинили нацисты в концлагерях: «...Я говорю это как человек, чей народ страдал в лагерях смерти...» «Что ты знаешь о концлагерях, ты, Натан Ландау?» — с гневом вопрошает его подруга-полька. Упрек Зофьи обращен не только к возлюбленному.
Этот центральный мотив в прямом публицистическом пассаже, каких немало в книге, подхватит как самозадачу, как главный резон романа сам автор: «Создается впечатление, что, несмотря на опубликованные факты, фотографии, кинохронику, у нас в Америке люди не знают по-настоящему, что происходило...»
В одних главах мы слышим живую речь героини, эмоциональную, прерывистую, изобилующую повторами и умолчаниями исповедь — писатель находит особые лексические средства, чтобы передать ее неуверенный английский. В других повествование объективировано, идет от третьего лица и перемежается авторским комментарием.
Дочь Збигнева Беганьского, профессора юриспруденции Ягеллонского университета, провела безмятежные детские и юношеские годы в родном Кракове. Легкая, обеспеченная жизнь вдруг предстала перед Зосей в ином свете, когда она переписывала отцовскую работу «Еврейская проблема в Польше. Предлагает ли национал-социализм ее решение?» За плавными профессорскими периодами девушка, при всей своей наивности, разглядела призыв к тотальному устранению евреев. Разглядела, ужаснулась... и только.
В сентябре 39-го Беганьские еще строят иллюзии. Но слепая гитлеровская машина, запрограммированная на уничтожение «низших» рас, сработала безотказно: отец Зофьи вместе с коллегами попал в Заксенхаузен. «Патриот»-германофил мечтал о Польше без евреев, а нацисты проектировали Польшу без национальной интеллигенции.
Не бог весть какое преступление — выменять кусок мяса для чахоточной матери, и тем не менее Зофья — в Освенциме. Случай, внешность, безукоризненное знание немецкого обеспечили ей место на верху подневольной лагерной иерархии. Ее ненадолго определяют секретаршей к коменданту лагеря оберштурмбанфюрсру Рудольфу Гессу.
И вновь писатель открыто «вторгается» в романный текст: «Давайте рассмотрим поближе фигуру Гесса...» Опираясь на книги, документы, записки Гесса, собственные наблюдения, он создаст социально-психологический портрет убийцы, вознесенного в верхний эшелон нацистской власти: друга Гиммлера, приспешника Адольфа Эйхмана, с которым он разрабатывает технологию массового уничтожения людей и испытывает «Циклон-Б» на русских военнопленных. Изображена фашистская ментальность, «ум, охваченный экстазом тоталитаризма», моральный вакуум. Фигура Гесса, по Стайрону, есть физическое воплощение абсолютного зла — того самого, добавлю, о котором так много и бесплодно толкуют буржуазные политологи, проповедники и писатели.
Мы сравнительно немного узнаем о пребывании Зофьи в немецко-фашистском концентрационном лагере, но вся боль, стыд, муки, безмерные унижения и издевательства, которые ей довелось вынести, сконцентрированы в двух эпизодах.
Один, лаконичный и жуткий, произошел в день прибытия героини в лагерь. Неопрятный эсэсовец, руководивший селекцией очередного транспорта, предложил ей выбор: кому из двух ее детей — десятилетнему Яну или маленькой Еве — идти в печь... Другой эпизод имел место, когда у Гессе случился жестокий приступ мигрени. Прервав диктовку, он разговорился с узницей-секретаршей на отвлеченные темы. Зофья решает использовать момент: она здесь по ошибке, страдает безвинно, вот даже брошюра отца, над которой они работали вместе. Она возводит на себя напраслину, готова отдаться Гессу, готова на все, лишь бы спасти сына или хотя бы повидать его. И Стинго пытается представить себе эту последнюю степень отчаяния, безумия и растления духа, «пытается понять Зофью, чтобы понять Освенцим».
Штудируя литературу о «лагерной вселенной», Стайрон натолкнулся у одного автора на поразившую его мысль о двух одновременных и несовместимых порядках бытия. В то время как в Освенциме шло методичное истребление людей, в десяти милях оттуда (или в десяти тысячах миль — в Штатах) люди продолжали жить почти как ни в чем не бывало.
Один пример совмещения несовместимого. В тот день, когда Зофья разыгрывала перед комендантом унизительный спектакль, в лагере было уничтожено около двух тысяч греческих евреев, и Гесс диктовал донесение фюреру: «Механизм для осуществления Особой акции в Биркенау чрезмерно перегружен...», — в тот самый день Стинго, изощряясь в остроумии, писал отцу о ходе футбольных состязаний в военном лагере...
Беспощадный взгляд на самого себя дает Стинго моральное право сказать о своей несчастной знакомой: «Да, она была жертвой, но одновременно и сообщником, пособником... в массовом убийстве».
Нет, Зофья не доносила, не предавала, не убивала. Она просто хотела быть в стороне от политики, от ужасов войны, надеялась, что ее не тронут... Варшавские друзья убеждали: подумай о Польше, сейчас нельзя уклоняться. Но у Зофьи дети... «Я сделала выбор. Я не стану ввязываться!» Уже арестованная, в транспорте, она твердит себе: я не еврейка, не из Сопротивления, я не сделала ничего такого. Да и в самом лагере она по-прежнему одержима боязнью перед ответственностью, вовлеченностью в страдания и судьбы других, хотя и понимает, что могла бы быть чрезвычайно полезной подпольной группе Сопротивления.
Теперь, в 47-м, четыре года спустя, Зофья сходит с ума от жгучего стыда за свое малодушие и неизбывной, удушающей вины за все, что она сделала и не сделала.
Краков и Варшава были первым актом трагедии Зофьи. Освенцим — вторым. Третий разыгрался в Нью-Йорке.
С первых же дней знакомства Стинго замечает в Натане что-то такое, что никак не вяжется со всем привлекательным и притягательным, что есть в этом человеке. Мало-помалу выясняется, что военные годы он провел между чтением Пруста и Ньютона и психиатрической лечебницей. Разочарованность, вспышки раздражительности, рецидивы шизофрении, наркотический туман, предчувствие конца, сексуальные девиации (в книге Стайрона немало интимнейших сцен, сексуальных снов и видений; у большинства пассажей такого рода не отнимешь тематическую целесообразность, но с писателем приходится спорить о пределах допустимого в литературе, о степени соблюдения им эстетического такта) — все это вымещается в конечном счете на Зофье. Одна из преследующих его маний — так называемый «еврейский вопрос». Даже возлюбленную Натан обвиняет в антисемитизме и аморальности: «Ты, фашистская стерва...» Иначе — как она могла выжить? Как смела выжить?!
В романе отчетливо прочитывается полемика с буржуазно-националистическими, сионистскими мифами о повсеместном и «вечном» антисемитизме, об исключительно тяжком историческом уделе евреев и т. д. и т. п. Равным образом раздумья над нацистскими идеями расового превосходства то и дело возвращают Стинго «домой» — к жестоким порядкам на американском Юге, к проблемам расизма в США. «Как писатель я всегда останусь в оковах рабства» — таково беспощадное самопризнание героя.
И «польскими» и «американскими» эпизодами роман Стайрона свидетельствует об опасности всех и всяческих форм и разновидностей этнического избранничества, националистического фанатизма и нетерпимости, расового угнетения и геноцида. Писатель одинаково страстно не приемлет антисемитизм в санационной Польше, воинствующий сионизм и белый расизм в Америке.
Книга о фашизме, его зверствах и растлевающем влиянии вряд ли может, быть полноценной и с точки зрения искусства, и с точки зрения истории, если в ней нет сил, противостоящих фашизму. Такие силы намечены и в романе Стайрона; прежде всего это участники польской национально-освободительной борьбы. Среди них выделяется фигура Ванды — мужественной патриотки, мечтающей о свободе Польши, социалистки.
Зофье Завистовской в своей недолгой, нескладной, невыразимо мучительной жизни пришлось сделать три выбора.
Первый — свободный, зависевший только от нее и никого больше: примкнуть к Сопротивлению или нет. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба, пойди она путем борьбы. Но во всяком случае это был достойный, действительный выбор, открывающий несколько возможностей.
Второй выбор — по принуждению, запредельный, как пытка. Этот выбор не имел никакого реального смысла, он ровным счетом ничего не мог изменить. Но эсэсовец знал, что делает, когда приказал обезумевшей от горя матери выбирать между двумя детьми.
Третий, последний выбор — между жизнью и смертью — осложнялся благодарной самозабвенной любовью к человеку, который, отодвигая собственное безумие, воскресил ее нравственно и физически на чужих, далеких берегах. Когда надо было идти на риск, поступиться, может быть, пожертвовать собой ради других, Зофья выбрала неучастие — то, что наиболее вероятно обещало, казалось, жизнь. На этот раз она избрала участие — и смерть. Какие только картины мирной совместной жизни не рисовал ей Стинго! Но она не могла оставить Натана. Они вместе кончают с собой.
Драма Зофьи развивается на страницах романа с мощной неуклонностью античного рока. Стайрон честен и убедителен в изображении смертоносной логики существования Зофьи и ее возлюбленного. Он показывает, как оно связано со множеством других жизней и смертей, с памятью о жертвах, принесенных во имя избавления человека от фашистского зла.
В книге «Язык и молчание» известный критик Джордж Стайнер, говоря о нацистских зверствах, призывал «не примешивать к невыразимому банальности литературных и социологических дебатов». Нет, молчание — не ответ, возражает Стайрон. «Я не согласен с мыслью, будто перед лицом определенных реальностей искусство пошло или бессильно».
Каждая книга Стайрона вызывала споры. Наверное, случится это и с новым его романом. У меня тоже есть, что возразить писателю по ряду частных моментов. У меня тоже есть, что возразить ему по ряду частных моментов, как, впрочем, и в связи с некоторыми скоропалительными жестами писателя, свидетельствующими если не о предвзятости, то о его недостаточной осведомленности в вопросах общественно-литературной жизни нашей страны. Однако споры вокруг книги не должны заслонять главного: определенности идейно-эстетической концепции книги, исполненной страстного антифашистского пафоса и восполняющей конкретно-историческую недостаточность многих американских романов, связанных с войной.
«Зофья делает выбор» — самобытное, выдающееся реалистическое произведение, затрагивающее животрепещущие политические проблемы современности и взывающее к читательской совести и чувству ответственности. Оно, на мой взгляд, вскрывает несостоятельность экзистенциалистской метафизики и мифологии вневременного, абстрактного зла. Стайрон сосредоточил внимание на психологии и практике фашизма, на катастрофических последствиях расистского фанатизма. И в трактовке этих чудовищных феноменов XX века ему удалось достичь такой художественности и степени историзма, какие редко встретишь в современной литературе США.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1980. – № 2. – С. 83-87.
Произведения
Критика