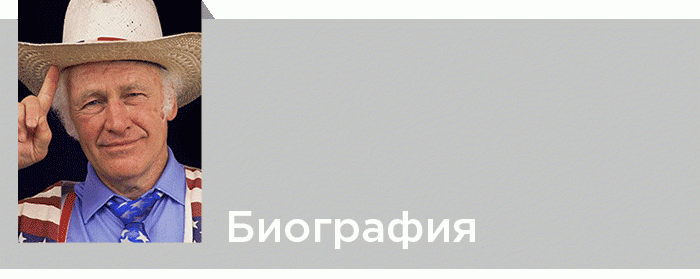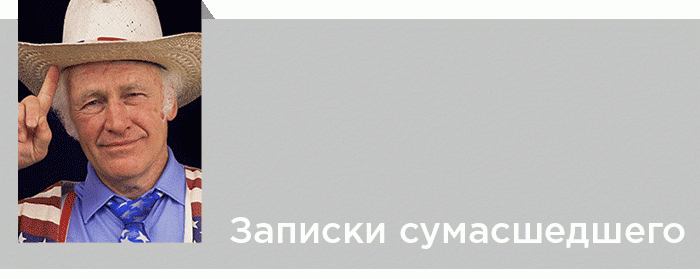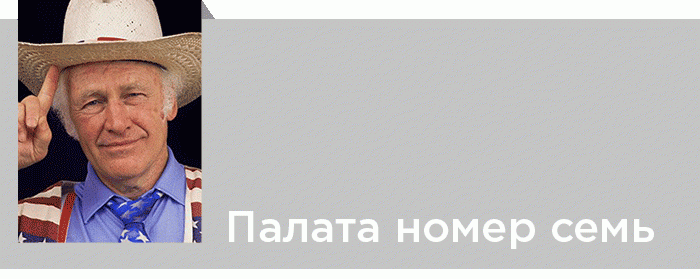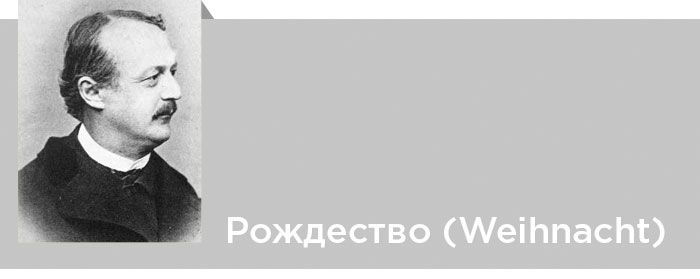Кен Кизи. Порою блажь великая
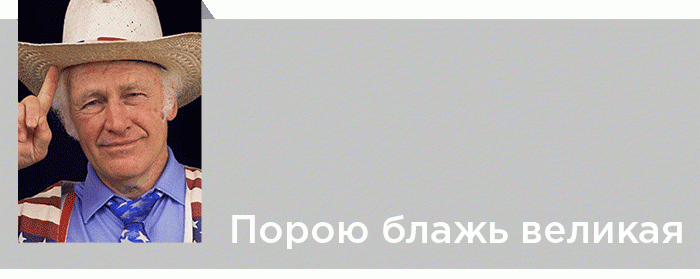
(Отрывок)
Моим родителям любезным,
Которые сказали: «Песни – птицам!» –
И научили всем мелодиям,
И помогли словам учиться.
Порою обитаю на природе,
Порою обитаю в городке,
Порою блажь великая приходит:
Дай прыгну я… и утоплюсь в реке!
Из песни Хадди Ледбеттера Джона Э. Ломакса «Спокойной ночи, Айрин»
* * *
У западных склонов Орегонского Берегового хребта… глядите: истерические конвульсии притоков, пожираемых рекой Ваконда-Ауга.
Первые струйки реки журчат упруго, упорно, настырными ветерками продираясь сквозь конский щавель и душистый клевер, сквозь папоротниковые кущи и крапивные дебри, змеятся, вгрызаются в землю… вырастают в ручейки. И стремятся дальше – среди заячьей капусты и волчьих ягод, среди черники, голубики, костяники, ежевики, – сливаются в ручьи, в речки. И, наконец, меж горных отрогов, мимо тихих пихт и сонных сосен с их ситтимовой корой и смолой серебристой, по зелено-голубому мозаичному панно орегонского ельника, – несется уже в полном смысле река, низвергается на пять сотен футов… и – поглядите: вырывается на равнину.
На первый взгляд, если смотреть с трассы, сверху, из-за деревьев, – река металлическая, словно алюминиевая радуга, словно пластинка латунной луны. Ближе – обретает плоть: огромная ухмылка воды щерится обломанными, гнилыми клыками свай по обеим деснам, и пена липнет к губам. Еще ближе – река расстилается, как и подобает водной глади, ровной, будто проспект, бетонно-серой, в оспинах дождя. Ровная, точно кропленный дождем асфальт, даже в разлив, ибо русло ее глубоко, а ложе плавное: ни отмелей, где дыбятся перекаты, ни скал, что взрезают поток… вообще ничего, что выдавало бы движение, если не считать клочьев желтоватой пены, гонимых ветром к морю, да подтопленных, но стойких рощ с напружно согбенными стволами, что трепещут под беззвучным, мрачным напором.
Река, столь гладкая и тихая на вид, таит рашпильную решимость своего жестокого бега глубоко под гладью, ровной – и всегда столь спокойной. С виду.
По северному берегу идет шоссе, по южному – горная гряда. И ни единого моста на первые десять миль. И все же на том пустынном южном берегу высится старинный двухэтажный дом – над причудливой конструкцией из сплетенной стали, дерева, дерна и мешков с песком, подобный диковинной двухъярусной птице со взъерошенными перьями, свирепо нахохлившейся в своем вздыбленном гнезде. Обратите внимание.
Дождь струится по стеклам. Дождь сочится сквозь мглу желтого дыма, что валит в косое небо из печной трубы замшелого камня. Небо сереет, желтый дым сыреет. За домом, у косматой кромки гор, в ненастном мареве эти цвета сливаются, отчего сам склон сочится грязновато-зеленым.
По голому берегу, от двора до неуемной реки, рыщет взад-вперед свора собак – поскуливают от холода и злого горя. Поскуливают – и лают на то, что болтается над рекой, вне их досягаемости, крутится-вертится на туго натянутом линьке, привязанном к еловому шесту… он торчит из верхнего окна.
Закрутится, замрет – и медленно раскручивается обратно, под проливным дождем, в восьми иль десяти футах над водным потоком – рука человека, охваченная вервием на запястье (только рука, глядите). Свисает и словно тает в потертом плече, а ниже – будто невидимый танцор какой кружится в пируэтах пред зачарованной публикой (над водой же – лишь рука его вертится)… пред собаками на берегу, пред свистопляской дождя, пред дымом, пред домом, пред деревьями, пред толпой, сердито кричащей через реку:
– Стэммммперрр! Эй, да будь ты прроклят, мудило! Хэнк Стэмммммперр!
И пред всеми прочими, кто удосужится взглянуть.
Выше по течению, на востоке, шоссе идет еще по горам, где по-прежнему ревут и ярятся ручьи и речки, – там и едет президент профсоюза Джонатан Бэйли Дрэгер, едет из Юджина к побережью. Странные у него чувства – распаленные, как он понимает, гриппозным жаром: вроде и полный разлад-раздрай, но голова по-прежнему ясная. И в день грядущий взирает он и с приятством, и с испугом. С приятством – ибо скоро он вырвется из сырых и грязных этих хлябей приречных, а с испугом – потому что обещал он отобедать на День благодарения в Ваконде, у председателя местной ячейки Флойда Ивенрайта. Дрэгер не чает, что визит к Ивенрайту окажется в радость: он уж наведывался пару раз в дом Ивенрайта по делу Стэмпера – и удовольствия не получил нисколько. Но все равно нет повода грустить: это будет последний визит по делу Стэмпера – последнему его делу на Северо-Западе, тьфу-тьфу. А уже завтра он отправится на юг, и пусть калифорнийское солнышко подсушит своим старым добрым витамином D эту мерзкую болотную сыпь. Вечно у него здесь сыпь. И грибок на ступнях, по самые щиколотки. Влажность. Ничего удивительного, что в этих краях за месяц загибается пара-тройка местных: тут ведь либо топиться к черту, либо гнить заживо.
Хотя на самом-то деле – он обозревает картины природы, проплывающие перед лобовым стеклом, – эта местность представляется не такой уж паршивой, при всех своих дождях. Смотрится она даже мило и мирно, даже вполне уютно. Не так мило, как Калифорния, конечно, бог свидетель, но климат куда лучше, нежели дальше на Востоке или на Среднем Западе. Благодатная даже земля – и жить здесь совсем не так уж трудно. И само это неспешно-мелодичное индейское название – нетрудное: Ваконда-Ауга. Ва-ко-онда-а-ага! И эти домики – что на этом берегу, у шоссе, что за рекой, – вполне милые такие домики, по ним и не скажешь, будто жилищное строительство в упадке. (Дома отставных аптекарей и скобяных торговцев, мистер Дрэгер.) И весь этот скулеж про ужасные тяготы забастовки… нет, эти домики плоховато вяжутся с «ужасными тяготами». (Коттеджи на выходные и летние дачи для тех, кто зимует в Долине и зашибает довольно, чтоб с удобством выбираться в верховья на нерест лосося.) И вполне современные – для местности, которая иному покажется дикой. Прелестные поселочки. И современно – и со вкусом. В духе ранчо. А между рекой и домами оставлено место под пристройки. (Оставлено место, мистер Дрэгер, под аннексии в пользу реки Ваконда-Ауга, составляющие шесть дюймов в год.) Однако ж это непременно его удивляло: ни единого дома на самом берегу. Или, вернее, ни единого дома на берегу, за исключением проклятого дома Стэмперов. Казалось бы, сам бог велел строиться у реки, удобства ради. Но нет же – такая вот в этих местах странность…
Дрэгер вкручивает свой здоровенный «Понтиак» в изгибы прибрежного шоссе. Чувствует жар, и негу, и приятную тяжесть в желудке – и удовлетворенность недавними достижениями, вяло размышляет о диковинности того, что каждый дом в его размышлениях своею диковинностью не диковиннее прочих. А дома-то знают, что такое житье у реки. Даже современные коттеджи на выходные – и те знают. А уж старые дома, очень старые дома, сложенные из кедрового теса первыми поселенцами на закате прошлого века, – их-то давным-давно взгромоздили на катки и оттащили от края реки, одолжив лошадей и волов у соседей. Если ж дом был чересчур велик, его покидали, обрекали на сползание в реку, точившую фундамент.
Немало жилищ поселенцев сгинуло подобным образом. В первые годы все норовили отстроиться у самой реки, удобства ради, чтоб оказаться поближе к водному пути, к их Водному Тракту, как часто кличут реку пожелтевшие газеты в библиотеке Ваконды. Поселенцы спешили скупить прибрежные участки, не ведая, что их «тракт» имеет привычку отъедать куски берега со всем, что там есть. И понадобилось время, чтоб изучить реку с ее причудами. Послушайте:
– Сволочь она, точно говорю. О прошлой зиме хибару мою смыла. А в эту – сарай. Зуб даю! Все проглотила.
– Так вы не советуете строиться у реки?
– Я ничего не советую и ни от чего не отговариваю. Поступайте как знаете. А я рассказал, что сам видал. Вот и все.
– Но если, как вы говорите, она разрастается с подобной скоростью, то посудите сами: еще сотню лет назад здесь вовсе не было бы никакой реки!
– Ну, это смотря с какой стороны поглядеть. Она ж ведь в оба конца течет, так? А может, это не река сносит землю в море, как нам тут правительство толкует? Может, это море гонит на землю волну?
– Черт. Вы полагаете? Но как такое возможно?..
Да, понадобилось время, чтоб узнать реку и научиться планировать строительство, соблюдая зону почтения к ее стабильному аппетиту, принося в жертву ее жадному росту сотню ярдов или около того. Зона эта не предписывалась никакими законами. И нужды в них не было. Но на протяжении целых двадцати миль, от самого Погибельного Ущелья, откуда река вырывается на простор из цветущего кизильника, до поросших взморником берегов бухты Ваконда, где река приникает устьем к морю, на берегах нет ни единого дома. Если не считать того проклятого дома, если не считать того единственного дома, не ведающего никаких зон почтения, ни к кому, и не согласного уступить реке хоть дюйм, не говоря уж про сотню ярдов. Этот дом стоит, где стоял; его не вздымали на катки, не оттаскивали – и он не брошен, не затонул, став отелем для выдр и выхухолей. Он известен почти что на всем западе штата как Старое Гнездо Стэмперов, известен даже людям, ни разу его не видавшим, и высится он, как памятник вымершему ландшафту, обозначая место, где когда-то проходил берег реки… Посмотрите.
Он, дом этот, вторгается в реку полуостровом собственного подбрюшья, неприглядной земляной насыпью, со всех сторон укрепленной бревнами, канатами, тросами, сермяжными мешками, набитыми цементом и камнями, сварными трубами, старыми стальными швеллерами и гнутыми рельсами. Древние, изъеденные червями сваи подперты белыми брусьями, не старше года. Свежие гвозди гордо сияют серебряными шляпками, не стесняясь соседства с допотопными корявыми костылями, поржавевшими до полного ничтожества. Кровельные листы гофрированного алюминия торчат из-под скелетов автомобильных рам. Обшарпанные листы фанеры прошиты бочарными клепками. И весь этот пестрый сброд удерживается в целости и накрепко приторочен к берегу паутиной из многожильных тросов и чокерных цепей. Паутина эта цепляется за четыре главных двухдюймовых, особо прочных, витой проволоки монтажных кабеля, привязанных к четырем здоровым анкерным елкам, что растут за домом. Заботливые прокладки оберегают деревья от немилосердных объятий троса, стволы страхуются оттяжками, что идут к столбам, намертво вколоченным в горную породу.
И в обычное-то время дом этот впечатляет своим видом: двухэтажная громада из бруса и упрямства, что не отступила перед лицом эрозии, не сдалась прожорливой реке. Сейчас же, в разлив, когда на другом берегу толпятся полупьяные лесорубы, припаркованы автомобили прессы, да патрульная машина, да пикапы, да заляпанные грязью желтые автобусы, и каждую минуту новые машины съезжают на полосу между шоссейкой и рекой, дом являет собою поистине захватывающее зрелище.
Нога Дрэгера отпускает педаль газа, едва он выруливает из поворота и сцена открывается его взору.
– Господи боже мой! – стонет он, и его удовлетворенность уступает место горячечной меланхолии. И кое-чему еще: некоему сумрачному предчувствию.
«Ну и что на сей раз отчудили эти олухи? – задается он вопросом. И почти наяву видит, как солнце Калифорнии с его спасительным витамином D скрывается в тучах – еще на три-четыре недели переговоров, промоченных дождем. – О черт! Ну что там еще стряслось?»
Подъезжая ближе к берегу, сквозь мельтешение «дворников» по лобовому стеклу он примечает знакомых: Гиббонс, Соренсен, Хендерсон, Оуэнз, а тот здоровяк в спортивной куртке – надо полагать, Ивенрайт. Все лесорубы, все члены профсоюза, которых Дрэгер узнал за последние недели. Всего же в толпе человек сорок-пятьдесят, да еще кое-кто сидит на корточках в трехстенном гараже у самого шоссе; иные ж не вылезают из запотевших изнутри легковушек и джипов, выстроившихся вдоль берега; а прочие ютятся на ящиках под импровизированным навесом из рекламного плаката пепси-колы, выдранного с корнем: «БУДЬ ОБЩИТЕЛЕН» – и бутылка, поднесенная к влажно-красным губам четырех футов в размахе.
Но в большинстве своем дурни торчат под дождем, видит Дрэгер, – хотя в гараже и под вывеской отнюдь не тесно. Они торчат под дождем, будто настолько свыклись с жизнью и работой в мокрядь, что уж и не отличают сухость от сырости. «Но что?..»
Он разворачивается через шоссе, подкатывает к толпе, приспускает стекло. На берегу стоит лесоруб в укороченных рабочих штанах и гребнистой дюралевой каске, сложив ладони рупором, пьяно орет через реку: «Хэнк СТЭММММПеррр… Хэнк СТЭММММПеррр!» – столь самозабвенно, что даже не оборачивается, когда буксанувшая машина Дрэгера обдает его грязью из колеи. Дрэгер собирается заговорить с этим мужиком, но не может вспомнить его имени и потому катит дальше, в гущу толпы, где виднеется здоровяк в спортивной куртке. Детина оглядывается и щурится на подъезжающий автомобиль, энергично растирает мокрую латексную физиономию крапчато-красной резиновой лапой. Да, это Ивенрайт. Все его пять с половиной поддатых футов. Он продирается к машине Дрэгера.
– Ну-дык, гляньте-ка, парни! Тока гляньте! Посмотрите, кто к нам прикатил, чтобы прочитать мне новую лекцию о том, как подняться к вершинам в мире труда. Ну-дык, очень мило, а?
– Флойд, – доброжелательно роняет Дрэгер. – Ребята…
– Приятный сюрприз, мистер Дрэгер, – говорит Ивенрайт, с ухмылкой заглядывая в открытое окно, – что вы навестили нас в этот злосчастный день.
– Сюрприз? А мне-то, Флойд, думалось, меня тут ждут.
– Чтоб тебя! – Ивенрайт лупит кулаком по крыше машины. – Все так. На ужин Благодарения. Но, видите ли, мистер Дрэгер, наши планы чуточку изменились.
– Да? – говорит Дрэгер. Затем смотрит на толпу. – Авария? Кто-то в речку впилился по пьяни?
Ивенрайт оборачивается, чтобы сообщить приятелям:
– Мистер Дрэгер интересуется, ребята, не впилился ли кто в речку? – Он снова обращается к Дрэгеру и качает головой: – Не-а, мистер Дрэгер, у нас дела куда хлеще.
– Ясно… – Неторопливо, спокойно, не зная пока еще, как реагировать на тон собеседника: – Итак? Что именно стряслось?
– Стряслось? Ну-дык, ничего не стряслось, мистер Дрэгер. Пока – ничего. И, можно сказать, мы – мы с ребятами – здесь для того, чтоб и не стрясалось. Можно сказать, мы тут с ребятами утрясаем дела после того, как ваши методы провалились.
– Что значит «провалились», Флойд? – Голос по-прежнему спокойный, по-прежнему довольно дружелюбный, но… это нездоровое предчувствие вздымается из желудка, охватывает легкие и сердце, подобно ледяному пламени: – Не мог бы ты просто сказать, что происходит?
– Ну-дык, бога в душу! – В голосе Ивенрайта брезжит изумление от догадки. – Он не в курсе! Ну-дык, ребята, Джонни Б. Дрэгер вообще ни хрена не в курсах! Как вам, а? Наш вожак – и ни хрена не слышал!
– Я слышал только, что контракты составлены и без пяти минут подписаны, Флойд. Я слышал, что комитет заседал ночью и пришел к полнейшему согласию. – Губы у него совсем пересохли: огонь добрался до гортани… О, дьявол! Стэмпер не мог… Но он сглатывает и невозмутимо спрашивает: – У Хэнка изменились планы?
Ивенрайт снова лупит по крыше машины, на сей раз – сердито:
– Это охеренно мягко сказано – планы изменились! Да он просто вышвырнул их на помойку – вот как он изменил свои планы!
– Весь договор целиком?
– Да, весь ебаный договор! Именно! Всю сделку, в которой мы были так уверены, – хлоп! – и кирдык! Сдается мне, на сей раз ты пальнул в молоко, Дрэгер, ё-мое… – Ивенрайт трясет головой, гнев сменяется многозначительной мрачностью, будто он только что предрек конец света. – И сейчас мы топчемся на том же месте, где были и до тебя.
Несмотря на апокалипсический драматизм в тоне Ивенрайта, Дрэгер без труда различает триумфальные нотки за траурными словами. Конечно, понимает Дрэгер, жирный болван не может не позлорадствовать, пусть мое поражение – и его поражение. Но с чего бы Стэмперу менять планы?
– Ты уверен? – спрашивает он. Ивенрайт опускает веки, кивает:
– Наверно, ты где-то слегонца просчитался.
– Как интересно, – бормочет Дрэгер, изгоняя тревогу из голоса. Никогда не выказывай опасений – вот его неизменное правило. Запечатленное в записной книжке, в нагрудном кармане: «Поднятие тревоги при чем-либо менее значительном, нежели пожар или воздушный налет, неизбежно путает рассудок, расстраивает чувства и в большинстве случаев удваивает опасность». Но в чем же этот «слегонца просчет»?Он опять смотрит на Ивенрайта:
– В чем причина? Как он это мотивирует?
Лицо Ивенрайта снова комкается гневом:
– Я что – брат ублюдку? Или, может, его подружка? С чего ты взял, будто я… с чего ты взял, будто хоть кто-то на этом ебаном свете в курсе мотивов Хэнка Стэмпера? Бляха-муха! По-моему, я уж и так немало попотел, когда расследовал его действия, чтоб вдаваться еще и в мотивы!
– Но ты ведь откуда-то узнал про эти действия, Флойд. Не бутылку же с запиской он в воду швырнул?
– Да почти что так. Лес Гиббонс позвонил мне из «Коряги» и сказал, будто слышал, как заходила жена Хэнка и сообщила Ли, этому ушлому его братцу, сообщила, что Хэнк собирается нанять буксир и сделать вродь-как последний рывок.
Дрэгер смотрит на Гиббонса:
– А о причинах столь внезапного решения ты ничего не слышал?
– Ну, это… парень, похоже, знал, о чем речь, судя по тому, как хорохорился…
– Понятно. А его ты не расспросил?
– Ну, это… Да нет. Я просто позвонил Флойду и рассказал. А чего, думаете, надоть было?
Дрэгер барабанит пальцами по рулю, укоряет себя, что так глупо злится на издевательскую невинность этого кретина. Должно быть, жар.
– Хорошо. Как полагаешь, если я пойду поговорю с парнем – он объяснит, почему Стэмпер передумал? В смысле, если я его спрошу?
– Сомневаюсь, мистер Дрэгер. Потому что его нет. – Ивенрайт держит паузу, ухмыляется. – Но жена Хэнка все еще там. Может, что и вытянете из нее, с вашими-то методами…
Мужики смеются, а Дрэгер, похоже, совсем заплутал в мыслях. Он теребит оплетку руля. Одинокая утка сквозит прямо над головами собравшихся, тараща на них лиловый глаз. Из-под консервных складов орут коты. Пару секунд Дрэгер оглаживает пластик замшей перчатки, потом снова поднимает глаза:
– А почему вы не попробовали связаться с Хэнком? И спросить его самого? В смысле…
– Связаться? Связаться?! Етить-колотить, а что, по-твоему, мы тут делаем? Не слышишь, как Гиббонс глотку надрывает?
– Я имел в виду – по телефону. Вы не пытались до него дозвониться?
– Само собой, пытались.
– И? Что он ответил? В смысле…
– Что он ответил? – Ивенрайт снова потирает физиономию. – Я покажу его ответ. Хови! Эй, подай-ка бинокль! Мистеру Дрэгеру хочется взглянуть на ответ Хэнка.
Мужик у воды неторопливо оборачивается:
– Ответ?..
– Ответ! Ответ! То, что он предъявил нам, когда мы попросили его… пересмотреть решение, так сказать. Дай сюда чертовы стекляшки – и пусть мистер Дрэгер сам поглядит.
Хови извлекает бинокль из-под свитера, серого, как дождь. Инструмент холодит руки Дрэгера даже сквозь лосиную кожу. Толпа подается вперед.
– Вон там! – победоносно тычет пальцем Ивенрайт. – Вон ответ Хэнка Стэмпера!
Дрэгер смотрит, куда указывают, и кое-что замечает в тумане: кое-что привязано к длинной палке, будто наживка на леске, и болтается перед старинным нелепым домом, там, на том берегу…
– И что это значит?.. – Он поднимает бинокль и прикладывается к окулярам, подкручивая пальцем резкость. Слышит, как мужики затаили дыхание. – Все равно я не… – Предмет расплывается, совсем теряется во мгле, выныривает, изворачивается – и вдруг попадает прямо в фокус, так четко, что воспаленное горло Дрэгера ошпаривает зловонным сернистым дымом. – Похоже на человеческую руку, но я все равно не… – И тут он чувствует, как семя давешнего предчувствия расцветает буйным цветом. – Я… что? – Он слышит, как его машину обволакивает липкий смех. Чертыхается и тычет биноклем в физиономию, перекошенную весельем. Судорожно поднимает стекло – однако смех доносится все равно. Ложится грудью на руль – «дворники» мелькают прямо перед глазами. – Я поговорю с этой девочкой, с его женой… Вив, кажется? В городе… И узнаю… – И он вырывается из колеи на шоссе, прочь от этого смеха.
Стиснув зубы, виляет по губе ухмыляющегося берега. В смятении и ярости; никогда прежде его не выставляли на посмешище – ни такое вот сборище болванов, ни кто еще! Он в смятении и в тусклой, бешеной ярости – и обуреваем подозрением, что посмешищем сделался не только для ватаги придурков на берегу – плевать ему на их собачье мнение о нем! – но есть и еще один смешливый придурок, незримый в верхнем окошке того проклятого дома…
«Что же все-таки произошло?»
Кто бы ни вывесил эту руку на шесте, это определенно была демонстрация столь же мрачно-ироничной презрительности, как и сам старый дом. И тот, кто решился вывесить руку на всеобщее обозрение, потрудился и подвязать к ладони все пальцы, кроме среднего. Этот же – оттопырил в известном жесте, недвусмысленно оскорбительном для всех, кто проезжает по дороге.
А в особенности – и Дрэгер не мог отделаться от такого ощущения – палец этот тыкал в него персонально. «Да, в меня. Чтоб унизить лично меня за… такую мою ошибку. За…» Тыкал, как однозначное опровержение всему, что Дрэгер почитал за правду, знал за правду о Человеке; словно кощунственная издевка над верой, выкованной в горниле тридцати лет, ясной и безусловной верой, отлитой за треть века работы с «трудом» и «капиталом», – почти религией, отлаженной, отглаженной, бережно обернутой, перевязанной красной тесемочкой пухлой папочкой правд о людях и о Человеке. Где доказано, что глупый Человек может отвергнуть все, кроме Протянутой Руки; что он выстоит перед любой напастью, кроме Одиночества; что во имя самых жалких, шатких и шизовых своих принципов он пожертвует жизнью, вытерпит боль, измывательства и даже самую лютую из всех американских тягот – недостаток комфорта, – но отступится от самых твердых своих убеждений ради Любви. Да, Дрэгер считал это доказанным. Он знал примеры, когда дубовой крепости фабричные боссы шли на самые дурацкие сделки, только бы над их прыщавыми дочурками не смеялись в местечковой средней школе. Видел, как самые упертые правые, ненавистники профсоюзов соглашались накинуть лишние полдоллара за час и включить в контракт медицинскую страховку, только бы не утратить сомнительного расположения дряхлой своей тетушки, играющей в покер с женой брата забастовщика, которого хозяин этот знать не знал и видеть не видел. Любви – во всех ее непростых проявлениях, как верил Дрэгер, – воистину подвластно все. Любовь – или Страх перед Отсутствием Ее, или же Боязнь Недополучить Ее, или Ужас Утраты Ее – безоговорочно себе все подчинит.
Для Дрэгера это знание было оружием; он усвоил истину эту в юности и четверть века с огромным успехом пользовался своим оружием, и переговоры шли как по маслу, и дела решались без запинки, без заминки, и покорение мира казалось удивительно простой, ясной и верной затеей, при такой-то литой вере в могущество этого оружия. И вот какой-то неграмотный лесоруб, со своей деляночкой и без единого заступника в целом свете, претендует на иммунитет к этому оружию! Господи, проклятая температура…
Дрэгер сутулится над рулем – человек, так гордившийся своею кротостью и сдержанностью, отрешенно наблюдает, как клонится вправо стрелка спидометра, невзирая на его попытки обуздать ее. Большая машина перехватывает управление у водителя. Сама собой разгоняется, не спрашивая его согласия. Мчится к городу с тревожным шипящим свистом мокрой резины. Мимолетно мелькают белые полоски. Ивы, трепещущие по обочинам, вибрируют, стремясь к полной неподвижности, – совсем как спицы на колесе несущегося голливудского фургона. Дрэгер, не снимая перчаток, нервно ерошит жесткий стальной ежик на голове, вздыхает, покоряясь своему предчувствию: если Ивенрайт сказал правду – а зачем ему врать? – это значит, что впереди еще недели вынужденного терпения, уже так его измотавшего, и снова, как за последний месяц, две из трех его ночей будут бессонными. Снова – вымученные улыбки, снова – вымученные любезности. Снова – притворное внимание. И снова – присыпки для грибка на ступнях, уже достойного истории, хотя бы – истории болезни. Он опять вздыхает, сам себя утешая: черт возьми, в конце концов, все ж ведь имеют право на ошибку, хоть когда-нибудь. Но машина не сбавляет скорости, а в глубине его ясного и верного сознания, где уже расцвело первое скверное предчувствие и где покорность эта расстилается философически вялым мхом, набирает сок новый бутон.
«А если бы я не промахнулся?.. А если бы не просчитался?..»
Другой бутон. С лепестками сомнения.
«А может, не так уж прост этот болван, как я думал?»
А может, и другие болваны не так просты.
Он останавливает машину перед кафе «Морской бриз», чиркнув белобокими скатами по бордюру. Сквозь плывущее дождем лобовое стекло отсюда видна вся Главная улица, на полную длину. Пустынно? Только дождь и коты. Дрэгер поднимает ворот и выходит из машины, не теряя времени на пальто. Спешит через улицу к сочащемуся неоном фасаду «Коряги». Внутри, в баре, тоже вроде бы пустынно: музыкальный автомат подсвечен, играет негромко, но не видно ни души. Странно… Неужто весь город сорвался с места, чтобы постоять в грязи и поработать посмешищем? Это как-то ужасно… И тут он замечает у окна владельца – этакий жирный и унылый архетип бармена. Тот взирает на гостя из-под длинных загнутых ресниц.
– Ну и льет, а, Тедди? – И этот не так прост…
– Похоже на то, мистер Дрэгер.
– Тедди! – Видите? Даже эта мелкая женоподобная жаба в обличье бармена – даже он знает больше моего. – Флойд Ивенрайт сказал, что здесь я могу найти жену Хэнка Стэмпера.
– Да, сэр. – Дрэгер слушает указания человечка: – В самом конце зала, мистер Дрэгер, прямо перед подсобкой.
– Спасибо. Кстати, послушай, Тедди! Почему ты думаешь, что… – Что… что? Сколько-то секунд он стоит молча, даже не сознавая, что пялится на бармена, и тот краснеет под этим пристальным взглядом, и длинные ресницы его стыдливо опускаются на глаза. – Да ничего… – Дрэгер разворачивается и идет прочь: я не могу его спросить. В смысле, он бы не смог ответить – даже если б знал, все равно не сказал бы… – мимо музыкальной машины: она щелкает, жужжит, заводит новую песню:
Почто не обняла… и не пригрела?
Печаль не уняла… как прежде ты умела?
Ах, успокой мне сердце еще раз.
Вдоль по длинному бару мимо мягко мерцающей музыкальной машины, мимо шаффлборда, сквозь разделенный перегородками сумрак пустых кабинок – и, наконец, в самом дальнем конце сидит девушка. Сама по себе. Со стаканом пива. Задранный кверху грубый ворот бушлата обрамляет худенькое мокрое личико. Мокрое? Никак не различить: не то от слез, не то от дождя, не то ей просто слишком, чертовски тут жарко? Ее бледные руки покоятся на большом малиновом альбоме… она смотрит на Дрэгера, ее губы подергиваются легкой улыбкой. И она, – Дрэгер кивает девушке, мысли его путаются – больше… чем я… Странно… что я мог думать, будто понимаю… так много.
– Мистер Дрэгер… – Девушка указывает на стул. – Похоже, вам нужна информация?
– Я хочу знать, что произошло, – говорит он, усаживаясь. – И почему.
Она опускает взгляд на свои руки, качает головой:
– Боюсь, вы хотите знать больше, чем я могу рассказать. – Она поднимает голову и снова улыбается ему. – Честно; боюсь, я не в состоянии объяснить это «и почему»… – Улыбка у нее кривоватая, но отнюдь не хамская, как ухмылки тех болванов на берегу; кривоватая, но в ней – искреннее сожаление, в чем-то даже приятная улыбка. Дрэгер дивится злости, которую всколыхнул в нем ответ девушки, – проклятый грипп! – дивится частым ударам сердца и тону, взметнувшемуся ввысь из-под контроля:
– А этот недоумок, ваш муж, – он хоть понимает? В смысле, он понимает опасность сплава по реке без посторонней помощи?
Девушка продолжает улыбаться ему:
– Вы хотели сказать, понимает ли Хэнк, что подумают в городе о нем и его затее… Это вы хотели сказать, мистер Дрэгер?
– Это. Да. Да, именно так. Он в курсе, что рискует всех – абсолютно всех – восстановить против себя?
– Он рискует не только этим. Он может потерять и свою маленькую женушку, если будет упорствовать. Это с одной стороны. А может – и жизнь, с другой.
– И что?
Девушка пару секунд вглядывается в Дрэгера, потом делает глоток пива.
– Вам этого никогда было не понять. Вы просто хотите узнать причину. Или две-три причины. А причины эти возникли две-три сотни лет назад…
– Вздор. Я хочу знать только одно – почему он передумал.
– Для начала вам придется узнать, как он с самого начала это делал, разве нет?
– Что делал?
– Думал, мистер Дрэгер.
– Хорошо. В смысле, ладно. У меня много времени.
Девушка снова прикладывается к стакану. Закрывает глаза и убирает влажный локон со лба. Дрэгер вдруг понимает, что она невероятно устала – почти что в обмороке. Он ждет, когда она снова откроет глаза. Из уборной неподалеку разит хлоркой. Звуки музыкальной машины снова бьются в закопченные стены, обшитые сучковатой сосной:
…Разбитое сердце, пустая бутылка:
Пытаюсь забыться, вином заливаю…
Но в мыслях – по-прежнему ты, дорогая.
Девушка открывает глаза и поддергивает рукав, чтобы посмотреть на часы. Затем снова кладет руки на малиновый альбом.
– Знаете, мистер Дрэгер, в этих местах все по-другому. – Вздор: мир везде одинаков. – Нет. Не сердитесь, мистер Дрэгер. Правда. Мне и самой не верилось… – Она читает мои мысли! —…но постепенно свыклась. Вот. Давайте покажу вам кое-что. – Она открывает альбом: запах навевает ей мысли о чердаке. (Ох да, чердак. На прощанье он меня поцеловал, и болячка на моей губе…) – Это история семьи, вроде того. Наконец-то решила почитать. (А я наконец-то допускаю… губы мои идут волдырями каждую зиму.)
Она двигает книгу по столу к Дрэгеру: это большой фотоальбом, разбухший от старых снимков. Дрэгер медленно раскрывает его – в нерешительности, как давеча прикладывался к биноклю.
– Но здесь же ничего не написано. Только даты и картинки…
– Включите фантазию, мистер Дрэгер; я так и сделала. Ну же, давайте, это занятно. Посмотрите.
Девушка переворачивает книгу, чтобы ему было удобно, кончик ее языка выглядывает из уголка рта. (Каждую зиму, что провожу здесь…) Дрэгер склоняется над альбомом: освещение скудное. Вздор, она знает не больше, чем… Он перелистывает пару страниц с лицами, машина булькает:
Одинокую тень я бросаю,
Одинокие песни пою…
Дождь снова барабанит по крыше. Дрэгер отодвигает книгу, затем снова подтаскивает к себе. Вздор. Она не… Он ерзает на деревянном стуле, устраиваясь поудобнее, надеясь превозмочь непокорное головокружение, которое ускорялось в нем с того самого мига, когда он подкрутил настройку резкости на бинокле.
– Ерунда! – Но вот в чем беда, вот в чем вся беда… – Бессмыслица какая-то. – Он снова отталкивает книгу. Чушь все это.
– Вовсе нет, мистер Дрэгер. Гляньте. – (Каждую клятую зиму…) – Давайте пролистаю перед вами летопись семьи Стэмперов… – Балаболка, какое касательство имеет прошлое… – Вот, например, 1909 год, давайте прочту. – …к делам настоящим? – Читаем: «В то лето был кровавый прилив, что перепортил всех мидий, погубил с дюжину индейцев и троих из нас, христиан». Представьте только, мистер Дрэгер. – Однако ж дни все одинаковые, черт возьми (дни, что шуршат мягкою влажной наждачкой меж пальцев, безмолвные и податливые клыки времени, перемалывают); и лето – всегда лето. – Или вот… поглядите: зима 1914-го, когда замерзли все реки. – Зимы – тоже все одинаковые. (Здесь каждую зиму плесень, видишь, как она лижет плинтусы сонным своим серым языком?) Или, в сущности, не отличаются одна от другой (каждую зиму – плесень, сыпь на коже, лихорадка на губе). – И нужно пережить одну такую зиму, чтобы получить хоть какое-то представление. Вы слушаете, мистер Дрэгер?
Дрэгер вздрагивает:
– Конечно! – И девушка улыбается. – Конечно, продолжайте. Просто… машина эта… – Булькает: «Одинокую тень я бросаю, одинокие песни пою…» Не то чтобы громко, но… – Но да, я слушаю!
– А фантазию включили?
– Да, да! Так что… – …мне в годах тех минувших, что меняют они? (каждую зиму – новый тюбик «блистекса» для губ) —…вы говорите? – «Ты ушла – ну и что ж: без тебя я пою…»
Девушка закрывает глаза, будто впадает в транс:
– Сдается мне, мистер Дрэгер, «почему» кроется глубоко в прошлом… – Чепуха! Вздор! (И все же – каждую зиму… Чувствуешь, как уже нарождается язвочка на нижней губе?)
– Припоминаю, дед Хэнка, отец Генри… дайте-ка подумать… – Но. Возможно. (Непреклонно.) «Одинокая тень моя». – Конечно, там есть… – Тем не менее. (И все же.) – С другой… – Стоп… стоп.
СТОП! НЕ ПАРЬСЯ. ПРОСТО СДВИНЬСЯ НА ПАРУ ДЮЙМОВ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО – И БУДЕТ ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Погляди… Реальность – нечто большее, нежели сумма ее составляющих, да и чертовски святее. А жизнь того же вещества, что наши сны, может, и окружена сном, да только не обвязана аккуратно красной лентой с бантиком. И правда прибывает не всегда вовремя, как электричка… однако ж само время, бывает, работает на правде… И Сцены Прошлого, и Будущего Сцены мешаются в потоке воедино, в морских темно-зеленых хлябях, а Настоящее кругами разбегается по глади. Вот потому и не парься. Ведь сместить нетрудно фокус вперед или назад на пару дюймов. И снова… погляди…
Вот бар ненавязчиво разверзается сферическими волнами, теснящими дождь.
1898 год, Канзас, пыльный вокзал. Солнышко читает по губам яркий золотой вензель на двери пульмана. Вот стоит Йонас Арманд Стэмпер. Его долговязая фигура подпоясана лоскутом пара, отчего похожа на черный флагшток, обернутый приспущенным вымпелом. Он стоит у позолоченной двери, чуть наособицу, в одной стальной руке его зажата черная шляпа с плоскими полями, в другой – черная книга в кожаном переплете. Он молча наблюдает прощание супруги и троих мальчиков с остатней родней. Крепкое, солидное семейство, думает он, крепкое и солидное, как накрахмаленный миткаль на них. Весьма внушительное собрание. Но при этом он знает, что в глазах полуденной толпы на станции сам он смотрится куда крепче, солиднее и внушительнее, чем все прочие, вместе взятые. Его волосы, длинные и глянцевито-черные, выдают индейскую кровь; его брови и усы точно горизонтальны, будто начерчены по линейке толстым грифелем на ширококостном лице. Упрямый подбородок, жилистая шея, могучая грудь. И хотя ему недостает нескольких дюймов до шести футов, осанка его такова, что кажется он куда выше. Да, впечатляет. Крепко-чопорный, кожаного переплета, стального сердечника патриарх, бесстрашно ведущий свое семейство на Запад, в Орегон. Упрямый первопроходец, вышедший в поход к новым, девственным пределам. Впечатляет.
– Береги себя, Йонас!
– Бог убережет, Нат. Во всех делах наших промысел Божий.
– Хороший ты мужик, Йонас.
– Господь своих не оставит, Луиза.
– Аминь, аминь.
– Угоден Господу путь твой.
Он сдержанно кивает, разворачивается, собираясь сесть в поезд, и видит троих своих мальчиков… Глядите-ка: все ухмыляются. Он хмурится, напоминая, что, как бы ни ратовали они за переезд из Канзаса в глухомань Северо-Запада, решение было – его и ничье более, ибо лишь он один вправе решать и разрешать, и упаси их Бог забыть об этом!
– На то воля Господа! – повторяет он, и двое младших мальчиков опускают глаза. А старший, Генри, смело встречает отцовский взгляд. Йонас порывается что-то сказать, но есть в лице мальчика нечто такое, нечто настолько вопиюще победоносное и богохульное, что слова застревают в горле бесстрашного патриарха, хотя лишь много после понимает он в полной мере этот взгляд. Нет, Йонас, ты понял в тот же миг. Печать сатанинской лукавой ухмылки. Тебе ведом был этот взгляд, и кровь твоя застыла в жилах, когда ты увидел, чему, пусть ненамеренно, оказался сопричастен.
Кондуктор дает звонок. Двое младших мальчиков, прошмыгнув мимо отца, забираются в вагон, бормочут благодарности, спасибо-вам-пребольшое, за снедь в бумаге, что суют им родственники. За ними – мать, глаза на мокром месте, сама на взводе. Поцелуи в щечку, последние рукопожатия. За ней – старший сын, кулаки – в карманах брюк. Внезапно поезд дергается, отец хватается за поручень, заскакивает на подножку, воздевает руку помахать родне.
– Прощевайте!
– Не забывай писать, Йонас, слышишь?
– Напишем. Вы и сами скоро вслед за нами двинетесь.
– Прощевайте… прощайте.
Он разворачивается, готов уж взойти по раскаленным железным ступеням – и опять ловит взгляд Генри.
– Господь милостив, – шепчет Йонас, сам не зная, к чему. Да нет же, будь честен: ты знал, к чему. Ты знал, то был грех твоей семьи, что вырвался из геенны, и знал, какова твоя в нем лепта, знал точно так же, как знал, что за грех. – Прирожденный грешник, – бормочет Йонас, – с рождения проклятый.
Ибо и в твоем поколении, Йонас, семейная летопись дочерна замарана тем же грехом: Ты знаешь этот грех. Клеймо Скитальца. Клеймо Бродяги; жгучее Клеймо Вероотступника, отвергающего жребий, ниспосланный Господом…
– Да зуд у них в ногах! – спорят добродушные.
– Идиотство! – громыхают упертые. – Святотатцы!
– Просто бродяги.
– Болваны! Болваны!
Переселенцев – вот кого являет миру история этой семьи. Жилистое, сухопарое племя упрямых непосед, стремящихся на закат, являет их разрозненная история. Много кости, мало мяса – и в вечном движении с того самого дня, когда первый тощий иммигрант Стэмпер сошел с корабля на восточный берег материка. В движении целеустремленном, будто в трансе. Поколение за поколением скачками перебирались они на запад по просторам юной Америки; не как первопроходцы, несущие Божий труд свой в языческие земли; и не как фантазеры, торящие путь растущей нации (хотя частенько Стэмперы скупали фермы обескураженных первопроходцев и табуны разочарованных фантазеров, обращавших стопы свои обратно к хорошо проторенной Миссури); но просто – клан жилистых людей, с их вечным зудом в ногах, с их идиотством, склонностью к дурацким скитаниям, с верой в то, что за долами трава зеленее, а за холмами елки прямее.
– Еще бы. Вот через этот холм переберемся – а там и сесть-посидеть в самый раз.
– Точно. Там у нас будет вдосталь времени…
Но неизменно, как только отец семейства срубал последнее дерево и выкорчевывал последний пень на делянке, а мать семейства наконец-то расстилала на полу льняной коврик, о котором так давно мечтала, какой-нибудь шпанистый семнадцатилетка с квакающим голоском выглядывал в окно, поскребывал сухой свой живот и изрекал:
– Знаете… мы могли бы сыскать надел получше, чем эти кочки-коряги.
– Сыскать получше? Сейчас, едва мы встали на ноги?
– Думаю, да.
– Что ж, ты, может, и найдешь. Хотя, если честно, сомневаюсь я в этом. А мы с отцом и с места не двинемся!
– Как угодно.
– Нет уж, мистер Скипидар в Одном Месте! Мы с твоим отцом сыты по уши!
– Вот я и говорю, как вам угодно, потому что я двигаю дальше. А вы со стариком – как знаете.
– Минуточку, дружок…
– Эд!
– А ты, женщина, осади назад: не надо тут за меня говорить, что я намерен делать. Ладно, дружок, из чистого любопытствия: что конкретственно у тебя на уме?
– Эд!
– Молчи, женщина: я с сыном толкую.
– Ох, Эд…
И на месте оставались только старики и больные, не способные идти дальше на запад. Слишком старые, слишком больные или же, если говорить о семейной истории в целом, слишком мертвые. Ибо если кто-то подхватывался в путь – подхватывались все. И сердечки из-под монпансье на чердаках набиты волнующими путевыми хрониками, разящими табаком.
«…воздух здесь в самом деле свежий».
«…а дети прекрасненько учатся, и поверьте уж, нечего убиваться из-за такой оторванности от цивилизации».
«…ждем вас, ребята, в гости сюдой в скорехоньком времени, слышите?»
Или же – свидетельства тоски беспокойного духа:
«…Лу мне говорит не обращать на тебя внимания, потому что ты-де и Оллен и все остальные только палки нам в колеса суваете, но я не знаю и сказал ей не знаю. Я сказал ей во-первых, что пока не готов тут осесть, мол, не знаю как тут все пучком и правда ли, что от добра добра не ищут. Поэтому я чуток еще пораскину мозгами…»
Так они и перемещались. И пусть с прошествием лет какие-то ветви семейства замедляли бег, преодолевая за жизнь поколения каких-нибудь миль десять-пятнадцать, все равно путь их лежал на запад. А кое-кого уж настойчивым внукам приходилось вытаскивать из развалюшных хором. А кое-кому со временем даже удавалось рождаться и умирать в одном и том же городке. Затем, наконец, появились Стэмперы заметно более практичного склада; Стэмперы с головами достаточно холодными, чтоб остановиться, оглядеться; рассудительные, вдумчивые Стэмперы, сумевшие изобличить свою семейную черту, нарекши ее «изъяном в породе», и взявшиеся за ее исправление.
Эти трезвомыслящие ребята приложили немало сил к тому, чтоб одолеть изъян, в самом деле потрудились, чтобы раз и навсегда прекратить это бессмысленное «всуешагание» на запад, остановиться, осесть, пустить корни и довольствоваться тем, что судил им великий Господь. Такие вот разумные люди.
– Что ж, теперь ладно… – Остановились на плоских равнинах Среднего Запада, открытых взору во всех направлениях. – Ладно. Наверное, незачем дальше идти. – Остановились и сказали: – Пора уж положить конец глупости, помыкавшей нашими предками; коли можно остановиться, оглядеться окрест и увидеть, что слева не лучше, чем справа, а впереди не больше полыни и ковыля, чем за спиной, и за тем холмом равнина не ровней всех прочих, что мы прошагали за две сотни лет, – так и на кой же ляд идти куда-то еще?
И если никто не мог привести уважительной причины, эти прагматики сухо кивали и топали истертым башмаком по дощато-ровной земле:
– Да, все пучком! Все, что надо, ребята, тут, у нас под ногами. От добра добра не ищут.
Их неуемная энергия потихоньку отыскивала выходы более разумные, нежели скитания, более практичные, нежели походы: торговля, община, церковь. Они обзаводились банковскими счетами, портфелями и мандатами местного разбора и даже – эти-то жилистые ребята – пивными животиками. Портреты таких господ можно найти в коробках на чердаках: черные костюмы решительно напряжены против ширм салона светописи, рты жесткие, непоколебимые. Письма: «…мы забрались уж достаточно далеко».
И сидят они в кожаных креслах, подобно выкидным ножам, готовым сложиться в ножны. Накупили семейных участков на кладбищах – в Линкольне, в Де-Мойне, в Канзас-Сити, эти прагматики. Назаказывали по почте огромных и пухлых бордовых честерфильдов для своих гостиных…
– Эхма. Так-то. Житуха – что надо. И пора бы уже.
И все лишь затем, чтобы вновь двинуться дальше по воле первого же юноши с пламенным взором, что сумеет навесить свои мечты на отцовы уши. Согласись: ты уже тогда признал этот взгляд; до первого сопливого непоседы с лягушачьим голосом, способного убедить Папашу в том, что на западе трава зеленее, чем здешние кочки-коряги. И вновь – трудный, неустанный поход… тебе ведь знаком этот взгляд, ты мог уберечь нас от боли сердечной… подобно стаду, гонимому засухой, неутолимой жаждой – но не уберег – стремятся они за мечтой о стране, где вода на вкус как вино:
А в Спрингфилде вода – что креозот,
Дорогой пыльною шагаю я вперед.
В путь, в путь – покуда вся семья, весь клан не уперся в соленый вал Тихого океана.
– И дальше куда?
– Хер знает – да и вода тут на мочу больше смахивает, никак не на вино.
– Так дальше куда?
– Без понятия! – Затем с отчаянием: – Куда-нибудь, отсюда подальше! – С лихой и безысходной усмешкой: – Главное – прочь отсюда, там видно будет.
– Презревая жребий, что назначил Господь, – бормочет Йонас, – ведомые проклятьем. – А ведь ты мог уберечь семейство от этой напасти – поиска заветной землицы. Ибо ныне знаешь, что все это суета сует и томление духа. Стоило лишь сразу собрать всю свою волю в кулак, когда впервые заприметил этот лукавый дьявольский оскал в ухмылке Генри, тогда, на станции, – и ты бы всех нас уберег от беды. Он поворачивается к сыну спиной и машет рукой отаре братьев и кузин, шагающих за поездом, набирающим медленно ход.
Произведения
Критика