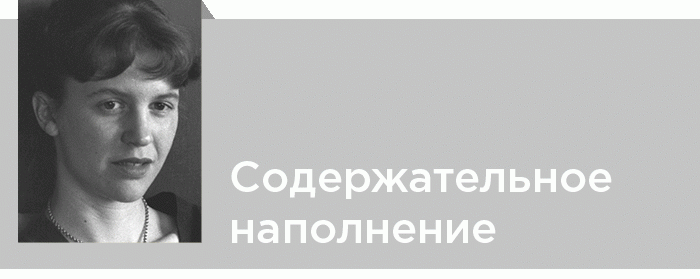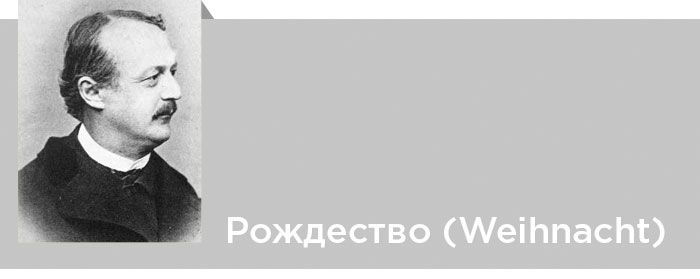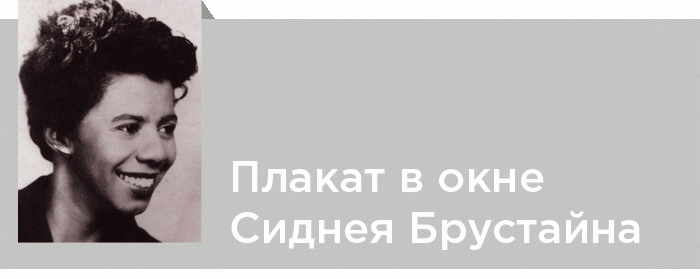Сильвия Плат: неоконченные споры
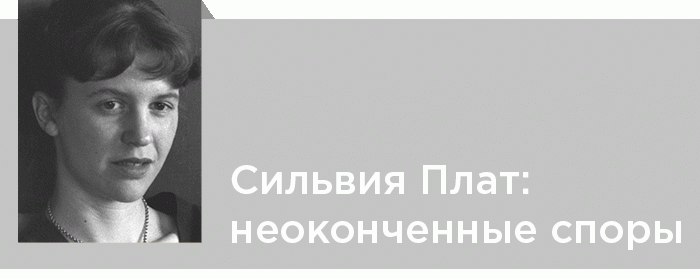
А. Зверев
При жизни ее известность не переступала границ небольшого кружка ценителей современной поэзии и самих поэтов — американских и английских. Слава пришла с запозданием, в конце 60-х. Но какая слава! Не только был многократно переиздан «Колосс» (1960) — единственный сборник стихов, который она успела опубликовать при жизни, не только полноправно вошел в списки бестселлеров роман «Под стеклянным колпаком», вышедший в свет всего за три недели до ее самоубийства — 11 февраля 1963 года, когда Сильвия Плат едва перешагнула за черту тридцатилетия. Откровением для большинства критиков оказался «Ариэль» — ее вторая поэтическая книга, законченная в эти последние месяцы, когда Лондон был завален снегом и от свирепого мороза лопались трубы отопления. В печати заговорили о выдающемся таланте, преступно не замеченном, не оцененном, оставленном без поддержки...
А потом набросились на дневники, письма, рукописи студенческих лет, рассованные по дальним ящикам рабочего стола, где они пылились без движения долгие годы. Знавшие Сильвию принялись писать воспоминания, для ее поклонников ограниченными тиражами печатались небольшие книжки несобранных стихов и прозы. Ее мать подготовила и напечатала «Письма домой» с 1950 по 1963 год — и они были названы лучшей из биографий поэтессы. К этому времени, впрочем, существовало уже три биографии Плат: одна из них вышла в Эдинбурге, другая в Стокгольме, третья в Нью-Йорке... Кроме того, в 1970 году университетом штата Индиана был проведен симпозиум, а на его основе выпущен сборник «Искусства Сильвии Плат», в котором участвовали такие видные литературоведы, как А. Альварес, М. Розенталь, Дж. Стайнер, такие известные поэты, как Энн Секстон и Тед Хьюз.
С той поры критическая библиография пополнялась необычайно быстро. О Плат писали, ее переводили в Польше, в Италии, в Японии. Известно ее творчество и в нашей стране: несколько стихотворений поэтессы вошли в выпущенную «Прогрессом» в 1975 году антологию «Современная американская поэзия». Книги о ней исчисляются десятками, статьи — сотнями: это и очерки творчества, и сопоставительные разборы, и анализ отдельных поэтических мотивов, тем, стихотворений.
Перечисление только наиболее заметных работ заняло в позднейшем из посвященных поэтессе сборников критических статей, озаглавленном «Сильвия Плат. Новые оценки ее поэзии» (1979, под редакцией Гэри Лейна), двенадцать страниц убористого текста. Достаточно пробежать заглавия, чтобы убедиться, сколь по-разному ее интерпретировали. Одна другую сменяют формулировки типа «поэзия существования», «феминистский взгляд», «комплекс непримиримых антагонизмов», «мания самоубийства», «лирика страдания», «исповедальный пафос», «расколотая душа». С другой стороны, в ее стихах находили и автопортрет типичной американской провинциалки, воспитанной на доверии к «мечте» о безграничной свободе как основе естественной гармонии человеческого существования. И отзвуки романтического бунтарства против бюргерского самодовольного оптимизма, получившего для себя такие действенные стимулы в ненавистном ей потребительском обществе. И культ творческого воображения, бросающего вызов унылой, утилитарной рациональности окружающего. Даже комедийное мироощущение, лишь по жестокой иронии судьбы вылившееся в трагизм таких знаменитых стихотворений, как «Тюльпаны» или «Папочка», и затем — в трагизм окончательного расчета с жизнью.
На страницах сборников Э. Батшера и Г. Лейна бурлит эта резкая разноголосица оценок. Ее, конечно, следовало ожидать: слишком уж несходны позиции участников. И все же едва ли стоит упускать из виду то обстоятельство, что конечная цель их заключалась в создании коллективными усилиями концепций жизни и творчества поэтессы, которые предлагали бы сравнительно целостную и завершенную характеристику Плат как явления. Отчего же, закрывая их, испытываешь чувство, что у каждого из пишущих свой образ Плат и что критические баталии вокруг ее наследия, самой ее личности только обостряются с ходом лет?
Дело, видимо, в том, что поэзия Сильвии Плат — явление, по сути, незавершенное, не успевшее откристаллизоваться: это не столько выношенное слово о мире, сколько поиск такого слова, оборвавшийся где-то неподалеку от цели.
Многое здесь определялось эпохой. 50-е годы для американской поэзии — расцвет так называемой «исповедальной» школы, когда автобиография была провозглашена если не единственным, то во всяком случае главенствующим художественным фактом, когда едва ли не исчезла дистанция между «я» житейским и «я» поэтическим. После шока маккартизма, насаждавшего мимикрию как норму бытия, сделавшего всевозможные маски необходимым защитным средством для каждого, пробудилась обостренная жажда искренности, пробудилась властная потребность заново открывать реальный мир, переживая его во всей путанице, пестроте и случайности его связей, — так, словно речь шла о чем-то сугубо интимном, о непосредственно значимом и предельно важном для самого поэта, свидетеля и участника всего, что происходило вокруг. Некоторыми из тогдашних поэтов, включая и Сильвию Плат, «исповедальность» эта доводилась до абсолюта, и стихотворение ценилось тем выше, чем прихотливее оно было по ассоциациям и чем насыщеннее был его подчеркнуто субъективный колорит, так что любая мелочь частного существования личности свободно сопрягалась с событиями, волновавшими в ту пору все человечество, с огромными философскими проблемами, с вечными этическими вопросами.
Но было в той «исповедальности», которую критики, принимая ее или не принимая, почти неизменно считают определяющей чертой поэзии Плат, и нечто резко своеобразное — идущее не от литературных веяний, а от особой личной судьбы.
Сильвия Плат выросла в семье иммигрантов-австрийцев, очень рано узнав и бедность, и суровость домашней тирании, и то чувство отверженности, которое в годы детства — годы второй мировой войны — ей приходилось переживать снова и снова уже оттого, что родители говорили с немецким акцентом. Отвращение к неуютному родному очагу сложно уживалось у нее с обостренной тягой к дому как единственному убежищу от жестокости, от глумления сверстников, от мучительного сознания, что волею обстоятельств она оказалась «аутсайдером», чужой в окружающем мире. Через все творчество Плат прошла эта тема поисков настоящего дома, а травмированность детских лет выплеснулась потом в горьких и по житейскому счету глубоко несправедливых строках стихотворения «Папочка», где скромный энтомолог Отто Плат, никому не причинивший никакого вреда, приравнен к нацистским палачам, а самое себя Сильвия отождествляет с жертвами Освенцима, — чтобы в финале провозгласить бездомность и разрыв с семейным наследием судьбой всего своего поколения и, одновременно, его драмой, ибо существование в пустоте, без корней и без пристанища, непереносимо.
Это самое знаменитое из стихотворений Плат было написано уже незадолго до трагического конца, вобрав в себя и память ранних лет и, в еще большей мере, — опыт первых прямых столкновений с духовным климатом времен маккартизма. Годы, проведенные в колледже Смита (1950-1955), были решающими в формировании Плат — и как личности, и как поэтессы. Она оказалась среди тех первых бунтарей против обезличенности, конформизма и запуганности «молчаливого большинства», которые громко заявят о себе в середине 50-х годов, выдвинув такую яркую в творческом плане индивидуальность, как Аллен Гинсберг. И в то же время в Сильвии Плат, при всей ее непримиримости к мещанству как стилю жизни и образу мышления, слишком сильно чувствовалось духовное родство с теми самыми благополучными обитателями американской провинции, которым и был брошен вызов поэтами-битниками, точнее — не родство, а тяга к прочности их основательно налаженного бытия, к гармоничности, сбалансированности всех их представлений о мире.
Многие из писавших о Плат замечали и в ее поведении, и в стихах приметы хорошо знакомого любому американцу голливудского образа «девочки из соседнего дома», бесконечно доверчивой к жизни и победно по ней шагающей, озаряя экран беспечной и радостной улыбкой очаровательной простушки, которой все дается без заботы и труда. Может быть, этот образ — при всей его искусственности, пошловатости даже — и привлекал Плат так сильно оттого, что собственная ее жизнь меньше всего напоминала голливудскую бытовую комедию со счастливой развязкой. И кажется необъяснимым, как ее яростное бунтарство сочеталось с приверженностью обывательским ценностям и с доверием к иллюзии настолько стандартной и самоочевидной. Но это — один из парадоксов, без которых невозможно понять Плат. Даже в последних своих стихах, уже пережив тяжелую личную катастрофу, какой оказался ее брак с британским поэтом Тедом Хьюзом, брак, сделавший необходимостью переезд в Англию, где так резко усилился ее комплекс «чужой», — даже в них Плат еще пытается внушить себе утешительные иллюзии и увидеть мир в слепящих лучах солнца, но тут же беспощадно разрушает свою мечту, и финалом становится отчаяние.
Писательница и критик Джойс Кэрол Оутс (ее статья — одна из наиболее концептуальных в сборнике под редакцией Э. Батшера, 1977, озаглавленном «Сильвия Плат. Личность и творчество») увидела в поэзии Плат агонию романтизма — не только романтической художественной традиции, но и романтического мироощущения, пусть даже выродившегося настолько, что осталась одна мещанская романтика, одна лишь улыбчивая «девочка из соседнего дома». По признанию Оутс, стихи Плат поразили ее своей инфантильностью: даже восставая против системы жизненных отношений потребительского общества с его «толпой одиноких», она бунтовала не столько во имя иного идеала, сколько во имя той одухотворенной и целостной жизни, которая для ребенка является естественным укладом бытия, и жажда такой жизни у Плат была столь же всепоглощающей, как у детей. Оттого автобиографичность, «исповедальность» ее стихов меньше всего были художественной условностью, творческим приемом, результатом сознательного усилия. Она лишь наивным, непосредственным взглядом охватывала мир во всех причудливых переплетениях боли и радости; эта-то наивность, полагает писательница, и стала главной причиной последовавшей трагедии.
Для Оутс существенно, что трагедия Плат предопределена ее эпохой — и убожеством конформистски настроенного окружающего мира, и тем обезличиванием, тотальной стандартизацией, которые стали своего рода фирменным знаком «общества всеобщего благоденствия», покончившего с последними заблуждениями по части уникальности каждого человеческого «я» и священной суверенности его прав. Романтизм, а еще вернее — то ренессансное по духу самоощущение, которое было присуще Сильвии Плат, оказалось в непримиримом конфликте с объективными нормами и закономерностями общественной жизни, какой она предстала всему тогдашнему поколению. Здесь и обнаруживает Оутс исходный узел противоречий, лишь усугубляемых внутренними конфликтами, запечатленными в «Колоссе» и «Ариэле», и придавших поэтическому творчеству Плат глубокий драматизм, хотя драматизм этот вовсе не был предопределен характером ее таланта и видения.
Сама Оутс отвергает подобный тип романтического мировосприятия как раз по причине его «инфантильности», в итоге неизбежно порождающей бесплодные мечты о бегстве от реального, а после их крушения — приступы безысходной тоски и волны самоубийств. О Сильвии Плат она судит как художник, духовно сформировавшейся в другое время, когда эстетическое бунтарство приняло характер массового политического брожения, при всей смутности своих стимулов побуждавшего все-таки к активному вторжению в действительность, а не к уходу от нее. К. Бедиент, автор наиболее обстоятельной статьи в антологии под редакцией Г. Лейна, тоже пишет о Плат как о романтике, но для него все дело в подчеркнутой субъективности миропонимания, раскрывшегося перед читателями «Ариэля», и субъективности поэтического видения, проще говоря, в красочности и необычности образов, нешаблонности художественных ходов. Еще дальше идет в том же направлении Дж.Д. Маклэтчи: он сводит суть творческих исканий Плат к обновлению стиля, особенно заметному в стихах последних лет, где преобладает живая речь с ее изменчивыми интонациями и ослаблена жесткость поэтической структуры. Эти особенности стиха «Ариэля» тонко анализирует Р.А. Блессинг, на ряде примеров демонстрирующий многозначность образов Плат и ее искусство ненавязчивого выделения ведущего эмоционального мотива, постепенно приобретающего новые оттенки в полифоническом «контексте» книги как целого.
Многих американских критиков, пишуших о поэзии, часто и справедливо упрекают в формализме. Два сборника, посвященные Плат, пожалуй, не дают новых оснований для таких упреков, но у каждого из них своя беда — почти неизбежно узкий, локальный ракурс рассмотрения материала. В своих границах некоторые работы примечательны многообразием наблюдений и четкостью аргументации, но слишком уж стеснительны эти границы. Это признает и Г. Лейн в предисловии к своей антологии, собственная же его статья «Оригинальность и подражание в стихах Плат» служит хорошей иллюстрацией такого вывода: сопоставления Сильвии Плат с Диланом Томасом и Теодором Рётке местами остроумны и тонки, но, право же, вряд ли стоило тратить столько пороха для того только, чтобы доказать, что истинным наставником ее все же остался Уильям Батлер Йейтс — тем более, что на этот счет есть прямые авторские свидетельства.
Лишь изредка масштаб анализа укрупняется и в поле зрения пишущего попадает особый художественный феномен — поэзия Плат. И тогда мнения сразу же становятся резко определенными, полярными в своей противоположности. Так, Э. Батшер убежден, что никто из послевоенных поэтов США не выразил свое время так глубоко и оригинально, как Сильвия Плат, у которой тема «поисков дома» — вулфовская, особо традиционная для американцев и всегда актуальная — приобрела тональность неподдельного трагизма, взвинченного до «безумия», хотя оно всегда контролируется логикой поэтической мысли и строгостью формы (свою монографию о Плат Э. Батшер так и озаглавил — «Безумие и последовательность», 1976). А поэт Дэвид Шапиро, выступивший в антологии Г. Лейна, объявивший сущностью поэзии Плат... мелодраму и истерику, декларировал, что сегодняшнему поколению американских стихотворцев, тяготеющему, по его убеждению, к «нондискурсивной» (т. е. бессодержательной) поэзии и не признающему «референциальности» (иными словами, попросту не ждущему отклика от читателя), опыт поэтессы не может дать ничего денного в творческом плане, как, впрочем, и весь опыт «деградировавшего реализма, который кокетничал с публикой».
Эта статья, конечно, гораздо нагляднее иллюстрирует авангардистские увлечения ее автора, нежели предмет, которому она посвящена. Но заметим, что за последние десять лет восторженность, с какой обычно пишут о Плат, ощутимо поумерилась, и в критике зазвучали совсем другие голоса. Слышны они в обоих сборниках. Маститый Хью Кеннер, выступающий в антологии Г. Лейна, раскритиковал «Ариэль» как пример «псевдоискренности», «мнимой одухотворенности» и засилья кладбищенских мотивов, свидетельствующего лишь о болезненности психики автора. А Ирвинг Хау, чья статья завершила книгу под редакцией Э. Батшера, признавая большое дарование Плат, решительно выступил против попыток представить ее «олицетворением нашего нездорового века» и отверг все «исповедальное» направление, которое, по его мнению, утратило «поэтическую дисциплину», это бесценное завоевание Т.С. Элиота.
Творческий актив этого направления, утверждает И. Хау, вполне исчерпывают несколько настоящих удач Сильвии Плат — те ее стихи, которые передали ощущение человека, оказавшегося «в крайней ситуации, на самом краю небытия». Но при всем том еще не доказано, что даже и эти потрясающие стихи «способны помочь лучшему пониманию знакомых нам всем коллизий — моральных, психологических, социальных».
Конкретные оценки и X. Кеннера, и И. Хау можно и должно оспаривать; но важна и самая интонация их статей, сдержанность тона. Дело, наверное, не только в эстетических пристрастиях: на рубеже 60-70-х годов Сильвия Плат сделалась символом крайнего антагонизма между поэтом и обществом. Теперь крайности смягчены, и в изменившейся духовной атмосфере Америки последних лет меняется и отношение к ее творчеству.
Впрочем, этому на свой лад способствовало и обилие публикаций из ее архива, порой вовсе игнорировавших критерий объективного значения — меру простой творческой самостоятельности посмертно печатаемых вещей. Например, подготовленный Тедом Хьюзом сборник прозы под названием «Джони Страх и Библия грез», вышедший первым изданием в 1977 году в Англии, а двумя годами позже в дополненном виде переизданный в США, в глазах серьезного читателя пошатнет репутацию Плат, пожалуй, серьезнее, чем самые жестокие нападки критиков. Из предисловия редактора мы узнаем, что Плат всегда мечтала о положении признанного и житейски благополучного литератора, а поскольку поэзия не сулила таких перспектив, все упорнее с годами делались ее стремления утвердиться в более рентабельной литературной области — такими сферами для Плат были новелла, а также репортаж. Ни одна из новелл, вошедших в книгу, при жизни автора не была напечатана, и вряд ли об этом стоит чрезмерно сожалеть. О том, сколь неуверенно чувствовала себя Плат на новом поприще, свидетельствуют и дневниковые записи, также включенные в издание. Даже роман «Под стеклянным колпаком», ставший ее большой художественной удачей, она напечатала под псевдонимом.
Новеллы, как правило, тяготеют к мотивам этого романа, во многом автобиографического и закрепившего за автором славу «поэта отчаяния» в не меньшей мере, чем стихи. Плат-прозаику хотелось отойти от автобиографичности: «Если я не смогу писать ни о ком, кроме самой себя, мне конец». И все же больше других удались ей те фрагменты, за которыми просматривается реальная авторская биография, идет ли речь о первом свидании с океаном, пережитом еще в раннем детстве и оставшемся среди самых ярких воспоминаний писательницы, или о неуютном Лондоне последних месяцев ее жизни, когда все рушилось в существовании Сильвии Плат.
Из быта, не порывая с ним, вырастает гротескный, чуть ли не сюрреалистический мир видений, складывается та библия страшных грез, какой, по замыслу, должны были в совокупности стать рассказы, начиная с заглавного, в котором в роли повествовательницы выступает секретарша главного врача психиатрической лечебницы. Но если в стихах подобное переплетение бытового и надреального порой давало сильный и неожиданный художественный эффект, в новеллах этот прием срабатывает не часто, обычно производит впечатление явно ученического. В сопоставлении, скажем, с рассказами Дональда Бартельма и других «черных юмористов», работающих в сходном эмоционально-психологическом ключе, проза Плат воспринимается как явление далекой литературной периферии. Есть все основания разделить мнение канадской романистки Маргарет Этвуд, в своей рецензии на сборник неизданной прозы Плат, напечатанной в «Нью-Йорк таймс», назвавшей ее «незначительным произведением значительной писательницы».
Важно не упустить из памяти вторую часть этой формулы — такая опасность реальна, если принять во внимание все еще продолжающийся бум вокруг наследия Сильвии Плат. Ее творческая жизнь была слишком недолгой, чтобы талант получил для себя настоящий простор, да и пути, которыми она двигалась, нередко замыкались тупиками, по значение ее для послевоенной американской поэзии несомненно.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1980. – Вып. 4. – С. 45-51.
Произведения
Критика