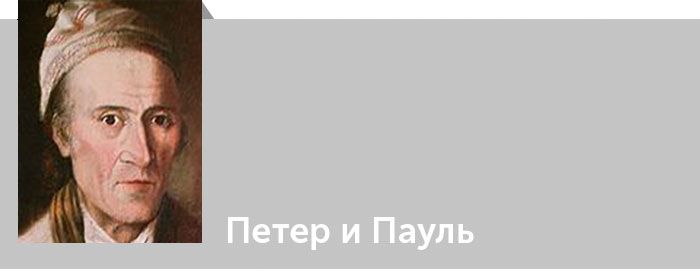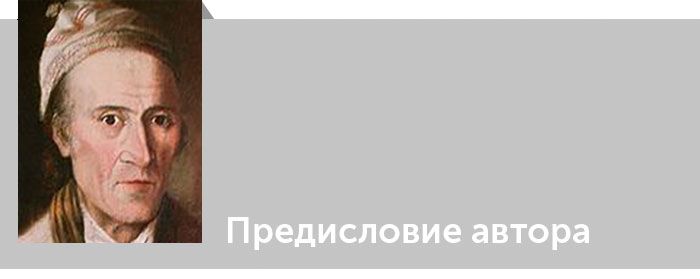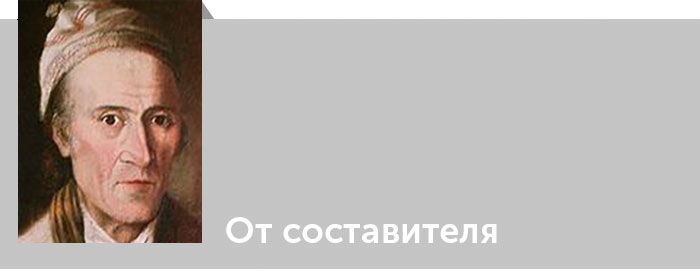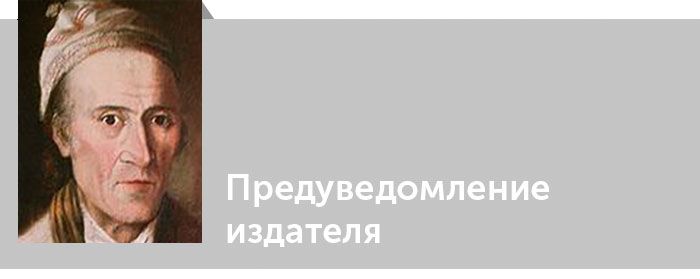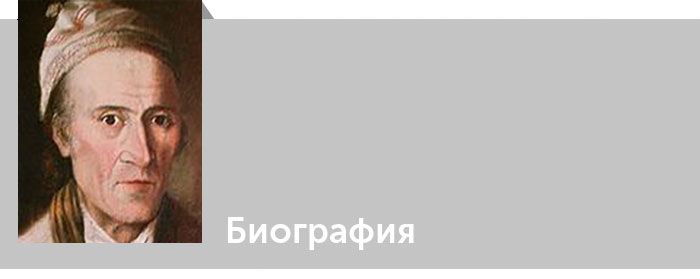История швейцарской литературы. Том 1. Глава 17

Ульрих Брекер
Ульрих Брекер (Ulrich Bräker, 1735—1798) — одна из наиболее своеобразных фигур в швейцарской литературе XVIII в. Крестьянский писатель-самоучка, он действительно “первый истинный плебей”1 среди просветителей, попытавшийся “снизу” осуществить тот союз плебея и философа, к которому призывал молодой Гердер.
Главным источником сведений о жизни и духовной эволюции Брекера служит его обширный дневник и написанная на его основе автобиографическая книга “История жизни и достоверные приключения бедного малого из Токенбурга” (“Lebensgeschichte und natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im Tockenburg”, 1788-1789).
Токенбургом именуется область в Восточной Швейцарии, включавшая в XVIII в. несколько убогих деревушек, расположенных в долине реки Тур у подножья Альп и населенных преимущественно полунищими крестьянами и ремесленниками, вся жизнь которых состояла в изнурительной борьбе с нуждой, голодом и болезнями. Люди рождались, с детских лет впрягались в тяжелый физический труд в отцовском хозяйстве — пахали землю, ухаживали за скотом, занимались домашним производством селитры и ткачеством, ходили в деревенскую школу, читали Библию и религиозные книги для народа, исправно молились в церкви и дома, по праздникам пили пиво в деревенском кабачке, знакомились с девушками из своего или соседних сел, женились, обзаводились хозяйством и многочисленными детьми, плакали над теми из них, кто умирал до срока, и снова работали, чтобы платить непосильные подати и прокормить семью. Так жили предки и родители Брекера, таков был и основной фон собственной его жизни с той малосущественной разницей, что, если отец его перед смертью окончательно разорился, то сам он сумел добиться известного, хотя все еще очень жалкого благополучия, сделавшись после тяжелых испытаний в “голодные 70-е годы” из крестьянина и ремесленника мелким торговцем и предпринимателем. Это не принесло Брекеру душевного облегчения: к постоянному страху перед кредиторами добавился столь же мучительный страх перед жестокими конкурентами, сопровождаемый полуискренними угрызениями совести из-за своей непригодности к практической деловой жизни — излишне доверчивого отношения к партнерам и излишне сочувственного — к должникам. В день смерти Брекера единственный друг его последних лет Даниэль Гиртанер записал в свой дневник: “О, как счастлив ты теперь, шестидесятилетний страстотерпец, что вся боль твоей жизни осталась позади!”2.
В своей автобиографии Брекер сознательно включает себя в длинный ряд поколений своего рода, где единственное наследство, которое отцы оставляют своим детям — это не титулы и богатство, а только честная бедность и искреннее благочестие3 — ценности, в признании которых звучит как гордое самоуничижение пиетиста, раз и навсегда вручившего свою судьбу Богу, так и руссоистское убеждение просветителя, противопоставляющего ложным ценностям цивилизации нравственную чистоту детей природы.
При всей прочности связей Брекера с его социальной средой типическая судьба токенбургского бедняка — только серый, унылый фон, на котором просветитель-плебей переживает уникальную историю своих “достоверных приключений”. На главные из них он указывает, когда говорит, что искал счастья вдалеке, в широком мире, а нашел его только в себе самом, в своем собственном “Я”4.
Первое приключение — поиски счастья в большом мире — продолжалось менее года. В 20 лет Брекер ушел из родного села, поверив, что за пределами Токенбурга “обетованная земля и денег как грязи”. Он становится слугой прусского офицера-вербовщика, занимавшегося поставкой швейцарских наемников в армию Фридриха II для участия в Семилетней войне 1756-1763 г. Проданный в рекруты, Брекер испытывает все тяготы солдатчины в берлинском гарнизоне и в походе на Саксонию, с первой минуты мечтает о дезертирстве и при первой возможности — во время сражения при Ловозице (1756) — сдается в плен к австрийцам, чтобы пешим маршем через Прагу вернуться в родные места, без славы и без денег, обогатившись лишь горьким знанием о бесправии и беззащитности маленького человека.
Второе приключение — это растянувшаяся на годы духовная авантюра самопознания и познания мира путем чтения и писательского труда. “Мир был для меня слишком узок, — замечает Брекер, — и тогда я стал создавать его заново в своей голове”5. Историей построения этого мира является дневник, начатый в 1768 г.6
Исходной точкой идейного развития Брекера является пиетизм, особенно популярный в низших слоях общества, среди бедных крестьян, которые искали спасения от тяжелых условий реальной жизни в индивидуальном религиозном чувстве, нередко в анабаптизме и хилиазме, как это и было в Токенбурге, где сильно чувствовалось влияние секты ясновидцев, основанной в этих местах швабским ремесленником Иоганном Роком7.
Брекер, с детства воспитанный в атмосфере пиетистической набожности, обязан пиетизму как своей страстью к постоянному самонаблюдению, к бесстрашному погружению во внутренний мир собственной души, так и тем мрачным, траурным мироощущением, тем обостренным сознанием греховности мира и человека, которое, будучи направлено на самого себя, доводило его порой до религиозной истерии и мыслей о самоубийстве, заставляя искать спасения в литературном творчестве как в форме покаяния. Дневник отчетливо показывает и эти пиетистские истоки творчества Брекера, и процесс их постепенного преодоления в пользу просветительского деизма или даже пантеизма.
В первых дневниковых записях Брекер восторженно восхваляет религиозную литературу пиетизма, ограничивающую круг его чтения в конце 60-х — начале 70-х годов. Таковы издавна хранившиеся в семье Брекеров сочинения “Истинное христианство” Иоганна Арндта и “Иисус Распятый” Самуэля Луца, к которым вскоре добавляется чрезвычайно популярная у швейцарских пиетистов “Берленбургская Библия”8. С этим кругом чтения соотносится ярко выраженное в дневнике живое ощущение личной близости Спасителя и мучительная ответственность перед ним за то, что душа — “не святая гробница для его истерзанного на кресте тела, а смрадная выгребная яма” — так страшно не готова принять в себя Бога9. В основе всех наблюдений и размышлений Брекера, когда он начинает свой дневник, лежит пиетистская идея религиозного отречения; одним из знаков этого отречения выступает резкое неприятие романов и любовной поэзии, жизнеописаний и рассказов путешественников — “вредных” светских книг, увлекающих слабую душу в ад миражами несбыточного земного счастья. Брекер вспоминает, как однажды в порыве раскаяния он сжигает несколько таких книг, чтобы они не смогли ввести в искушение его детей10.
Последующая метаморфоза Брекера — превращение пиетиста в просветителя, постепенное вытеснение веры в грозного всемирного бога все более заметными элементами нового оптимистического мировоззрения. О том, насколько трудно дается Брекеру этот путь, свидетельствует его признание, относящееся к 1780 г.: “Каждый раз, когда я читаю в Откровении о сомневающихся, меня бросает в дрожь от страха”11. Вместе с тем самый характер его угрызений указывает на непреодолимое влияние просветительских идей. “Ах, почему Ты не оставил нам собственноручного свидетельства своей воли, которое заткнуло бы рты твоим клеветникам?” — вопрошает он бога, и, предполагая, какой была бы эта воля, противопоставляет церковному учению естественную религию первоначального христианства, а современному социальному устройству идеал первых христианских общин, не знавших несправедливости и угнетения12.
Просветительские убеждения Брекера не имеют характера систематического мировоззрения, но начиная со второй половины 70-х годов на страницах дневника все чаще появляются суждения, доказывающие, что Брекер шел в ногу со своим веком. Так, уже в 1774 г. он резко осуждает конфессиональные споры и приходит к выводам в духе “Натана Мудрого” Лессинга: любая религия, христианская, иудейская или мусульманская, знает своих праведников, праведность выше вероисповедания, как учение Христа выше позднейшей церковной традиции. “Бог не прикован к нашей религии и секте, добрые дела человеколюбия — вот пробный камень истинной веры”13. Утверждая внеконфессиональную гуманистическую религию добродетели, Брекер вольно или невольно принимал всю систему просветительской мысли с ее учением о разумной, предустановленной Богом гармонии, которая может быть постигнута человеческим разумом, и о способности человека к бесконечному совершенствованию на путях постижения Бога в природе посюстороннего мира. Неудивительно, что в одном из позднейших фрагментов, касающихся прочитанных им сочинений по астрономии14, он действительно высказывает убеждение, что “лучшие и мудрейшие из людей могут так близко подойти к границе между человеком и высшими существами, что возвышаются почти до богоподобия”, и, объявляя средством такого возвышения не столько веру, сколько знание, пишет: “Сочинения Гельмута и Боде помогли мне составить довольно ясное представление о безмерном величии мироздания, вселили в мою душу восторг и восхищение перед творением великого зодчего... Книга, которую мы называем Библией или Откровением, дает мне куда менее возвышенные понятия о величии, всемогуществе, мудрости и доброте творца, чем великая книга природы, на изучение которой не хватит человеческой жизни... Но до конца своих дней буду я перелистывать и изучать ее священные страницы, и чем дольше, тем с большим, все более глубоким наслаждением”15.
В 80-е годы влияние просветительского рационализма смешивается в сознании Брекера с влиянием спинозизма эпохи “Бури и натиска”. Любовь к природе, свойственная альпийскому крестьянину, нередко превращается в жизненных переживаниях Брекера в благочестивый экстаз, в мистическое чувство присутствия в мире Божества и становится основой для создания образов, воодушевленных пантеистической идеей тождества Бога и мира. “О, ты, излияние невидимого света, наполняющего вселенную!”, — обращается Брекер к солнцу, заключая этим восклицанием картину ликующей утренней природы, сопоставимую с пантеистическими восторгами Вертера16. Такая проза, эмоционально окрашенная в стиле сентиментализма, граничит с поэзией вольных ритмов, и Брекер без труда переходит эту границу, включая в свой дневник лирический гимн “К солнцу”, напоминающий о философских одах Клопштока и молодого Гете:
“Ибо я не ведаю ничего / Что больше походило бы на Бога / Око моего Бога/ Или каким бы еще именем я тебя ни назвал / Мне всегда кажется, что Ты — зримое Божество!”17.
Самое обращение к свободным стихам, этому метрическому символу личной свободы, идеологически знаменательно. Но еще более интересен в этом смысле также записанный Брекером в дневник “Разговор в царстве мертвых” (“Gespräch im Reiche der Toten”, 1788), небольшое самостоятельное произведение в составе дневника, относящееся к широко распространенному в просветительской литературе жанру философского диалога или полилога, точнее к той особой разновидности этого жанра — “разговоры мертвых”, — которая восходит к позднеантичной “Менипповой сатире”(особенно к Лукиану) с характерной для нее “карнавальной” эксцентричностью и свободой суждений. Брекер мастерски использует все возможности, заложенные в природе этого древнего жанра.
Персонажи его “Разговоров” — зто тени умерших людей, которых Брекер наблюдал в жизни: знатная дама и бедный крестьянин Макс, с наивным удивлением озирающийся в подземном мире, куда доставляет их Харон; честный ремесленник Курле и бессовестный Томас, оправдывающий свою неправедную жизнь несправедливым устройством всего земного мира и вступающий с Курле в комическую потасовку; рано умершие сыновья самого Брекера, просветленные отцовской памятью образы детей с их характерами — жизнелюбивый “первый мальчик” и смиренно отрекающийся “второй мальчик”; далее — трогательный образ замерзшей в снегу малютки-нищенки с ее печальной историей, звучащей как обвинение жестокому “верхнему”, т.е. земному миру и, наконец, чудаковатый философ-ясновидец, объясняющий вновь прибывшим душам устройство преисподней и высказывающий нелицеприятные суждения о множестве других ее обитателей, уже не относящихся к непосредственному окружению Брекера. Среди последних — Фридрих II и Мария Терезия, Вольтер и д’Аламбер, обобщенные, хотя порой лишь едва намеченные образы жестокого угнетателя и безвинной жертвы, сластолюбца и лицемера, религиозного фанатика и доверчивого глупца.
Преисподняя, где сходятся все эти многочисленные персонажи, уравнивает представителей всех земных положений и сословий. Нищий может вступить в фамильярный контакт с богачом, простой солдат с императором, философ же чувствует полную свободу от внутренней цензуры. Смерть развенчивает всех несправедливо увенчанных в жизни и, отменяя ложную социальную иерархию, восстанавливает иерархию подлинных нравственных ценностей. Отсюда злободневная публицистичность и сатирическая острота жанра в целом и произведения Брекера в частности, независимо от того, проявляются ли они по отношению к малому миру Токенбурга (напр., сатира на односельчан) или по отношению к большому миру европейской политики и культуры (напр., сцена, где Фридрих II ставит Вольтера “во фрунт”, обвиняя его одновременно в сервилизме и атеизме). В соответствии с традицией жанра Брекер доводит противопоставление земного и потустороннего миров до предела, применяя типично карнавальную логику “мира наоборот”. Ученики Вольтера с кулаками набрасываются на своего учителя, жертвы социального угнетения властвуют над своими угнетателями, и подземный философ, обличая несовершенство реальной действительности, именно ее, эту действительность, а не фантастический мир преисподней, называет “странной, причудливой и непостижимой”, т.е. искаженной, как бы вывернутой наизнанку.
Изображая подземное царство мертвых, Брекер отнюдь не отождествляет его с христианским адом как местом вечных мучений. Верный законам избранного жанра, он создает фантастически заостренную, подчеркнуто временную ситуацию на пороге вечного блаженства или вечных мук, помещает своих героев в особое экспериментальное пространство, предназначенное для искания, провоцирования и испытания философской идеи. В авторском введении ко второй части диалога Брекер убеждает читателя, что берется за перо лишь для того, чтобы избавиться от осенней скуки и уныния и помечтать об иной жизни, но фантастика религиозных мечтаний выступает у него в нерасторжимом единстве с просветительской философской мыслью и всецело подчинена идейной функции выяснения мировоззренческих вопросов. От решения этих вопросов зависит дальнейшая судьба выведенных в “Разговорах” собеседников, распределение их душ между адом и раем.
“Мениппея, — писал Бахтин, — это жанр последних вопросов. В ней испытываются последние философские позиции... Для мениппеи характерна синкриза (то есть сопоставление) именно таких обнаженных «последних позиций в мире»”18. Именно так это и у Брекера, герои которого ведут философский спор о Боге и мире и о предназначении человека. Все дело, однако, в том, что, как выясняется по ходу этого спора, “последние вопросы” для человека принципиально неразрешимы, т.е. истина не переходит в заблуждение до тех пор, пока она сохраняет качество относительности, диалогическую соотнесенность с противоположной точкой зрения, которая также заключает в себе долю непостижимой в полном объеме истины. Так, философ-ясновидец, хотя и начинает с утверждения, что земная жизнь есть великий дар Бога, целью этого дара считает воспитание души для вечной истинной жизни за гробом. Земная жизнь есть, по его мнению, лишь краткий сон, лишенный самостоятельного значения, но не бессмысленный: он должен научить человека презрению к ценностям посюстороннего мира и возбудить в нем жажду вечности. Другую, противоположную точку зрения высказывает философ-вольнодумец, тень которого является для того, чтобы вступить в спор с ясновидцем и защитить земной мир как лучший из возможных миров, созданный Господом для радости и наслаждения. Если первый философ обличает несовершенство мира, где “ученые дерутся друг с другом яростнее, чем турки и христиане, а чернь коснеет в тупости и суевериях”, то второй рисует идиллическую картину народного счастья и процветания наук, особенно в свободной Швейцарии. Показательно, что вольнодумец также упоминает о сне, но применительно не к земному, а к потустороннему существованию; оно есть лишь вечный золотой сон о блаженном миге земной жизни19.
Мотив сна, сна жизни или сна смерти, подготовляет концовку от лица автора, снимающего противоположность тезиса и антитезиса в смиренном обращении к читателям: “Будь милостив к бедному, незрелому умом дилетанту, который всех вас любит, каждому позволяет быть тем, что он есть, думать, как он может, и хочет от всех вас только одного, только любви, братья мои! Иоанн мой апостол”20.
Призыв Брекера к терпимости и примирительной любви, включающий признание относительности всех человеческих истин, представляет наибольший интерес в связи с той характеристикой, которую он дает своему произведению, своему “дорогому дитяте-уродцу”: оно как шут среди придворных, арлекин среди актеров, дон Кихот среди рыцарей и Санчо Панса среди оруженосцев21. Кто же эти “придворный”, “актер”, “рыцарь” или “оруженосец”? Очевидно, что речь идет о книгах и авторах, претендующих на знание последней, абсолютной истины, а потому серьезных и величественных, тогда как на произведении самого Брекера, умеющего лишь остроумно сопоставлять человеческие иллюзии, лежит неизгладимая печать комического несовершенства, какой отмечены и все его персонажи, в том числе оба философа — комические двойники, представляющие различные аспекты противоречивого авторского сознания. Но не менее очевидно, что авторское смирение Брекера — это ироническое иносказание, предполагающее прямо противоположную оценку и самооценку, поскольку шутовство содержит в себе мудрость скептического сознания.
“Разговоры в царстве мертвых” — не единственное сочинение Брекера, где склонность к скептическому сомнению берет верх над положительной мировоззренческой программой просветителя. Свидетельством этого может служить не только относящийся к тому же 1788 г. неоконченный роман “Яусс — рыцарь любви” (“Jaus der Liebesritter”), но и гораздо более ранний критический фрагмент “Великий Лафатер” (“Der grosse Lavater”) в дневнике за 1780 г. В романе о рыцаре любви, материалом для которого послужила, с одной стороны, история обезумевшего от любви односельчанина Брекера, с другой — описание аналогичных эксцессов в журнале Морица “Магазин опытного изучения души”, Брекер разрабатывает проблему воображаемого и реального, используя каноническую схему “Дон Кихота” Сервантеса. В статье о Лафатере тот же мотив дон-кихотства оформляет оценку личности и физиогномического учения “южного мага”.
Огромная популярность этого учения в 70-80-е годы была показателем роста индивидуалистических тенденций, усиления интереса к человеческой личности. “Физиогномические фрагменты” цюрихского священника, уже ранее прославившегося своей борьбой за возрождение истинного христианства в духе философии “чувства и веры”, содержали программу интуитивного постижения мира и человека с помощью благочестивой эмоции, орудием которой является пронизанный чувством проникновенный взгляд. Исходя из мистического утверждения, что все видимое есть лишь символ невидимого, Лафатер объявляет внешность человека “словом Бога” и устанавливает обязательную взаимосвязь между красотой или уродством черт лица и нравственным складом личности. По мысли Лафатера, значение физиогномики заключается в том, что она способствует раскрытию морального совершенства человека и является важнейшим фактором развития человеколюбия.
Реакция на книгу была различной: бурному увлечению физиогномикой у Гердера и молодого Гете противостоит отрицательная оценка со стороны старших просветителей; Лессинг называет Лафатера “исполненным энтузиазма глупцом”22, Николаи дает карикатуру на него в романе “Зебальдус Нотанкер”, Музеус пародирует его учение в “Физиогномических путешествиях”; беспощадными насмешками осыпает “Физиогномического Мессию” Лихтенберг в статье “О физиогномике против физиогномистов”; даже верный адепт Лафатера Циммерман и тот упрекает его: “Ты же пишешь свою физиогномику для разумных людей, а не для твоих молящихся братьев и сестер”23.
По рождению и воспитанию Брекер должен был бы занять место среди “молящихся братьев и сестер”, но к 1780 г. он уже слишком искушен в просветительском вольномыслии, чтобы не относиться к учению Лафатера как “разумный человек”, т.е. критически. Суждения Брекера о Лафатере отражают его идейные колебания, включают в себя самокритику просветителя, усвоившего идеи Просвещения преимущественно в их религиозной, пиетистической транскрипции. С одной стороны, Брекер восхищается и славословит, он очень восприимчив к тому моральному пафосу, с которым Лафатер обличает порок и до небес превозносит красоту человеческого лица и человеческого духа. С другой, он хорошо знает, насколько наивны и этот пророческий гнев, и эти сентиментально-прекрасно-душные излияния, и, возражая против произвольного скачка от наблюдения над чертами лица к свойствам души при полном игнорировании реальной жизни, противопоставляет вдохновенным фантазиям наивного теоретика здравый смысл и безошибочную интуицию простого крестьянина и торговца, которых сама практическая жизнь учит быть хорошими физиогномистами. Человек из низов, человек практической жизни, Брекер смиренно напоминает “великому Лафатеру”, что в действительности дистанция между добром и злом, между человеком-богом и человеком-зверем значительно меньше, чем тот думает, и не без иронии вопрошает пророка, знает ли он реальных людей.
Такая реалистическая критика сентиментальной иллюзии с точки зрения живой жизни несет в себе у Брекера элемент скептицизма, поскольку главным атрибутом реальности выступает ее непостижимое разнообразие и богатство, превышающие человеческое разумение и потому ему неподсудные: “Я думаю, — пишет Брекер, — что игра природы так разнообразна во всех вещах, в том числе и в человеческих лицах, что одно только божье око видит истину, тогда как ни одна человеческая душа не в состоянии вынести никакого определенного и безошибочного суждения... как же можно устанавливать тут всеобщие правила”24. Эти слова Брекера явно перекликаются с мыслями Лихтенберга, едва ли не самого скептического из немцев XVIII в., который видел в Лафатере лжепророка, мнящего себя посланцем небес, а в физиогномике — лжеучение, готовое превратиться в своего рода расистское аутодафе.
Мировоззрение Брекера, каким оно сложилось к началу 1780-х годов, входит в идейный контекст позднего Просвещения с его принципиальным антидогматизмом, сменившим пафос утверждения абсолютной истины, тот пафос познания и преобразования мира, который характеризовал как рационалистическую доктрину Лейбница—Вольфа, так и иррационалистическую философию “чувства и веры”. Позднее Просвещение не выдвигает более никакого нового положительного содержания, не строит ту или иную концепцию мира и человека, а, пресыщенное накопленными идейными богатствами, лишь скептически играет оттенками и противоречиями этой концепции. Лессинг знает, что полная истина — только для Бога, и смиренно выбирает не обманчивое знание, а вечное стремление, “хотя бы и сопровождаемое постоянными блужданиями”25. Виланд признает: “Истина — не там и не здесь, она — повсюду и везде; каждый видит лишь край ее великолепной одежды, с другого пункта и в другом свете”26. И Гете говорит о нем Фальку: “Определенной точке зрения он во всем предпочитал остроумную дискуссию. Нередко он противоречил собственному тексту в примечаниях, и его не смутило бы, если бы кто-нибудь написал новые примечания, содержащие опровержение его собственных... Именно такая нерешительность делает допустимой шутку, тогда как серьезное отношение к вещам всегда грешит односторонностью”27. Слова эти могут быть отнесены не к одному Виланду, вся культура позднего Просвещения — это культура остроумных примечаний к утраченной истине, и деревенский философ Брекер по-своему так же участвует в создании этой культуры, как и утонченный философ веймарского двора Виланд.
Ярким свидетельством этого участия является отношение Брекера к Французской революции и к тем социальным переменам, которые она вызвала в Токенбурге и во всей Швейцарии. Отношение это чрезвычайно типично для бюргерского Просвещения: сочувствие идеалам и целям революции, неприятие ее методов и эксцессов и разочарование в ее результатах. В 1792 г., когда Пруссия и Австрия вторгаются во Францию, чтобы подавить революцию, Брекер оправдывает революционные войны, стыдит солдат-интервентов за то, что они воюют против своих собственных интересов и прямо призывает их “повернуть штыки против деспотов и тиранов”28. Вместе с тем его возмущает казнь “доброго” Людовика XVI и кровавая диктатура якобинцев, установивших, по его мнению, еще худшую “тиранию обезумевшей черни”29. Он сравнивает революционный народ с могучим диким зверем, которого неразумные хозяева слишком долго мучали в тесной клетке, пока он не вырвался на волю и, опьяненный ею, не стал крушить правых и виноватых, превратив самое свободу в орудие ненависти и угнетения30. Идеал Брекера — общественное согласие и гармония классовых интересов, достигаемые путем правительственных реформ, но он знает, что приверженцы этого идеала — всегда в меньшинстве, и не только во Франции, но и в Швейцарии, несмотря на ее старинные демократические традиции. Перед лицом этих традиций революционные события в Швейцарии представляются ему бессмысленным фарсом, невольно пародирующим великую революцию французов, а последующее наполеоновское вторжение и радикальные буржуазные реформы — оскорблением швейцарского патриотизма и иноземным грабежом. Дневник 1798 г., когда в Швейцарии была провозглашена “Гельветическая республика”, содержит много горьких, иронических замечаний о том, что “великая нация, пришедшая дать нам свободу, готова отнять последний кусок хлеба у бюргера и крестьянина”31 или о том, что общественная жизнь лишь подтверждает печальную истину, высказанную “сэром Уильямом Шекспиром”: “во всем мироздании нет более лживого и деспотического животного, чем человек”32.
Суждения Брекера о Французской революции подводят итог его идейному развитию. Воспитанник Просвещения, он одновременно и человек эпохи кризиса просветительской идеологии, когда эта идеология утрачивает контакт с исторической действительностью и все больше превращается в элитарную философию гуманистически мыслящего меньшинства, кучки образованных “граждан мира”, знающих, что идеалам, которые они взрастили в своем сознании, не суждено претвориться в жизнь, а если и суждено, то лишь в очень отдаленном будущем.
Что бы ни говорил Брекер о политических событиях своего времени, его высказывания никогда не имеют аподиктического характера, ему органически чужд жест судьи или проповедника. Пытаясь оценивать события революции беспристрастно “sub specie aeternitatis”, он вместе с тем неизменно подчеркивает, что его точка зрения на революцию — специально швейцарская, даже токенбургская, и скептически оправдывает свою ограниченность тем, что вся правда о великом всемирно-историческом событии недоступна никому из его современников, а следовательно, ни одна из точек зрения не хуже и не лучше другой33.
Важнейшим фактором идейной эволюции Брекера явилось вступление его в 1776 г. в “Токенбургское Моральное общество” в Лихтенштейге — одно из многочисленных в Швейцарии XVIII в. объединений такого рода, ставивших себе задачу освоения и распространения просветительских идей в духе так называемой “популярной философии”. Брекер был принят в общество после того, как занял первое место в конкурсе на лучшее сочинение по вопросами экономического развития края. И к участию в конкурсе, и к вступлению в общество его рекомендовал сельский учитель и поэт Иоганн Людвиг Амбюль, удивленный литературными интересами своего односельчанина.
Моральное общество в Лихтенштейге было основано в 1767 г. письмоводителем ратуши Гиценданнером; членами общества были высшие чиновники, купцы, фабриканты, доктора и священники — первые представители начинавшего складываться “образованного бюргерства”, бюргерской интеллигенции, вообще определившей судьбы немецкого и швейцарского Просвещения. Известно, что часть членов общества, правда, меньшая, выступала против принятия Брекера, считая, что человек из низшего сословия, без состояния и без университетского диплома, не сможет внести никакого вклада, ни материального, ни духовного, в общее дело. Принятый большинством голосов, Брекер, однако, никогда не чувствовал себя в этой среде равным среди равных; в дневнике и в автобиографии он не раз называет себя “белой вороной” или “придворным шутом”, а свое вступление в общество “дурацкой ошибкой”, поставившей его в двойственное и невыгодное положение между “низшими” и “высшими”: “Твои старые друзья смеются над тобой, а у новых ты никогда не осмелишься попросить ни крейцера”34.
Между тем, вступление Брекера в круг образованных бюргеров имело для него огромное значение. Моральное общество Лихтенштейга поддерживало контакт не только с учеными из соседнего Санкт-Галлена (Якобом Вегелином, Георгом Иоахимом Цоликофером, Кристофом Гиртанером и др.), но и с просвещенным Цюрихом, и с центрами Просвещения в Германии. Наиболее осязаемым результатом этих контактов явилась превосходная библиотека, в создании которой общество видело одну из главных своих целей. Не будь этой библиотеки, Брекер, при его бедности и страсти к чтению, был бы в таком же трагикомическом положении, в какое Жан-Поль ставит своего “веселого учителишку Вуца,” который по заглавиям книжного каталога — единственной доступной ему книги — самостоятельно сочиняет “Разбойников”, “Вертера”, “Критику чистого разума”, “Исповедь” и т.д.
В списке книг, которыми пользовался Брекер, числятся идиллии Гесснера, оды Клопштока, “Ночные размышления” Юнга, “Вертер” Гете, “Исповедь” Руссо, антицерковная поэма Самюэля Батлера “Гудибрас”, “Годы юности” и “Годы странствий” Юнг-Штиллинга, “Антон Рейзер” Морица, “Немецкая хроника” Шубарта, “Письма о Французской революции” Кампе, “Хамфри Клинкер” Смоллета, “Векфильдский священник” Гольдсмита, биографии Плутарха, “Дон Кихот” Сервантеса, двенадцатитомное собрание сочинений Шекспира в немецком переводе Эшенбурга. Из журналов его привлекают, видимо, прежде всего “Магазин опытного изучения души” Морица и “Немецкий Меркурий” Виланда35.
Любимцем Брекера был Шекспир, которому он посвятил специальное сочинение, озаглавленное “Нечто о Вильяме Шекспире из-под пера бедного неученого гражданина мира, имевшего счастье наслаждаться его творениями” (“Etwas über William Shakespeares Schauspiele von einem armen ungelehrten Weltbürger, der das Glück genoss, ihn zu lesen”, 1780). Характеризуя пьесу за пьесой, исторические хроники, комедии и трагедии, Брекер пишет своего рода читательский дневник, подтверждающий ту общую картину рецепции Шекспира, которая сложилась ранее у Я. Бодмера, а затем в статьях Гердера и Гете, Герстенберга и Ленца. Эстетика “Бури и натиска” видела в творчестве Шекспира свободное, непосредственное отражение природы, противопоставленное “очищенной” и “украшенной” природе в искусстве классицизма. Задача состояла в том, чтобы вывести Шекспира за пределы искусства, потому что господствовавшее понимание искусства не могло вместить ни того, чем был для “бурных гениев” Шекспир, ни их собственных творческих устремлений. Отсюда взгляд на пьесы Шекспира не как на произведения искусства, а как на создания самой природы. “Это не поэт! Это творец! Это история вселенной!” — писал Гердер. Шекспир — это мировой дух, вторил ему Гете, он повсюду, в каждом уголке созданного им мира.
Противопоставляя искусству “вселенную”, “бурные гении” формулировали понятие нового реалистического искусства, и заметки Брекера при всей их наивности и кажущейся изолированности от эстетических споров в Германии, отчетливо воспроизводят и штюрмерскую аналогию шекспировского творчества с творящей природой, и стоящий за ней призыв к правдивости изображения человека. Вслед за Гердером Брекер видит в произведениях Шекспира “целый мир драматической истории, величественный и глубокий, как природа”. И для него тоже Шекспир — это “творец людей” и “чудодейственный бог театра”, непревзойденный знаток человеческой природы, пересаживающий своих героев на сцену прямо из реальной жизни36.
Брекер, видимо, был знаком со статьей Гердера о Шекспире. В целом ряде случаев его лирические пересказы шекспировских пьес, особенно трагедий, живо напоминают гердеровский образец интуитивной поэтической критики, которая стремится прежде всего передать эмоциональный колорит пьесы, “то основное чувство, которое царит в каждой пьесе, пронизывая ее, как мировая душа”37. Но эмоциональный стиль Гердера опирается на выдвинутую им идею органической эстетики: вместо единства формального, рационалистического драма Шекспира представляет собой, по мнению Гердера, своего рода живой организм, в котором каждый орган имеет самостоятельное значение и вместе с тем подчинен внутреннему смыслу целого; постижение этого смысла и требует от критика не аналитического подхода, а преимущественно эмоционального восприятия. У Брекера же эмоциональность стиля мотивирована не столько философско-эстетической концепцией, сколько особой позицией читателя-неофита, “неученого гражданина мира”, от лица которого ведется изложение. Отчасти такая позиция может рассматриваться как ироническая литературная роль, как сознательный художественный прием, оформляющий гердеровскую концепцию, но только отчасти. Наивность Брекера — читателя Шекспира — наполовину литературна, наполовину подлинна, и там, где она подлинна, Брекер изменяет стилю и смыслу штюрмерского понимания Шекспира, выхватывая из целого шекспировских пьес отдельные сюжетные положения и характеры, чтобы оценить их с точки зрения узкого бытового правдоподобия или высказать по их поводу весьма плоские моральные суждения о тирании, войне, дружбе, свойствах человеческой натуры и т.п.
Когда Брекер устанавливает непосредственный контакт между миром шекспировских героев и тем миром, в котором живет он сам, т.е. относится к Шекспиру “не как к эстетическому, а как к жизненному переживанию”38, примеривая ситуации “Укрощения строптивой” к семейным раздорам своих односельчан или тираноубийство в “Юлии Цезаре” к политической сцене Токенбурга, эта наивность служит утверждению гердеровской идеи тождества Шекспира и природы и допускает мысль, что Брекер сознательно пользуется ролью деревенского простака как приемом остранения. Но та же наивность вступает в явное противоречие со штюрмерской концепцией, когда он, “развинчивая” Шекспира на части, отвергает наиболее сложные и символические его образы, все грандиозное и фантастическое (Просперо в “Буре”, ведьмы в “Макбете”) и признается, что в “Сне в летнюю ночь” ему милее всего прозаические ремесленники. Бытовой реализм Брекера смыкается в таких случаях не с “Бурей и натиском”, а с рационалистической эстетикой, и в то время как молодой Гете учится у Шекспира историзму, Брекер подражает ему в комическом жанре и пишет комедию из крестьянской жизни под архаически барочным заглавием “Ночь суда или что вам угодно. Крестьянская комедия по моему разумению. Крестьянская философия и теология. Жизнь простого люда, семейного и холостого. Деревенские байки. Рассуждения о земле, небе и аде — все, что вам угодно. Правда и неправда — как вам больше нравится. Писано в ночные часы. Осень 1780 г.”39
Исследователи Брекера неизменно рассматривают книгу о Шекспире как важнейший документ, свидетельствующий об эстетических взглядах писателя, нашедших отражение в его собственном творчестве, не только в упомянутой выше комедии, но и в главном произведении Брекера, которое и определило его место в литературе эпохи Просвещения — автобиографии “бедного малого из Токенбурга”. Гюнтер Тальхейм, отмечая, что драматургия Шекспира стала для Брекера школой реализма, указывает вместе с тем на крайнюю ограниченность его идейного и эстетического кругозора, сказавшуюся как в заметках о Шекспире, так и в автобиографии. “Теоретические границы его комментариев к Шекспиру — это одновременно практические границы его автобиографической прозы” — пишет Тальхейм40. Понятие “реализм” в применении к Брекеру означает, по мнению исследователя, лишь непосредственное достоверное отображение эмпирической действительности, не поднимающееся до осознания философско-исторического смысла изображаемых явлений. В связи с этим Тальхейм переносит на Брекера понятие “натурального произведения” (“Naturwerk”) и “прозаика-натуралиста” (“Naturprosaist”), сформулированные Гете в предисловии к “Немецкому Жиль-Блазу” Иоганна Кристофа Заксе. По мысли Гете, наряду с “художественными произведениями” литература знает и “натуральные произведения”, т.е. такие, в которых автор — “прозаик-натуралист” или также “поэт-натуралист” — будучи не в силах установить “внутреннюю логику событий” и создать “завершенное целое”, как того требует искусство романа или новеллы, “ограничивается простым нанизыванием достоверно изображаемых фактов реальной жизни, не отбирая значительного и закономерного”41. К такому типу произведений Гете относит книгу Заксе, Тальхейм же пользуется этой оценкой для характеристики автобиографии Брекера.
Между тем ни трактовка Брекером Шекспира, ни тем более его автобиография не сводятся к принципу “простого подражания природе” или “натурального произведения” в смысле Гете. Что касается комментариев к драмам Шекспира, то очень существенным здесь представляется замечание Вальтера Хиндерера о том, что в своих оценках Шекспира Брекер опирался преимущественно на статью Виланда “Дух Шекспира”, в которой Виланд — первый переводчик и пропагандист Шекспира в Германии — рецензировал перевод своего последователя Эшенбурга, именно тот перевод, в котором читал Шекспира Брекер42. Текстуальные заимствования из Виланда, обнаруженные Хиндерером у Брекера, важны не только потому, что ставят под вопрос наивность восприятия Брекером Шекспира еще с большим основанием, чем предположительное влияние Гердера. Дело в том, что виландовское понимание Шекспира, при всем внешнем сходстве его с концепцией “Бури и натиска”, совпадает с ней не полностью. Для “бурных гениев” Шекспир — это прежде всего “оригинальный гений”, поэт творческой свободы ярких индивидуальностей и сильных страстей, взрывающих рассудочную упорядоченность современной культуры. Противопоставляя творчество Шекспира рационалистической идеализации мира и человека в искусстве классицизма, “бурные гении” утверждают с его помощью руссоистский идеал природы как естественного состояния, т.е. также стремятся к идеалистическому преображению и оправданию хаоса эмпирической действительности, но только не на основе разума, а на основе чувства. У Виланда же акцент смещен на скептический дезиллюзионизм шекспировского творчества, где мир предстает как исполненное неразрешимых противоречий “неисправимое целое”43, сотканное из пороков и добродетелей, мудрости и глупости, людского счастья и горя. Правдивость Шекспира мыслится здесь как опровержение просветительского прекраснодушия, основано ли оно на вере в разум, или на вере в чувство, и тот же протест против идеализации действительности звучит в комментариях Брекера и особенно в его автобиографии, значение которой не в наивной достоверности “простого подражания природе”, а в своеобразии оформления главной коллизии позднепросветительского сознания — противоречии идеального и реального.
Когда в предисловии Брекер убеждает читателя, что, принимаясь за свою автобиографию, он еще не знает, какими каракулями он перепачкает лежащие перед ним листы44, ему не следует верить на слово. Хотя повествование ведется от первого лица и время действия последних глав совпадает со временем их написания (время действия книги 1735-1785 гг., время ее создания — 1781-1788 гг.), это уже не дневник с характерной для него пестротой и неотобранностью материала, фрагментарностью и спонтанностью его подачи. В автобиографии Брекер сознательно стремится к четкости и логической завершенности композиции. Как всякий другой мемуарист, он отбирает и пропускает, подчеркивает и затушевывает факты соответственно той программе строения и развития своей личности, которую он хочет представить читателям, и его книга, состоящая из множества эпизодов, представляет собою единое целое, обладает единым стержнем.
История пятидесяти лет жизни “бедного малого из Токенбурга” рассказана в строгой хронологической последовательности, по отдельным этапам, каждый из которых составляет необходимое звено в общей идейной структуре произведения. Очень велика в книге роль автора: он постоянно присутствует в фабульном пространстве, одобряет, порицает, жалеет, обвиняет и, главное, объясняет переживания и поступки героев. В главах, посвященных детству и юности, важна прежде всего дистанция, отделяющая умудренного жизнью и книгами автора от него же самого в роли его героя. Брекер хорошо знал “Исповедь” Руссо, но в отличие от Руссо у него нет раздвоения самооценки — восхваления и осуждения собственной личности, а есть несовпадение автора и героя, причем в функцию автора, наряду с описанием, входит критическая реакция на происходящее, особенно выразительная в тех случаях, когда она получает ироническую окраску. Именно наличие такой дистанции обеспечивает художественную объективацию субъективного опыта, благодаря которой личный дневник превращается в роман и личная история жизни деревенского паренька Ули — в типическую историю становления человеческой личности в условиях швейцарской провинции. По мере развития этой истории от одного этапа жизни героя к другому дистанция между ним и автором постепенно сокращается, и, когда в последних главах она полностью исчезает, это означает, что герой достиг духовной зрелости, изжил свои иллюзии и примирился с реальной жизнью. Ему остается лишь завещать обретенное знание потомкам, и Брекер сознательно подчеркивает этот финал, строя заключительные главы в форме прямого обращения к своим детям, которым он адресовал автобиографию в предисловии.
Автобиографическая книга Брекера явственно перекликается с центральным жанром в литературе немецкого Просвещения — “романом воспитания”, где все мысли и чувства, встречи и приключения героя подаются как знаменательные этапы развития его личности на пути к самопознанию через жизненный опыт. Общей является прежде всего основная тема духовной эмансипации молодого героя, стремящегося вырваться из сферы узкопрактической деятельности, преодолеть традиционную связанность мещанского быта и обрести свое человеческое достоинство в области искусства, художественного творчества как единственной области, где возможна свобода. В этом отношении “бедный малый из Токенбурга” такой же “герой пути”, пересекающий границу своего социального пространства, как Вильгельм Мейстер (даже “Моральное общество” Лихтенштейга может рассматриваться как сниженная аналогия к дворянскому “Обществу башни” и его роли в судьбе Мейстера). При всех различиях в характере социального опыта, в уровне культурного развития и масштабах художественного дарования жизнь Брекера сопоставима с жизнью Гете по признаку социального восхождения и духовного роста, а его автобиография представляет собой один из вариантов жанра, подготовляющих “Поэзию и правду” как классический образец “романа воспитания” на мемуарном материале собственной жизни.
Однако именно соотнесенность в рамках общей жанровой модели ярко оттеняет те особенности автобиографии Брекера, которые позволяют видеть в ней явление, резко контрастирующее с оптимистическим решением проблемы личности в “Поэзии и правде”, своего рода предвосхищающую “контрафактуру” знаменитого жизнеописания Гете.
В главе “Моя исповедь” Брекер подчеркивает, что ему всю жизнь приходилось бороться со своим “от природы буйным темпераментом” и не менее буйным воображением, рисовавшим перед ним картины несбыточного счастья. Эти слова формулируют основную коллизию книги, но в перевернутом виде: на протяжении предшествующих семидесяти глав смирение и аскетизм предстают как исходные, традиционные ценности, оправдывающие изначально заданное состояние мира — гнетущую бедность и безрадостный труд, тогда как жизнелюбие и мечта о свободе и счастье — это те внутренние силы героя, которые вступают в противоречие с исходным состоянием и порождают конфликт, движущий действие.
Описывая первые годы своей жизни, Брекер вспоминает, как бабушка брала его c собой на собрания сектантов-пиетистов, и ему приходилось, не понимая ни слова, подолгу бесшумно просиживать в своем углу или стоять на коленях, пока тетушки и соседки истерически запугивали друг друга господними карами. Иногда, рассказывает далее Брекер, его вызволял с этих собраний дед и уводил с собой в горы; они смотрели, как пасется на лугах скот, разглядывали разные деревья и травы, птиц и червячков и, сидя с дедом у вечернего костра, шестилетний Ули чувствовал себя по-настоящему счастливым45. Верный своей объективной манере, Брекер не дает прямой оценки своих ощущений — ощущения томительной скуки на пиетистских сборищах и ощущения счастья на лоне природы, но, располагая один маленький эпизод после другого, сталкивая их на узком пространстве одной страницы текста, самой композицией подсказывает читателю вывод о противоестественности атмосферы молитвенного дома и подготовляет развитие антитезы природа/аскетизм в последующих главах, описывающих “пастушеское состояние” (“Hirtenstand”) героя.
Ребенок с радостью исполняет волю отца, когда тот поручает ему пасти овечье стадо, потому что пастушеская жизнь в горах сулит ему желанную свободу. Посвящая этому краткому периоду своего детства целых семь глав, Брекер явно придает эпизоду пастушества идейное значение. Жанр идиллии играл, как известно, чрезвычайно важную роль в оформлении руссоистского идеала “естественного человека”, ведущего свободную и добродетельную жизнь в мире природы, и, когда Брекер подчеркивает тягу ребенка к пастушеству, он несомненно знает о тех пасторальных стилизациях “этической личности”, которую противопоставляли испорченному рабством современному крестьянину Бодмер и Гердер, Галлер и Гесснер. Именно здесь Брекер менее всего ограничивается непосредственным отображением своих детских впечатлений в смысле “простого подражания природе”. Он подчеркнуто литературен и учитывает не только общую идеологическую концепцию жанра, но и более специальную литературную дискуссию о несоответствии между идиллической гармонией и реальным бытом крестьян и необходимости переоформления галантно-сентиментальной идиллии по линии натурализма46. Так, после главы об “Удовольствиях пастушеского состояния”, живо напоминающей сентиментально-моралистическую идиллию Геснера, Брекер помещает главу под названием “Огорчения и неприятности”, где, не смущаясь условностями жанра, говорит об утренних холодах и недосыпании, об израненных об острые камни ступнях, о жестоких побоях из-за пропавших овец, о дурном влиянии “бесстыжих” соседских мальчишек.
Тот факт, что естественная жизнь среди природы провоцирует пробуждение в герое чувственности, обусловлен не столько психологически, сколько традицией жанра: излюбленный жанр сентиментального немецкого рококо, идиллия, стремилась к примирению чувственности и добродетели, включала известный элемент эротики, облагороженный и оправданный сентиментальной эмоцией. У Брекера эта идиллическая гармония образует нереализованный подтекст, легко узнаваемый литературный фон, на котором последняя глава пасторального эпизода, названная “Странное душевное состояние и конец пастушеской жизни”, изображает конфликт между естественными влечениями и пиетистическим сознанием. В силу религиозного воспитания понятие добродетели неразрывно связано для героя с аскетическим ригоризмом, и потому закономерной реакцией на краткий опыт свободной пастушеской жизни становятся мучительные угрызения совести, ясно чувствуется влияние Морица с его критическим анализом благочестивой экзальтации, переживаемой маленьким Антоном Рейзером. Подобно Антону, маленький Ули свято верит в несовместимость любви к Богу с земными радостями и насильственно подавляет в себе естественную тягу даже к самым невинным ребяческим забавам. Вслед за Морицем Брекер показывает, как под грузом обостренного сознания своей греховности развивается в его герое лицемерное стремление казаться лучше, “чем он чувствовал себя в глубине души”47. Идиллия переключается тем самым в план психологического романа, ставящего под сомнение как руссоистскую, так и религиозную концепцию нравственной личности.
Огромное значение получает в главах, посвященных детству и юности, фигура отца, любящего и любимого тирана. Отец выступает в романе как воплощение и идеолог традиционного жизненного уклада, вековой нормы существования токенбургского бедняка. Он смиренно приемлет свою жизнь как страдание, предначертанное божественной волей, и властно требует такого же смирения от своих детей. Авторитет отца для Ульриха настолько высок, что чувство нравственной ответственности перед ним почти сливается с чувством ответственности перед Богом, и потому любая попытка сопротивления отцовскому авторитету приобретает в романе значение идейной критики религиозного отречения. Очень показателен в этом смысле эпизод, когда Ульрих впервые знакомится о любимыми книгами отца — мистическими сочинениями, предрекающими конец света, причем не когда-нибудь в отдаленном будущем, а совсем скоро, может быть, уже назавтра. Отец находил в такой трактовке апокалипсиса источник радости и утешения: чем непреложнее казались ему пророчества о близящемся конце света, тем веселее и спокойнее он становился. Вспоминая, как поражала его в детстве эта реакция, Брекер не без иронии объясняет ее тем, что, видимо, только конец света мог тогда спасти отца от преследования кредиторов и полного разорения. Его собственная реакция на апокалипсические пророчества была совершенно иной: страх и отчаяние, отнимавшие “радость и мужество жить”48. Именно из глубины этого отчаяния, из внутренней потребности молодого героя отстоять свое право на личную волю и земное счастье рождается его протест против отцовского авторитета, тот полуосознанный, но все более решительный сыновний бунт, проявления которого и составляют историю юности Брекера.
О первом из таких проявлений повествует небольшой эпизод, изображающий неудачную попытку двенадцатилетнего Ульриха самостоятельно вести хозяйство на собственном участке земли, который отец, посмеиваясь в усы, продает ему всего за пять гульденов, чтобы с удовлетворением убедиться и убедить сына в бессмысленности и бесперспективности его стремления к независимости49. Идейная структура этого малоприметного эпизода — надежда на обретение независимости от отцовского мира и крушение этой надежды в результате жизненного опыта — предвосхищает и структуру романа в целом, и структуру последующих, наиболее важных эпизодов сыновнего бунта — любовного и военного.
“Мне кажется, я снова становлюсь молод, когда вспоминаю об этом”, — пишет Брекер50, переходя к истории своей юношеской любви, и действительно занимающая четыре главы новелла о первой любви неуклюжего крестьянского парня Ули и озорной, хорошенькой дочки трактирщика Анхен (своего рода Марианны этих крестьянских “Годов учения”) — самая светлая по колориту и наиболее совершенная по художественному исполнению часть книги. Любовь к Анхен раскрепощает душу героя, дает ему ощущение желанной свободы от безрадостных законов обыденной жизни, основанной на принципе отречения. Но для пиетиста все то, что не составляет отречения от земных радостей, есть грех, и яркая вспышка свободного чувства, ненадолго преобразившая унылое существование батрака Ули, гаснет под тяжелым взглядом его отца, противопоставляющего легкомысленному очарованию первой любви вековой опыт бедняцкой жизни. “Ули, я желаю тебе добра, — увещевает он отбившегося от рук сына. — Веди себя благопристойно, молись и работай на своем поле, и, ручаюсь, наступит час, когда ты сможешь ввести в свой дом честную работящую крестьянскую девушку. А до той поры заботиться о тебе буду я”51.
Ульрих, никогда не уверенный в своем праве на бунт, соглашается оставить Анхен, но вместо того, чтобы с благодарностью принять отцовские заботы, покидает отчий дом и родной край, отправляясь искать счастья на чужбине. Словно пытаясь приглушить истинное значение этого события в истории своей жизни и в сюжетном развитии, Брекер постоянно подчеркивает старания своего героя сохранить внутреннюю связь с домом; Ульрих с нежностью вспоминает о родителях и регулярно посылает отцу письменные отчеты о своем поведении. И все же его уход из Токенбурга несомненно знаменует давно подготовлявшийся разрыв с аскетическим отцовским миром, является кульминационным пунктом сыновнего бунта.
На некоторое время место отца занимает прусский офицер-вербовщик Маркони, легкомысленный и обаятельный прожигатель жизни, к которому Ульрих поступает на службу и о котором не случайно говорится, что он относится к своему слуге как к собственному сыну52. Став слугой знатного барина, Ульрих ведет образ жизни, прямо противоположный законам токенбургского быта: наряжается и фланирует по улицам, пьет вино, играет в карты, ухаживает за женщинами, даже делит со своим хозяином любовницу. Приветливое отношение Маркони к отцу Ульриха, когда тот приезжает проведать сына в его новом положении, — это не в последнюю очередь снисходительная жалость к побежденному сопернику со стороны победителя, узурпировавшего отцовскую власть.
Прямое столкновение старого и нового авторитетов, отца-аскета и хозяина-жуира, демонстрирует сцена, в которой Ульриху приходится по настоянию Маркони пуститься в пляс с разбитной горничной на глазах отца. “Пот выступил у меня на лбу от того, что я был вынужден танцевать в присутствии моего отца, — рассказывает Брекер. — Между тем, девица вовлекла меня в такую бешеную пляску, что я, почти не сознавая себя, метался от стены к стене, являя собою комическое зрелище для всех присутствующих. Мой дорогой отец не вымолвил ни слова, только время от времени бросал на меня такой тоскливый взгляд, что он проникал мне в самую душу”53.
Брекер искусно отбирает детали, придающие этой, казалось бы, неприметной сцене острый идейный смысл. Стыд и отчаяние Ульриха, печальный взгляд отца напоминают о том, что пиетисты, начиная с их учителя Франке, неизменно проклинали танцы как одну из наиболее непристойных “светских похотей”. На этом фоне гротесковая пляска сына на глазах отца-пиетиста превращается почти в символический акт мучительного отпадения от отцовской веры, болезненного прощания с токенбургской жизнью.
Жизнь за пределами Токенбурга манит Ульриха как обещание свободы и счастья, и когда Маркони обманывает его, продавая в рекруты, этот обман становится началом крушения всех иллюзий, связанных с большим миром: чем лучше герой его узнает, тем очевиднее обнаруживает он господство морального зла и социальной несправедливости. Рисуя картины солдатской жизни, Брекер не жалеет красок для изображения бесчувственной грубости офицеров, бесчеловечной жестокости муштры и телесных наказаний, полного бесправия и униженности простых солдат, одни из которых кончают тупой покорностью, другие — душевным расстройством, третьи — дезертирством. Мечта о бегстве из армии и о возвращении домой определяет все мысли и поступки Ульриха с того момента, как он надевает форму прусского солдата.
В связи с этим важно не только то, что Брекер изображает, но и то, что он сознательно опускает, подчиняя изображение точке зрения героя-рассказчика. Когда последний признается, что “проспал” Лиссабонское землетрясение54, или едва замечает Страсбургский собор55, эта нарочитая узость идейного кругозора призвана показать, что Ульрих, уже вставший на путь возвращения, инстинктивно оберегает свою душу от влияния большого мира, как бы отказывает этому миру в познании перед лицом зла, с которым он столкнулся. Его интересует лишь то, что укрепляет его в решении вернуться к ценностям отцовского мира. В этом смысле крепкий сон героя в ночь Лиссабонского землетрясения, заставившего многих современников Брекера испытать мучительные религиозные сомнения, — явление не столько физического, сколько идеологического порядка.
Главу о Берлине, “самом большом городе, который он когда-либо видел”, Брекер называет “Мое описание Берлина”56, где словечко “мое” полемически оттеняет особую поэзию “бедного малого”, который отнюдь не испытывает восторга перед величием прусской столицы. Он попал сюда по чужой, недоброй воле, и все здесь ему чуждо и несимпатично — высота домов и ширина улиц, памятники курфюрстов и огромные пустынные площади, предназначенные для военных парадов. Единственное место в Берлине, вызывающее у него интерес и сочувствие, — это солдатский лазарет, для описания которого он находит выразительные детали и эмоциональные образы. Центром же берлинских впечатлений становится экзекуция, во время которой дезертиров прогоняют сквозь строй, до смерти забивая шпицрутенами. Рисуя картины человеческих мучений, Брекер неизменно соотносит их с душевным состоянием героя: тот и другой эпизод — лазарет и шпицрутены — представляют развертывание наглядным материалом основного психологического мотива этой части — мечты Ульриха о побеге.
Принцип подчинения рассказа точке зрения рассказчика последовательно проводится во всех главах о “приключениях” героя в большом мире. Особый интерес представляет в этом плане глава, посвященная сражению при Ловозице, во время которого Ульрих дезертирует из прусской армии. Приступая к его изображению, Брекер открыто декларирует стратегию своего повествования, притом с отчетливой социальной мотивировкой: “Напрасно ждет от меня читатель обстоятельного описания нашего лагеря между Кеннигштейном и Пирной, как и лагеря саксонцев, расположенного под Лилиенштадтом. Обо всем этом он может прочесть в истории подвигов и государственной деятельности Фридриха Великого. Я же пишу только о том, что видел сам, что происходило вокруг меня самого, в особенности, если меня это касалось. О грандиозных событиях мы, голодранцы, мало что знали, да, по правде сказать, они меньше всего нас и занимали. Все мои помыслы, как и многих других, были направлены только к одному: домой, на родину!”57.
В соответствии с этой программой Брекер изображает одно из решающих сражений Семилетней войны как хаотическое нагромождение случайных происшествий, которые воспринимаются и оцениваются с точки зрения дезертира-перебежчика, думающего лишь о спасении собственной жизни. “Какое мне дело до всех ваших войн!”58, — это восклицание героя-рассказчика оправдывает одновременно и факт дезертирства, и технику повествования.
Узкий эмпиризм, в котором упрекают Брекера исследователи его творчества, — это сознательная авторская установка, предполагающая последовательную элиминацию большого исторического времени. Брекер очень хорошо понимает, что реальность не сводится к тем непосредственным впечатлениям, которыми он ограничивает свой рассказ, и, вводя это искусственное ограничение, он лишь противопоставляет одну условность другой, демонстрирует несовместимость своего опыта и своих представлений с патетическим образом мира, создаваемым официальной идеологией.
Поэт-анакреонтик Иоганн Георг Якоби писал, что загородное имение его друга Глейма — это “маленький Сан-Суси”, где можно свободно предаваться легкомысленным играм с музами и грациями, не обращая внимания на “большой Сан-Суси” Фридриха Великого, в котором царят “метафизика, политика и тактика”59. Тем самым он оправдывал условность поэзии рококо, ограничившей себя эпикурейскими мотивами. Конечно, и в жизни, и в автобиографии Брекера все иначе: его “маленький Сан-Суси” — это прусская казарма или нищая швейцарская деревня, его метод стилизации опирается не на игру изощренного воображения, а на достоверность личного опыта. Но как общий признак остается принципиальная отграниченность художественного мира от “оппозиционного”, чужого и чуждого пространства “метафизики, политики и тактики”, граница, выстроенная из неприятия.
Полемический характер непонимания большого мира с особой отчетливостью выступает в тех случаях, когда Брекер прибегает к приему остранения высоких патетических событий наивным восприятием своего простодушного героя, как мы видим это, например, в сцене принятия воинской присяги: “Нас ввели в покои величиной с целую церковь, принесли несколько продырявленных знамен и каждому приказали ухватиться за край какого-нибудь из них. Адъютант, или кто он там был, высыпал на наши головы целый мешок правил из воинского устава, а потом прокричал нам какие-то слова, которые многие стали бормотать за ним вслед. Я не раскрыл рта — думал себе, о чем хотелось, скорее всего об Анхен; наконец одно из знамен подняли высоко наверх, и нас отпустили”60. Показанная с точки зрения простого крестьянского парня, выведенная из привычного идеологического контекста, церемония присяги утрачивает ореол патетической торжественности и предстает как последовательность нелепых действий, непонятно почему и зачем производимых.
В эпизодах, связанных с прусской службой, ироническая дистанция автора по отношению к герою полностью исчезает. Герой-простак, не понимающий рассказчик становится нужен автору, чтобы, глядя на злой мир его наивными глазами, вывести зло из автоматизма его привычного восприятия. И хотя остранение непониманием далеко не всегда проявляется в тексте на стилистическом уровне (как в сцене присяги), самая роль деревенского простофили, случайно заблудившегося в мире неправды и не понимающего тех социальных условностей, которые призваны эту неправду маскировать и оправдывать, сохраняется за героем на протяжении всех его приключений, обусловливая отбор и оценку материала — будь то уже упоминавшиеся берлинские впечатления, или сражение при Ловозице, или, например, описание похода, когда рассказчик ни слова не говорит о смысле и цели военной операции, но зато сочувствует окрестным крестьянам, через земли которых проходят войска61.
Следует подчеркнуть, что точка зрения деревенского простака подается у Брекера порой как критическая позиция свободного и добродетельного швейцарца по отношению к прусским порядкам. Так, в главе о Берлине Брекер с явным намерением играет контрастом между лирическими воспоминаниями о прекрасной Швейцарии, которым предаются герой и его друг-швейцарец, страдающие под солдатской лямкой в берлинском гарнизоне, и следующим грубо натуралистическим эпизодом, когда оба швейцарца становятся свидетелями жестокого наказания дезертиров и, содрогаясь от страха и негодования, шепчут проклятия по адресу прусских “варваров”. Очевидно, что Брекер и здесь не ограничивается “простым подражанием природе”, а оформляет свои личные впечатления с учетом руссоистского противопоставления патриархальной республиканской Швейцарии с присущими ее жителям свободолюбием и нравственным чувством современной цивилизации, продуктом которой является монархическое государство с его деспотизмом и безнравственностью.
По мере развития прусского эпизода исходная система ценностных координат переходит в свою противоположность. Если до этого эпизода малый мир швейцарской родины представал в свете мечты героя об освобождении как пиетистически окрашенное пространство духовного рабства, то вслед за перемещением действия в пространство большого мира, вместе с изменением пространственной перспективы идеал и действительность меняются местами, и большой мир подвергается критической оценке с “токенбургской” точки зрения, правда, лишь до тех пор, пока возвращение в Токенбург не становится для героя реальностью.
Радость встречи с родиной восторженно прославляет глава “О, сладостный воздух отчизны!”, но уже в следующей главе Брекер восклицает “Ах, как изменчиво человеческое сердце!” и показывает, как скоро под влиянием нового столкновения с беспросветной токенбургской жизнью пробуждается в душе Ульриха прежнее беспокойное стремление “улететь в далекие края”62. Здесь — “нулевой пункт” в развитии действия, когда кажется, что герой попадает в замкнутый круг надежд и разочарований и исчезает всякая возможность счастливого исхода.
Жестом отчаяния и одновременно попыткой заглушить в себе гибельную, как убеждается Ульрих, жажду свободы становится для него женитьба, влекущая за собой семейные и хозяйственные заботы. Портрет жены, Соломеи Амбюль, складывается из таких черт, как холодность и строгость, благочестие и нетерпимость, мещанская узость взглядов и приверженность традиционным формам жизни, твердость воли и склонность к тирании, душевная грубость и презрительное недоверие к интеллектуальным интересам мужа. Соперничая в откровенности с Руссо, Брекер характеризует ее как свою сварливую Ксантиппу, “безжалостного воспитателя”, как свой крест и одновременно свое благо, потому что у нее “всегда под рукой достаточно холодной воды, чтобы погасить огонь его желаний”63. Из этих признаний явствует, что жена наследует в истории воспитания героя идеологическую роль побежденного и вскоре гибнущего отца. Вернувшись на родину, Ульрих, словно в доказательство своего раскаяния, берет в жены женщину, которая после смерти отца становится олицетворением того аскетического ригоризма, той связанности мещанского быта, в добровольном подчинении которым герой хочет изжить “бурные стремления” своей грешной молодости и обрести душевный покой в примирении с малым “отцовским” миром Токенбурга.
С момента женитьбы Брекер заметно меняет стиль жизнеописания и сам привлекает внимание к этому факту, говоря, что работа над продолжением книги не доставляет ему и половины того наслаждения, какое он испытывал, предаваясь воспоминаниям о своей юности64. Формально это проявляется в преобладании общего плана над крупным, собственно эпической формы рассказа над квазидраматургической формой показа. По сравнению с предшествующими главами уменьшается значение конкретных художественных деталей и возрастает роль эксплицитных авторских характеристик и оценок, все реже встречается прямая речь, убыстряется, становясь однообразно-бессобытийным, сюжетное время, и даже названия глав все чаще фиксируют не события, а как бы пустую длительность: “Снова три года”, “Два года”, “И еще два года”, “Мой первый голодный год”, “На этот раз четыре года” и т.д. Вместе с тем содержание последних двадцати глав, рассказывающих о жизни героя после женитьбы, не сводится к описанию статического и усредненного существования, и стиль документальной хроники не лишает автобиографию Брекера романического интереса, как полагает Карл-Детлев Мюллер65. Тема духовной эмансипации личности, связывающая книгу с жанром воспитательного романа, еще не исчерпана, и Брекер продолжает ее разрабатывать, ведя рассказ по двум линиям. С одной стороны, о своей борьбе за существование, о безрезультатных попытках выбиться из нужды, о ссорах с женой и духовном одиночестве среди односельчан, он все больше углубляет мотив отчаяния, тему несостоявшейся жизни, кульминирующую в мыслях о “Вертере” и о праве верующего на самоубийство66. С другой же стороны, превращает последнюю часть своей книги в историю интеллектуального и эстетического созревания личности, т.е. в историю своего второго, менее решительного, но более глубокого бунта против Токенбурга — не в форме бегства вовне, а в форме внутреннего приобщения к просветительской культуре путем чтения, раздумий, писательского творчества.
Автобиография Брекера состоит из постоянного чередования иллюзии и разбивающей ее горькой действительности. Трагизм всей жизни ее автора и героя — в контрасте между ожиданием и разочарованием, и мотив собственного творчества, занимающий важное место в книге, не составляет исключения.
Неотъемлемой частью поэтики Брекера является риторическая формула “авторского смирения”, восходящая к латинской литературе Средневековья67. Приступая к своему труду, средневековый писатель нередко начинал с признания, что избранная им тема далеко превосходит его духовные силы, ибо знания его недостаточны, вера нетверда, а язык груб и неловок, и, если он все же, дрожа и заикаясь от робости, берется за перо, то делает это не из дерзости человеческой, но повинуясь велению свыше, во славу Господа и во спасение собственной души, главное же — при ясном сознании своего ничтожества. Брекер, воспитанный на религиозной литературе пиетизма и относившийся к писательству как к сакральному действию, широко пользуется формулой смирения во всех своих сочинениях, в том числе и в автобиографии, где строит на ее основе не только “Предисловие от автора”, но и весь рассказ о своем решении написать книгу, о муках и радостях творчества и о том разочаровании, которое он испытывает, завершая свое произведение.
Эстетическая тема вводится описанием острого душевного кризиса, пережитого Брекером после возвращения в Токенбург и женитьбы. Убедившись в том, что семейная жизнь, которая должна была стать началом великого покаяния и религиозного отречения от земных страстей, не в состоянии избавить его от “тысячи авантюрных звучаний”, Брекер едва не решает сделаться “странствующим проповедником раскаяния по примеру гернгуттеров и инспирированных”, но в последний момент ему приходит в голову, что “он мог бы попытаться совладать с пером и написать книжонку в утешение и спасение если не всего Токенбурга, то по крайней мере нашей общины, или пусть даже только для того, чтобы оставить ее в наследство своим детям — вместо наследственного имения”68. Чуть дальше, вспоминая об отчаянии, овладевшем им в “голодные годы”, Брекер приводит еще один мотив для оправдания своей “пачкотни”: “В те мучительные часы я часто искал спасения в чтении и письме... и находил облегчение, когда мне удавалось излить свою страдающую душу на бумагу, жалуясь моему Небесному отцу, поверяя ему без утайки все заботы, всю тоску моей жизни”69.
Таковы мотивы, побудившие Брекера стать писателем: раскаяние, житейские невзгоды, отчаянное одиночество, стремление оградить своих детей от собственных ошибок, пиетистическая привычка доверительного общения с Богом — и за всем этим неутоленная жажда самоутверждения в сфере духа на фоне неудавшейся реальной жизни.
Первый опыт своей писательской деятельности — огромный дневник — Брекер называет результатом “идиотской склонности к письму” и, приступая к автобиографии, уверяет читателя, будто бы большая часть старых дневниковых записей вызывает у их автора стыд и отвращение оттого, что эти случайные мысли и ощущения брошены на бумагу без всякого плана и цели. Автобиографическая книга должна, по мысли Брекера, упорядочить хаос, царящий в дневнике, вобрав в себя только “самое примечательное”70. Все дело, однако, в том, что эти слова из авторского предисловия резко контрастируют с неутешительной самооценкой, которую Брекер дает в одной из последних глав с выразительным названием “И что же дальше?”: “Чем внимательнее я вчитываюсь в мою историю, как она написана до сих пор, тем большее отвращение вызывает у меня это гусиное гоготание, эта неразбериха”71.
Следующая глава, под названием “Итак”, представляет собою не что иное, как развернутую риторическую формулу авторского смирения, обновленную и актуализированную введением новых индивидуальных мотивировок. “Когда я начинал эту книгу, — пишет Брекер, — она, казалось, получится чудо какая прекрасная, полная редчайших приключений история. Какой же я глупец!”72. И, стараясь оправдать эту глупость, он напоминает читателю о своем низком социальном происхождении, столь невыгодно отличающем его, полуграмотного крестьянина, который и писать-то выучился только по разлинованной бумаге, да и то с ошибками, от настоящего писателя, каковы, например, Юнг-Штиллинг или Руссо, его недосягаемые образцы. Это оправдание — очевидная социальная мотивировка стертой риторической фигуры, но мотивировка ложная, ироническая, имеющая целью отмежеваться от обоих названных “образцов” — как от наивного благочестия и безусловной веры в божественное провидение, свойственных пиетистической автобиографии Юнг-Штиллинга, так и от диалектически изощренного психологизма “Исповеди”, в которой беспощадное самобичевание автора оборачивается утверждением уникальности и величия его личности.
Следуя за Штиллингом, Брекер едва ли не каждый эпизод своей книги сопровождает благодарственной молитвой Всевышнему, но, если у Штиллинга идея божественного руководства организует все произведение, придавая изображаемой им жизни значение религиозного пути и подвига, то благочестивые излияния Брекера остаются формальными вкраплениями, не имеющими необходимой внутренней связи с концепцией развития героя. Когда Брекер убеждает своих читателей, что, захоти он изобразить себя таким же благородным и добродетельным, каков Штиллинг, его книга неизбежно превратилась бы в ложь, за этим самоуничижением стоит критика идеалистических представлений о человеке, превращающих в красивую ложь горькую правду реальной жизни. Столь же сомнительным представляется Брекеру и метод Руссо с его навязчивой, по мнению критика, психологической самоинтерпретацией, всегда слишком субъективной, чтобы не порождать иллюзий. “Мой единственный беспристрастный Судия видит меня насквозь и не нуждается в моих признаниях”, — замечает Брекер в связи с “Исповедью”73, т.е. бросает своему великому предшественнику упрек в дерзкой гордыне, полагая, что только смиренная правда фактов может спасти биографа собственной жизни от искушения изобразить себя лучше, чем он был в действительности.
Таким образом, ложная социальная мотивировка авторского самоуничижения скрывает за собой у Брекера мотивировку истинную, имеющую широкое мировоззренческое значение: смирение выступает как знак кризиса веры в идеалистическую иллюзию нравственного совершенства. Прямым ответом на вопрос “Итак?”, вынесенный в название главы, служит фраза, представляющая собой своего рода орфографическую метафору этого кризиса: “Что же еще, как «я», но не «Я»? Ибо я только недавно понял, что когда пишешь о себе, «я» следует писать с маленькой буквы”74.
В соответствии с этим смиренным итогом изображает Брекер последний период своей жизни, когда автобиография уже написана или близится к завершению. “Место моего жительства всегда одно и то же. Однообразны, всегда те же моя работа, настроение, счастье и — людское расположение”75, — пишет Брекер и иллюстрирует свое новое душевное состояние двумя психологическими наблюдениями: рассказом о странном удовольствии, которое он начал испытывать при виде того, как рушатся волшебные замки, созданные его воображением, и признанием в том, что его былая страсть к сочинительству идет теперь на убыль, и он все охотнее посвящает себя мелочным хозяйственным заботам о своем “маленьком домике”, своем “маленьком садике”76. Заключительным аккордом становится лирический гимн Токенбургу, тому патриархальному мещанскому миру, против которого Брекер пытался бунтовать вначале как искатель приключений, затем — как художник.
Сам Брекер воспринимает свой жизненный и эстетический опыт как поражение и как победу одновременно. То, что в этическом плане выглядит как поражение — крушение веры в Человека — переосмысляется им как эстетическая, а тем самым и как нравственная победа художественной правды над этической иллюзией Просвещения. “Глядите, мои милые, — обращается он к своим детям и читателям, — такова история моей жизни до сегодняшнего дня... Это хаос, но именно это моя история”77.
Просветительская идеология стремилась, как известно, к оптимистическому оправданию действительности как разумной и целесообразной гармонии. Значительность человеческой личности определяется для просветителя ее возможностью и способностью познать смысл жизни, т.е. обрести гармонию с реальным миром, занять в нем свое место, но не ценой отказа от идеи духовной эмансипации, а, напротив, путем реализации этой высокой идеи в жизненной практике. Выражением этого оптимизма явился расцвет “воспитательного романа”, и в этом смысле автобиография Брекера, в которой итогом жизненного опыта становится усталая резиньяция перед лицом хаоса человеческой жизни, вступает в противоречие не только с упоминаемыми в тексте произведениями Юнг-Штиллинга и Руссо, но и с имеющим появиться через несколько лет “Вильгельмом Мейстером” Гете, а в более отдаленной перспективе и с его овеянной тем же духом просветительского гуманизма “Поэзией и правдой”.
Идеологическая маргинальность книги Брекера во многом предопределила характер ее восприятия и историческую судьбу. Современники приветствовали Брекера как тип “философствующего крестьянина”, вошедший в моду на волне руссоистских увлечений еще в 70-е годы, когда цюрихский врач Ганс Каспар Хирцель, друг Геснера и Лафатера, Клопштока и “бурных гениев”, приобрел широкую известность своей книгой “Хозяйство крестьянина-философа”78.Так воспринимает Брекера токенбургский пастор Мартин Имхоф, первым открывший талант своего прихожанина и рекомендовавший его автобиографию знаменитому Цюрихскому издателю Иоганну Генриху Фюсли; в 1788 г. Фюсли публикует ее в своем журнале “Швейцарский музей”, а затем выпускает отдельной книгой, в предисловии к которой Имхоф именует Брекера “добродетельным сыном природы” и восхваляет его за то, что, “отрезанный от всех средств просвещения, он сумел собственными силами достигнуть определенной степени просвещенности”79. Так воспринимает Брекера и сам Фюсли, не только его восхищенный издатель, но и строгий редактор80, и Фридрих Николаи, снисходительно похваливший книгу в своей “Всеобщей немецкой библиотеке”81, и швейцарский поэт Иоганн Антон Зульцер, подчеркнуто снимающий в своей оде Брекеру дистанцию между собой и благородным простолюдином, чья дружба ему дороже, чем дружба “подлых князей”82, и многочисленные знатные посетители Брекера, от расспросов которых он чувствует себя как “ярмарочный медведь”83.
Успех, основанный на увлечении экзотической народностью, не мог быть продолжительным, и в XIX в. книга Брекера, не поддававшаяся включению в магистральную идеалистическую линию развития немецкого Просвещения, была почти полностью забыта. Исключение составляет лишь Густав Фрейтаг, вспомнивший “бедного малого” в своих “Картинах немецкого прошлого” (1858-1861), чтобы противопоставить его плебейское описание Семилетней войны официозной историографии с ее героизацией Фридриха Прусского84. Однако ни одна из больших историй немецкой литературы, ни Геттнер, ни Вильгельм Шерер, Брекера даже не упоминают. Только после работ и публикаций Самюэля Вельми, первого энтузиаста творчества Брекера в XX в., его имя все больше начинает привлекать к себе внимание исследователей, особенно марксистской ориентации, усматривавших в судьбе и произведениях Брекера яркий пример реалистической плебейской контркультуры в рамках бюргерского Просвещения (Мейер, Тальхейм). Не менее важным и оправданным представляется, однако, изучение творчества Брекера в литературно-историческом контексте “позднего Просвещения”, общим признаком которого является сознание острого разрыва между просветительскими идеалами и эмпирической действительностью.
Примечания
1 Mayer H. Aufklärer und Plebejer: Ulrich Bräker, der Arme Mann im Tockenburg// Mayer H. Studien zur deutschen Literaturgeschichte. Berlin, 1954. S. 63.
2 Цит. по: Böhning H. Ulrich Bräker. Der Arme Mann aus dem Tockenburg. Leben, Werk und Zeitgeschichte. Königstein, 1985. S. 204.
3 Bräker U. Lebensgeschichte und Natürliche Ebentheuer des Armen Mannes im Tockenburg / Hrsg. von Samuel Voellmy. Zürich, 1993. S. 45.
4 Bräker U. Op. cit. S. 277.
5 Bräker U. Op. cit. S.279.
6 Доведен до 1798 r. Частично опубликован С. Вельми в составе сочинений Брекера: Leben und Schriften Ulrich Bräkers, des Armen Mannes im Tockenburg / Dargestellt und herausgegeben von Samuel Voellmy. Basel, 1945. (Bd. 1: Lebensgeschichte; Bd. 2: Tagebücher; Bd. 3: Wanderungen, Dialoge, Shakespeare). Обширные фрагменты неопубликованных дневников приводит Г. Бенинг (см. примеч.2). 2). Далее дневники цитируются по Voellmy rest. Böhning с указанием страницы.
7 См. Об этом подробнее: Thalheim H.-G. Ulrich Bräker, Ein Naturdichter des 18. Jahrhunderts // Bräkers Werke in einem Band / Ausgewählt und eingeleitet von H.-G. Thalhelm. Berlin; Weimar, 1964. S. 47-48.
8 См.: Sauder G. Die Bücher des Armen Mannes und der Moralischen Gesellschaft im Tockenburg// Buch und Sammler. Private und öffentliche Bibliotheken in 18. Jahrhundert. Heidelberg, 1979. S. 167-186.
9 Tagebuch. 30.3.1771. Цит. по Böhning. S. 75.
10 В относящейся к 1769 г. Неопубликованной рукописи Брекера “Ein Wort der Vermahnung an mich und die Meinigen, dass nichts besser sei den Gott zu fürchten zu allen Zeiten”. — Цит. по: Böhning. S. 78.
11 Tagebuch. 17.11.1772. Цит. по Böhning. S. 90.
12 Tagebuch. 30.10.1774. Цит. по Böhning. S. 88.
13 Tagebuch. 6.10.1774. Цит. по Böhning. S. 89.
14 Helmuth J.H. Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens. Braunschweig, 1788; Bode H. Anleitung zur Kenntnis des gestirnten Himmels. Augsburg, 1791.
15 Tagebuch. Nov. und Dez. Цит. по Böhning. S. 93.
16 Цит. по Böhning. S. 89-90. Cp. GoetheJ. W. Die Leiden des jungen Werthers. München, 1979. S. 9.
17 Dann mein Auge hat noch nichts gesehen, das mich Gott, aehnlicher duenkt! Auge meines Cottes, oder wie ich dich auch immer nenne, duenkst du mir immer eine sichtbare Gottheit! (Voellmy S. Op. cit. Bd. 2. S. 103).
18 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. M., 1972. C. 195.
19 Bräker U. Gespräch im Reiche der Toten // Ulrich Bräkers Lesebuch / Hrsg. von Heinz Wieder. Frankfurt a.M., 1973. S. 197.
20 Ibid. S. 200.
21 Ibid.
22 Danzel Th.W., Cuhrauer G.E. G.E.Lessing, sein Leben und seine Werke. Leipzig, 1853. Bd. 2. S. 102.
23 J.G. Zimmermann an Lavater. 26 April 1776 // Hegner H. Beiträge zur näheren Kenntnis und wahren Darstellung J. Lavaters. Aus Briefen seiner Freunde an ihn und nach persoenlichem Umgang. Leipzig, 1830. S. 80.
24 Bräker U. Der grosse Lavater // Ulrich Bräkers Lesebuch. S. 159.
25 См.: Тронская М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962. C. 221.
26 Wieland ChrM. Werke: In 40 Th. / Hrsg. von H. Düntzer. Berlin, 1839-1853. Th. 32: Kleinere philosophische Schriften. S. 21.
27 FalkJ. Goethe aus näherem persönlichen Umgange dargestellt. Leipzig. 1836, S. 201.
28 Voellmy S. Op. cit. Bd. 2. S. 270.
29 Ibid. S. 271.
30 Ibid.
31 Ibid. S. 375.
32 Ibid. Bd. 3. S. 410.
33 Tagebuch. März, 1771. Цит. по Böhnning. S. 161-162.
34 Bräker. S. 27.
35 См.: Sauder Q. Die Bücher des Armen Mannes...
36 Voellmy S. Op. cit. Bd. 3. S. 437.
37 Гердер И.-Г. Шекспир // Гердер. Избр. соч. / Вступ. Статья и прим. В.М. Жирмунского. М.Л.., 1959. C. 8.
38 Muschg W. Ulrich Bräker. Etwas über William Shakespeares Schauspiele // Ders. Pamphlet und Bekenntnis. Olten, 1968. S. 264.
39 Die Christnacht, oder Was ihr wollt, meinetwegen Baurenkomoedie, Baurenphilosophie, das Leben des Poebels. Ehestand, lediger Stand, Baurengeschwaetz, Raesonieren von Himmel, Erde, Hoelle etc., geschrieben bey naechtlichen Stunden im Herbstmonat anno 1780. Leben und Schriften Ulrich Bräkers / Hrsg. von S. Voellmy. Bd. I. S. 18.
40 Thalheim H.-G. Ulrich Bräker, Ein Naturdichter des 18. Jahrhunderts. S. 69.
41 Goethe J.W. Der deutsche Gil Blas // Werke / Hrsg. Karl Heinemann. Leipzig; Wien, o.J. Bd. 25. S. 338.
42 Hinderer W. Ulrich Bräker// Deutsche Dichter des 18 Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk / Hrsg. von Benno von Wiese. Berlin, 1977. S. 387.
43 Wieland ChrM. Der Geist Shakespeares // Werke / Hrsg. von F. Martini u. H.W. Seiffert. München, 1967. Bd. 3. S. 277.
44 Bräker. S. 52.
45 См.: Тронская М.Л. Идиллии Жан-Поля // Известия Академии наук СССР. Серия VII. 1935. № 9. C. 847-853.
46 Bräker. S. 85.
47 Ibid. S. 79.
48 Ibid. S. 77.
49 Ibid. S. 78-81.
50 Ibid. S. 106-107.
51 Ibid. S. 109.
52 Ibid. S. 129.
53 Ibid. S. 131.
54 Ibid. S. 138.
55 Ibid.
56 Ibid. S. 162.
57 Ibid. S. 179.
58 Ibid. S. 180.
59 Briefe von Herrn J.G. Jacobi. Berlin, 1778. S. 36.
60 Bräker. S. 156.
61 Ibid. S. 179.
62 Ibid. S. 199.
63 Ibid. S. 280.
64 Ibid. S. 256.
65 Müller K.-D. Autobiographie und Roman. Studien zur literarischen Autobiographie der Goethezeit. Tübingen, 1876. S. 176-183.
66 Bräker. S. 244.
67 Curtius R.R. Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Bern; München, 1948. S. 300-305.
68 Bräker. S. 221.
69 Ibid. S. 237.
70 Ibid. S. 41.
71 Ibid. S. 260.
72 Ibid. S. 261-262.
73 Ibid. S. 263.
74 Ibid. S. 261.
75 Ibid. S. 288.
76 Ibid. S. 300.
77 Ibid. S. 307.
78 Hinei H.G. Die Wirtschaft eines philosophischen Bauers. Zürich, 1761; Neue vermehrte Auflage. Zürich, 1774.
79 Bräker. S. 39.
80 Как показал Бенинг, “исправления” Фюсли в ряде случаев лишают слог Брекера силы и выразительности, приближая его к стилистической и идеологической норме // Böhning H. Ulrich Bräker. S. 115f.
81 Allgemeine deutsche Bibliothek. 1789. Bd. 2. S. 2.
82 Stilzer JA. An Ulrich Bräker oder den sogenannten Armen Mann im Toggenburg // SulzerJA. Gedichte. Zürich, 1792.
83 Böhning H. Ulrich Bräker. S. 122.
84 Freytag G. Bilder aus der deutschen Vergangenheit // Werke / Hrsg. von I.M. Metzger. Hamburg, o. J. Bd. 1. S. 99.