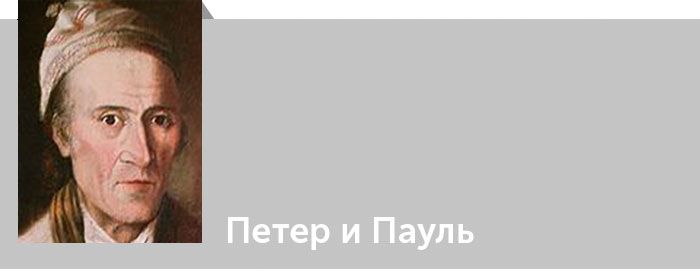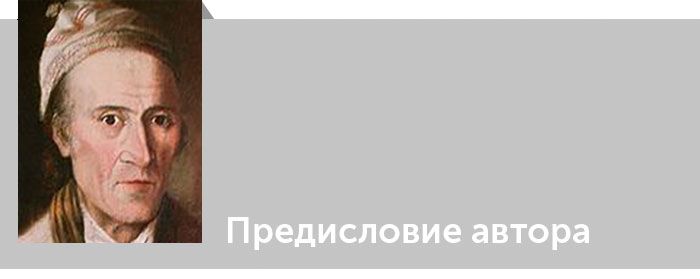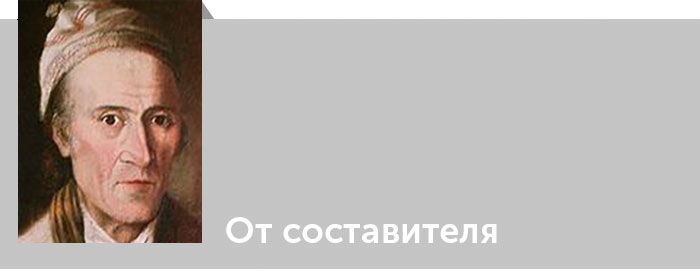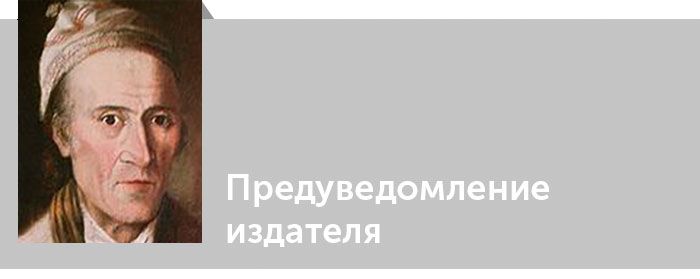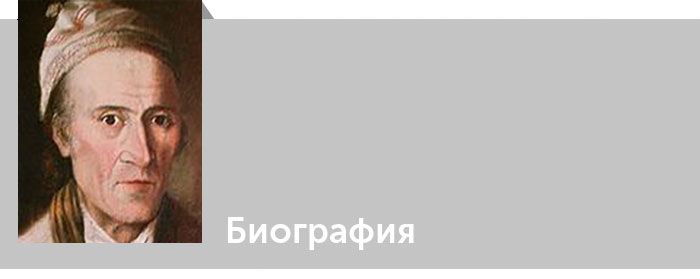Ульрих Брекер. История жизни и подлинные похождения бедного человека из Токкенбурга. Часть вторая

XLIХ. Дальше — больше
В таких обстоятельствах мы с Шерером бегали друг к другу при малейшей возможности — плакались друг другу, прикидывали, строили планы, отвергали их. Шерер держался уверенней меня, да и денег выдавали ему побольше. Я же, как и многие другие, выбрасывал последнюю трешку за стопку можжевеловки,1 чтобы развеять тоску. Один мекленбуржец,2 стоявший на квартире по соседству и переживавший такую же беду, делал то же самое. Но едва хмель ударял ему в голову, он усаживался в сумерках перед своим домом и в полном одиночестве ругался и болтал разное, клял своих офицеров и даже короля, призывал на Берлин и на головы всех жителей Бранденбурга тысячи проклятий и — как признавался этот бедолага, протрезвев, — он находил в этой бессмысленной ярости единственное себе утешение.
Вольфрам и Мевис часто увещевали его, потому что был он еще недавно добродушным, общительным малым.
— Послушай-ка, парень! — говорили они ему. — Смотри, как бы не очутиться тебе в сумасшедшем доме.
Это заведение располагалось неподалеку от нас. Часто я видел там солдата, который сидел перед оградой, на лавочке, и однажды я спросил у Мевиса, кто это такой. Потому что в нашей роте я его никогда не встречал.
— А это такой же точно, как и наш мекленбуржец, — пояснил мне Мевис. — Потому-то его и упекли сюда, и сначала он ревел, что твой венгерский бык.3 Зато через пару недель стал тихим, как ягненок.
Этот рассказ вызвал во мне сильное желание узнать его поближе.
Родом он был из Анспаха.4 Сперва я старался как бы невзначай пройти мимо него взад и вперед и с грустным сочувствием глядел, как он сидит там в печали, то подымая взор к небесам, то опуская его долу, улыбаясь иногда чему-то своему и не обращая на меня ни малейшего внимания. Даже по одному только внешнему облику этот сын человеческий представлялся мне поистине человеком Божьим.5
Наконец я решился присесть рядом с ним. Он уставился на меня неподвижным и серьезным взглядом и стал произносить какие-то бессвязные слова, к которым я внимательно прислушивался, так как среди них проскальзывало по временам нечто совершенно разумное. Как я мог приметить, его больше всего мучило то, что, происходя из порядочной семьи, он оказался в нынешнем положении только по собственной вине и теперь глубоко страдал от мук совести и от тоски по дому.
Понемногу, намеками, я поведал ему о том, что у меня на душе, с главной целью — услыхать что-нибудь себе в утешение. Мне показалось, что у этого человека был подлинный дар предвидения.
— Братец ты мой! — обратился он ко мне однажды во время такой беседы. — Братец ты мой, сиди тихо! В том, что ты страдаешь, есть, конечно, твоя вина и, страдая, ты несешь свое более или менее заслуженное наказание. А станешь суетиться — сделаешь себе только хуже. Грядут, грядут перемены и очень большие. Только король есть король. А все эти генералы, полковники, майоры — всего лишь его слуги, мы же — ах! — мы просто бездомные проданные собаки, годные в мирное время для кулака, а на войне для пули да для штыка. Но дело не в этом, братец ты мой! Может, повезет тебе найти калитку, и ежели она отворится тебе, — тогда делай, как знаешь. Однако гляди, братец ты мой, — действуй без усилия и насилия, а не то все пойдет насмарку!
Эти и подобные слова говаривал он мне часто. Никаким на свете первосвященникам и левитам6 не удалось бы так вразумить меня и одновременно так глубоко утешить, как это сделал он.
А тем временем вокруг стали вполголоса все чаще поговаривать о войне. То и дело прибывали в Берлин все новые полки, и нас, рекрутов, присоединили к одному из них. Ежедневно приходилось шагать за городские ворота на маневры — развивать наступление вправо и влево, атаковать, совершать ретирады,7 выдвигаться «плутонами» и «дивизионами»8 и чего только еще не выдумал бог Марс!
Дело дошло наконец до генерального учения и смотра. Тут началось такое, что этой книжки не хватило бы, чтобы все описать. И хотел бы, да не сумел бы. Во-первых, из-за неимоверного множества всяких военных орудий, большинство которых я увидел в первый раз. Во-вторых, из-за того, что голова моя и уши так переполнились страшным шумом ружейной пальбы, барабанного боя и военной музыки, командных выкриков и всего прочего, что впору было им лопнуть. И, в-третьих, к тому времени мне столь опротивели все наши экзерциции, что я не имел уже сил примечать, что там еще выделывают в тысячный раз все эти пехотные и кавалерийские подразделения.
Потом уже, правда задним числом, я подчас сильно жалел, что не запомнил получше все виденное мною. Ибо хотелось бы мне, чтобы всем моим друзьям и, вообще, всем землякам удалось хоть один денек поглядеть на все это. То-то был бы у них тогда повод для многих и многих глубокомысленных раздумий!
Итак, вот лишь самая малость.
Необозримая равнина заполнена военным людом. По всем углам и краям плаца расположились многие тысячи зрителей. Две большие армии выстроились в искусном боевом порядке друг против друга. Уже слышится на их флангах басовитый рык тяжелых орудий, направленных в сторону неприятеля. Армии начинают наступление, открывают пальбу, производя такой ужасный грохот, что соседа не услышишь, и за дымом ничего не видать.
Там несколько батальонов ведут заградительный огонь, тут противники атакуют фланги друг друга; здесь блокируются батареи, там выстраивается «двойной крест».9 Вот войска форсируют речку по наплавному мосту, а там рубятся кирасиры и драгуны, и несколько гусарских эскадронов10 всех цветов радуги налетели друг на друга так, что над конями и всадниками поднялись тучи пыли. Вот происходит нападение на воинский лагерь. Авангард, в составе которого и я имел честь действовать, рушит палатки и ретируется. Повторяю еще раз: глупо было бы воображать, что я даю полное описание генерального учения прусской армии. Одна надежда, — что читатель удовлетворится сей малостью или лучше уж простит мне ее за то, что я не слишком надоедаю ему своей болтовней.
L. Бог с тобой, Берлин! Больше мы не увидимся никогда
Наконец наступил желанный срок, когда прозвучала команда: «В поход марш!» Еще в июле месяце несколько полков выступили из Берлина, а на их место прибыли другие — из Пруссии и Померании. Всем приказано было возвратиться из увольнения, и весь большой город кишел солдатами. Однако никто толком не знал, какова цель всех этих передвижений. А я держал ухо востро, как поросенок в загородке. Одни говорили, что если будет объявлен военный поход, то нас, новобранцев, едва ли должны взять в него, нас отправят, скорее всего, в какой-нибудь гарнизонный полк. Этого я смертельно боялся, но в это и не верилось. Пока суд да дело, я прилагал все свои телесные и душевные усилия к тому, чтобы на маневрах всегда показывать себя умелым, храбрым солдатом (ибо кое-кто из нашей роты, кто был постарше меня, действительно был оставлен в резерве).
И вот 21 августа лишь поздно вечером пришел ожидавшийся нами приказ быть наутро в походной готовности. Что тут началось! Какая пошла чистка и подгонка! Когда-то, когда у меня еще водились деньги, я все никак не находил времени заплатить одному пекарю за два хлеба, взятые в долг. Но теперь считалось, что никому не придет в голову напоминать об уплате долгов. И все-таки я оставил на квартире свой бельевой сундучок, и если пекарь не вытребовал его, то еще и сегодня у меня остается кредитор в Берлине, да и мне кое-кто по-прежнему должен пару баценов — так что получается баш-на-баш.
Ибо 22 августа в три часа пополуночи барабаны ударили сбор, и едва рассвело, наш полк (Иценблицкий — звучное имя! Солдатами он был в шутку прозван «Забияцким» из-за грозного нрава нашего полковника) был выстроен по всей форме на Краузенштрассе. В каждой из его двенадцати рот состояло по сто пятьдесят человек. Полки, расквартированные в Берлине по соседству с нами, назывались, насколько помню, Вокатский, Винтерфельдский, Мейрингский и Кальштейнский; были еще четыре полка принцев — принца Прусского, принца Фердинанда, принца Карла и принца Вюртембергского.1 Эти полки вышли походным маршем одни раньше, другие позже нас; впоследствии, однако, в движении, они по большей части опять присоединились к нам.
Барабаны стали бить поход. Рекою полились слезы горожан, солдатских жен, веселых девиц и прочего люда. Да и сами воины, те, кто был местным жителем и у кого дома оставались жена и дети, совсем пали духом от тоски и отчаяния. Пришлых же, наоборот, переполняла тайная радость, и они в душе своей восклицали:
— Слава тебе, Господи! Наконец-то близится наше избавление!
Каждого из нас навьючили, как осла, — сперва портупея с саблей, потом патронташ через плечо на ремне в пять дюймов длиной;2 через другое плечо — ранец, набитый бельем и прочим, а также пищевой мешок с хлебом и другим довольствием. В дополнение пришлось каждому тащить на себе что-нибудь из общего походного снаряжения — бутыль, котел, лопату или другие вещи — все на ремнях. Поверх всего этого еще и ружье, также на ремне. В общем, все мы были затянуты ремнями наперекрест через грудь по пяти раз, так что каждому из нас сперва казалось, что он задохнется под таким грузом. Этому помогала еще и тесно прилегающая форма да к тому же такая собачья жарища, что временами мне чудилось, будто я ступаю по раскаленным угольям. А когда удавалось немного расстегнуть мундир на груди, оттуда шел пар, как от кипящего котелка. Скоро на мне не осталось ни одной сухой нитки, и я начал изнемогать от жажды.
LI. Путь до Пирны
Итак, мы выступили походным маршем в первый день (22 августа) через Кёпеникские ворота и двигались четыре часа до города Кёпеника,1 где нас разместили по тридцать-пятьдесят человек в домах местных бюргеров, которые покормили нас на грош с человека. Ну, братцы, что тут началось! Ох, и пошла же обжираловка! Вообразите себе такую ораву здоровенных голодных парней! Повсюду только и слышалось:
— Волоки сюда, каналья! Давай все, что припрятано по углам!
На ночь натаскали в комнату соломы, и все мы улеглись рядами вдоль стен. Поистине курьезная картина! В каждом из домов находилось по офицеру, который должен был следить за порядком, однако зачастую они-то и были самыми нерадивыми.
На другой день (23-го) мы прошагали десять часов до Фюрстенвальда;2 тут появились уже ослабевшие, которых пришлось разместить на повозках. Это было неудивительно, потому что за весь день была всего лишь одна передышка, когда мы, стоя, смогли немного подкрепиться.
В вышеупомянутом городке все пошло опять, как и прежде. Разве только большинство солдат охотнее принялось за выпивку, чем за еду, и многие упились до полусмерти.
На третий день (24-го) шли шесть часов до Якобсдорфа,3 где был у нас трехдневный привал (25, 26 и 27-го), и, соответственно, хуже была кормежка, и выпили мы всю кровушку из бедных крестьян.
Седьмой день (28-го) мы промаршировали до Мюльрозена за четыре часа. Восьмой (29-го) — до Губена, четырнадцать часов. Девятый (30-го) мы там отдыхали. Десятый (31-го) шли до Форете шесть часов. Одиннадцатый (1 сентября) — до Шпремберга шесть часов. Двенадцатый (2-го) — до Гейерсверде шесть часов и опять отдыхали один день. Четырнадцатый (4-го) — до Каменца,4 последнего городка, где мы стояли на квартирах. Ибо после этого мы стали уже разбивать полевые лагеря, совершали марши и контрмарши, так что я и сам не знал, по каким местам мы преходили, поскольку это происходило зачастую в ночной тьме. Могу только припомнить, что на пятнадцатый день (5-го) двигались мы четыре часа и под Бильцемом разбили лагерь, где простояли два дня (6-го и 7-го).
Затем, на восемнадцатый день, опять прошагали шесть часов и расположились вблизи Штольпа,5 где провели один день (9-го). Наконец, на двадцатый день (10-го) проделали еще четыре часа пути до Пирны, где к нам присоединилось еще несколько полков, и они разбили огромный, почти необозримый лагерь, причем были заняты замки Кенигштейн, господствующий над Пирной и лежащий по эту сторону Эльбы, и Лилиенштейн — на другом берегу. Ибо вблизи этого последнего стояла саксонская армия. Как раз в долине напротив был виден ее лагерь, а в долине Эльбы, под нами, лежала Пирна,6 также занятая теперь нашими войсками.
LII. Надежда и отчаяние
— До сей поры Господь помогал нам!
Таковы были первые слова проповеди нашего полкового капеллана под Пирной. «О да! — думал я. — Ваша правда. И в будущем он мне поможет, я надеюсь, вернуться на родину, потому что какое мне дело до ваших войн!»
А в это время вокруг — как это бывает всегда в военных походах — стоял шум, гам и тарарам, так что всего и не перескажешь, да и мало кому это будет интересно. Наш майор Людериц (ибо офицеры внимательно следили за каждым солдатом) стал, по-видимому, замечать частое уныние на моем лице. Посему он грозит, бывало, мне пальцем:
— Смотри у меня, парень!
И наоборот, Шерера он хлопнет по плечу и с улыбкой назовет бравым малым, потому что тот всегда сохранял веселость и довольный вид и заводил то свои каменщицкие, то пастушьи песенки.1 В душе-то он был того же мнения, что и я, но лучше меня умел скрывать это.
Однако и мне пришла однажды в голову бодрая мысль: «Господь все направляет к лучшему!» А если к тому же мне удавалось на марше или на привале повидать Маркони, — который ведь был немало виноват в моем несчастье, — то мне тогда вообще казалось, будто я вижу отца родного или закадычного друга своего, особенно если он протянет мне с коня руку и дружески потрясет мою, глядя с сердечным сочувствием словно мне в самую душу:
— Как дела, Ольрих, как дела? Все будет в порядке! — скажет он мне и, прежде чем услышит мой ответ, прочтет его в моем увлажнившемся взоре. О, я желаю этому человеку — не знаю, жив ли он еще или уже нет, — и по сей день всего самого доброго. После Пирны я его никогда уже больше не видел.
Тем временем каждое утро мы получали строгий приказ держать оружие заряженным. Это побуждало старых солдат повторять:
— Сегодня что-то будет! Уж нынче-то непременно начнется!
А у нас, молодых, все пальцы потели, когда случалось идти маршем мимо кустарника или леса и следовало быть начеку. Тут уж каждый держал ухо востро, ожидая свинцового града и собственной погибели, и как только мы выходили на открытое место, начинал оглядываться направо и налево, соображая, куда можно было бы удрать. Ибо все время с обеих сторон маячили неприятельские кирасиры, драгуны и пехота.
Однажды, когда нам случилось двигаться маршем целых полночи, Бахман попробовал дать тягу и несколько часов проскитался по лесу, а наутро опять наткнулся на нас и еще удачно отговорился тем, что ходил по нужде и отбился от строя. С той поры мы, остальные, стали с каждым днем все лучше понимать, что убежать будет трудно. И тем не менее мы крепко вбили себе в голову, что не будем дожидаться баталии, чего бы это нам ни стоило.
LIII. Лагерь под Пирной
Не ждите от меня ни полного описания нашего лагеря между Кенигштейном и Пирною, ни лагеря саксонцев, расположившихся прямо напротив нас, за рекою, под Лилиенштейном. Все это вы найдете в описаниях подвигов, правления и жизни Великого Фридриха. Я пишу лишь о том, что видел сам, что совершалось совсем рядом со мной, и, в особенности, — о том, что касалось меня самого. О великих же делах мы, полуголодные бедолаги, думали меньше всего и не более того заботились. Все мои мысли и мысли многих-многих других крутились только вокруг одного: «Прочь, прочь отсюда! Домой, в отечество свое!»
С 11-го по 22-е сентября мы тихо сидели в нашем лагере; и тот, кому солдатчина была по душе, мог только радоваться. Потому что жизнь шла совсем так, словно мы стоим в каком-нибудь городке.
Полно было маркитантов и разъезжих мясников. Все дни напролет вдоль всех проулков, шла сплошная жарка и парка. Каждый мог получить, что захочет, или скорее — за что сможет заплатить: мясо, масло, сыр, хлеб, фрукты и овощи на любой вкус. Кроме часовых, каждый был волен делать, что ему заблагорассудится: кегли катать, в карты играть, слоняться по лагерю и вне его и проч. Лишь некоторые оставались в своих палатках: один занимался чисткой ружья, другой стиркою, третий варил еду, четвертый чинил штаны, пятый — башмаки, шестой вырезал поделки из дерева и сбывал их крестьянам.
В каждой палатке размещалось по шесть человек и еще один сверх комплекта. В каждой семерке полагался один ефрейтор; его обязанностью было строго следить за дисциплиной. Из шести остальных кто-то отряжался в караул, кто-то кашеварил, кто-то добывал провиант, кто-то — дрова, кто-то — солому, кто-то был шорником — и все вместе вели общее хозяйство, имели общий стол и общий ночлег. На марше каждый из нас запихивал в свой пищевой мешок все, что мог ухватить, — понятно само собой, что на земле неприятеля, — муку, репу, земляные груши, кур, уток и проч. А тот, кому не везло с добычей, бывал обычно обруган всеми остальными, что и случалось чаще всего со мною.
Когда мы проходили через какую-нибудь деревню, что за вопль подымали бабы, детишки, гуси, поросята и все прочие. Мы хватали все, что можно было унести. Раз! Шею набок и — в мешок! Вламывались во все хлева и сады, обколачивали напропалую все деревья и ломали напрочь ветки с плодами. Рук много, — повторяли мы, — и что не сумел один, то удастся другому. Тут уж не зевай, если только офицер позволил или даже если не совсем позволил. Тут уж выполняй свою задачу с превышением.
Мы, трое швейцарцев — Шерер, Бахман и я (в полку имелись и другие соотечественники, но мы с ними не были знакомы), не ходили в палатки друг к другу и не бывали вместе в карауле. Зато мы совершали втроем частые прогулки за пределы лагеря до внешних постов и особенно на один бугор, с которого открывался прекрасный вид на саксонскую землю, на весь наш лагерь и на речную долину вплоть до Дрездена. Здесь мы держали между собой военный совет, — что предпринять, как уйти, какой выбрать путь, где потом встретиться. Но для самого главного — для ухода — все лазейки оказывались перекрытыми. К тому же нам с Шерером хотелось бы в одну прекрасную ночь тихонько удрать одним, без Бахмана, так как мы ему никогда полностью не доверяли, да и видели каждый день, как гусары волокут дезертиров, слышали, как барабаны отбивают дробь для прогона сквозь строй и были свидетелями разных других способов внушения.
И, несмотря на все это, ждали и ждали с часа на час военного столкновения.
LIV. Взятие саксонского лагеря и т.д.
Наконец 22-го сентября барабаны ударили тревогу, и мы получили приказ на выступление. В один миг все пришло в движение. В несколько минут необозримый лагерь — будто огромнейший город — был разрушен, упакован и — вперед марш! Мы спустились в долину, навели вблизи Пирны наплавной мост и повыше городка, прямо перед саксонским лагерем, построились, образовав проход, как это делается, когда шпицрутенами гонят сквозь строй. Одним концом эта «улица» уперлась в городские ворота Пирны, и вся саксонская армия была вынуждена проследовать по ней в гору строем по четыре человека, сложив прежде оружие и — можно себе вообразить — терпя на всем этом долгом пути всяческую ругань и насмешки. Некоторые брели, печально понурив головы, другие шли с видом вызывающим и озлобленным, а кто и с усмешкою, не оставляя без должного ответа словечки прусских острословов. Ни мне, ни тысячам остальных не было ничего толком известно об обстоятельствах полной сдачи этого большого войска.1
В тот же день мы продвинулись еще на часть пути и теперь разбили лагерь под Лилиенштейном. 23-го наш полк должен был прикрывать обоз с провиантом. А 24-го мы совершили контрмарш и прибыли во тьме и в тумане вообще не поймешь куда. 25-го в самую рань еще продвинулись на четыре мили до Ауссига.2 Тут разбили лагерь и стояли до 29-го, ежедневно отправляясь за фуражом. В этих случаях нас часто атаковали имперские пандуры,3 или же из кустов сыпался вдруг град карабинных пуль, так что немало наших нашло там свою смерть, а еще больше было ранено. Однако стоило только нашим артиллеристам повернуть в сторону кустов пару пушек, неприятель удирал оттуда сломя голову. Такие переделки меня нисколько не смущали. Я к ним скоро привык и только, бывало, подумывал: «Ну, если так дело пойдет и дальше, то это совсем не худо!»
30-го мы опять провели весь день на марше и только к ночи пришли к какой-то горе, а к какой именно — об этом я и мои товарищи знали не больше, чем слепцы. Был получен приказ палаток не разбивать и оружия не снимать, но держать его заряженным, поскольку неприятель находится поблизости. Наконец в предрассветных сумерках мы увидали внизу, на равнине, яркие вспышки и услыхали стрельбу.
Этой недоброй ночью много народа дезертировало и в том числе братец Бахман. Мое же время, видно, еще не настало, хотя, в общем-то, до сих пор мне везло.
LV. Сражение при Лозовице (1 октября 1756 г.)1
Рано поутру нам приказали построиться и двинуться по узкой долине вниз, в широкий дол. Густой туман мешал видеть что-либо впереди. Спустившись на равнину и присоединившись к крупной армии, мы двинулись дальше тремя линиями и увидали вдалеке сквозь туман, как через кисейную завесу, на равнине, повыше чешского городка Ловозица, неприятельские войска. Это была имперская кавалерия.2 Пехоты не было видно, так как она сидела за шанцами3 у вышеназванного городка.
В шесть часов артиллерия с нашей передовой линии и имперские батареи загрохотали так неистово, что ядра стали с шипением долетать до нашего полка (что стоял в средней колонне).
До той поры я не терял надежды избежать участия в баталии. Теперь же не было путей для бегства ни спереди, ни сзади меня, ни по правую руку, ни по левую. А мы тем временем продолжали наступать. И тут душа у меня совсем в пятки ушла. Хотелось хоть в землю зарыться, и такой же ужас и смертельную бледность можно было заметить на лицах у всех, даже у тех, кто в обычное время притворялся отменно храбрым. Положенные нам фляжки со спиртным (какие имеются у каждого солдата) то и дело порхали в воздухе под пулями; многие опорожняли свой скудный запас до дна, ибо, как у нас говорилось: «Надо нынче подкрепиться, завтра может не сгодиться!»
Мы продвинулись вперед под самые пушки, где должны были сменить первую линию. Боже ты мой! Как свистали над нашими головами куски железа и втыкались в землю то впереди, то позади нас, так что каменья и дерн летели высоко в воздух, — а то и попадали прямо в наши ряды, вырывая из них людей, как траву.
Прямо перед собою, вблизи, видели мы одну лишь неприятельскую кавалерию, производившую разные перемещения; то она вытягивалась в линию, то выстраивалась полумесяцем, то снова собиралась вместе, образуя треугольник или четырехугольник.
Но вот подошла и наша кавалерия; мы образовали проход и пропустили ее в поле, для атаки против неприятельской конницы. То-то посыпался град пуль, пошел лязг, и засверкала сталь, когда началась рубка! Но не прошло и четверти часа, как наша конница помчалась вспять, побитая австрийцами и преследуемая ими почти до самых наших пушек. Это было зрелище! Одни лошади волокли за собою по земле всадников, застрявших ногою в стремени, другие — собственные внутренности. А мы между тем по-прежнему стояли под огнем неприятельских орудий почти до одиннадцати часов, и наш левый фланг так и не пустил в ход ружей, тогда как на правом завязалось уже весьма жаркое дело. Многие считали, что нам прикажут штурмовать имперские шанцы.
Мне было уже не так страшно, как поначалу, хотя «полевые змеи»4 то и дело выметали людей справа и слева от меня, и вал был уже густо усеян убитыми и ранеными, — как вдруг около двенадцати пришел приказ нашему полку вместе в двумя другими (кажется, с бевернцами5 и калькштейнцами) отступить.
Ну, подумали мы, наконец-то идем обратно в лагерь, и всякая опасность миновала. Поэтому мы поспешили бодрым шагом наверх, по крутым виноградникам, набирая по пути полные кивера прекрасных розовых гроздий и уписывая их в полное свое удовольствие. И ни меня, ни тех, кто шел рядом, ничуть не тревожило то, что с высоты нам были видны наши товарищи, все еще стоявшие среди огня и дыма, был слышен страшный грохот сражения, и мы не могли взять в толк, на чьей стороне победа.
А наши командиры между тем направляли нас все выше в гору, на вершине которой имелся узкий проход между скалами, переходивший на другой стороне опять в спуск. Но едва только наш авангард достиг упомянутой вершины, разразился страшнейший мушкетный град,6 и лишь тогда мы сообразили, в чем вся штука.
Несколько тысяч имперских пандуров были посланы на эту же гору с противоположной стороны, с тем чтобы атаковать нашу армию с тыла. Об этом донесли, вероятно, нашим командирам, и нам было предписано упредить их. Опоздай мы еще на несколько минут, — они перехватили бы у нас высоту, и мы остались бы с носом.
И вот началась неописуемая кровавая баня, прежде чем нам удалось вытеснить пандуров из рощи на горе. Передние наши ряды сильно страдали, однако задние карабкались за ними изо всех сил, пока наконец все не очутились на вершине. Приходилось перебираться через груды мертвых и раненых. А затем мы кувырком покатились вместе с пандурами вниз по виноградникам на равнину, перескакивая ограду за оградою. Наши природные пруссаки и бранденбуржцы набрасывались на пандуров, как фурии.7 Даже и я от бега и жары словно потерял разум и, начисто позабыв о всяком страхе и ужасе, выпалил единым духом все свои шестьдесят зарядов, так что мое ружье едва не раскалилось, и мне пришлось волочить его за ремень. Все же не думаю, что я задел хоть одну живую душу, все у меня ушло в белый свет.
На равнине у реки, перед городком Ловозицем, пандуры снова закрепились и стали усердно палить вверх по виноградникам, так что многие люди передо мною и рядом падали, как подкошенные. Пруссаки и пандуры лежали всюду вперемешку, и стоило кому-нибудь из этих последних вдруг зашевелиться, — он тут же получал по голове ружейным стволом или втыкали в него штык.
А на равнине сражение развернулось снова. Но кто сможет описать его, тем более что со стороны Ловозица несло дым и пар и все кругом трещало и грохотало, как будто раскалывались небо и земля, и уши глохли от непрерывной дроби сотен барабанов, от надрывной и призывной военной музыки всякого рода, от криков множества командиров и ругани их адъютантов, от воплей и воя тысяч и тысяч несчастных — раздавленных, полумертвых жертв этого дня!
В это самое время — было, наверное, около трех часов пополудни, — когда весь Ловозиц уже стоял в пламени, и сотни пандуров, на которых вновь, как дикие львы, ринулись наши передовые войска, стали прыгать в реку, когда сражение перекинулось в самый городок, — в это самое время я находился, правда, не в первых рядах, а как раз еще в виноградниках, на спуске, среди отставших, из которых многие, как я уже говорил, перепрыгивали ограду за оградой гораздо бодрее, чем я, чтобы поспеть к товарищам на подмогу. Поскольку я оставался еще несколько выше, на склоне горы, я мог сверху оглядеть равнину, на которой как будто бушевала сплошная темная буря с градом, — в этот самый миг мне подумалось, что время пришло, или, скорее, это мой ангел-хранитель надоумил меня искать спасения в бегстве.
С большим вниманием я огляделся. Впереди — сплошной огонь, дым и гарь; сзади меня немало задержавшихся войск, спешащих в сторону неприятеля; по правую руку две главные армии в полных боевых порядках. По левую же руку увидел я, наконец-то, виноградники, кусты, перелески, и только кое-где виднелись люди — пруссаки, пандуры, гусары, да и из тех больше мертвецов и раненых, чем живых и здоровых. «Туда, туда, в ту сторону, — подумал я, — больше уже такого случая никогда не будет!»
LVI. Как говорится, повезло не в деле ратном, но зато в пути обратном
Сперва я потихоньку подвинулся в левую сторону, через виноградные лозы. Отставшие пруссаки все еще спешили мимо.
— Догоняй, братец, догоняй! — кричали они. — Виктория!
Я не отвечал ни слова, притворяясь, будто легко ранен, а сам понемногу отходил все дальше в сторонку, хотя и не без страха и дрожи. Отойдя настолько, что никто уже не мог меня видеть, я удвоил—утроил—учетверил—упятерил—ушестерил шаги, я рыскал глазами вправо и влево, как зверолов, и — в последний раз в своей жизни — еще лицезрел вдали смерть и убийство. А затем я вовсю пустился галопом мимо рощи, переполненной мертвыми гусарами, пандурами и лошадьми; я понесся сломя голову вниз, в направлении реки, и внезапно очутился перед оврагом. На другом его краю показались в это же время несколько имперских солдат, так же как и я сбежавших из сражения, и они трижды прицеливались в меня, несмотря на то что я держал ружье дулом книзу и делал им общепонятные знаки кивером. Однако они не выстрелили ни разу, и я принял решение бежать прямиком к ним. Возьми я иное направление, они, как я потом узнал от них, непременно стали бы в меня стрелять. «Ну, с... дети, — подумал я, — лучше бы вы показали свой кураж при Ловозице!»
Когда я добежал до них и сообщил, что дезертировал, они отобрали у меня ружье, пообещав его со временем возвратить. Однако тот самый, кто им завладел, весьма скоро испарился, прихватив с собою и ружьецо. Ну, да Бог с ним!
Потом они привели меня в ближайшую деревню — Шенизекк1 (до которой был, наверное, добрый час ходьбы от Ловозица вниз по реке). Здесь находилась переправа, но для перевоза была приспособлена всего одна лодка. В воздухе стоял вопль мужчин, женщин и детей. Каждый старался первым попасть на борт из страха перед пруссаками, так как всем представлялось, что они уже тут как тут. Да и я был не из последних, прыгнув прямо в толпу женщин. Если бы лодочник не вытолкнул нескольких из них вон, мы вполне могли бы потонуть.
На другом берегу стоял патруль пандуров. Мои спутники отвели меня прямо туда, и эти рыжие усачи встретили меня самым обходительным образом. Хотя ни я их, ни они меня совершенно не понимали, они снабдили меня табаком и водкой, а также провожатым, кажется, до Лейтмерица,2 где я и заночевал среди сплошных богемцев,3 не будучи в уверенности, можно ли здесь без опасения преклонить голову, однако — и это было к лучшему — после безумия этого дня голова моя до того шла кругом, что последний пункт заботил меня менее всего.
На следующее утро (2-го октября) отправился я с воинским обозом в главный имперский лагерь, в Будин.4 Там я нашел до двухсот других прусских дезертиров, каждый из которых прошел, так сказать, свой собственный путь на свой страх и риск. Среди них объявился и наш Бахман. Мы так и подпрыгнули оба от радости, что вот так неожиданно снова обрели свободу! Что за рассказы и возгласы тут пошли, словно бы мы уже сидим у себя дома за печкою. То и дело мы повторяли:
— Если бы еще и Шерер из Вейля5 был с нами! Где-то он теперь!
Нам позволили все в лагере осмотреть. Офицеры и солдаты обступали нас толпами, и нам приходилось рассказывать им даже больше того, что мы сами знали. Кое-кто из наших быстро почуял, куда ветер дует, и, чтобы подладиться к нынешним нашим хозяевам, врал без устали о слабости пруссаков. Да и среди имперцев нашлось немало лгунов; какой-нибудь самый маленький коротышка принимался хвалиться, что обратил в бегство Бог знает сколько бранденбуржцев, в то время как он сам улепетывал.
Нас привели к пленным из прусской кавалерии, которых насчитывалось с полсотни. Печальное зрелище! Мало кто из них избежал ран или увечий; у кого было все лицо разрублено, у кого — затылок, у тех — уши, у этих — плечи, икры и т.д. Какие слышались стоны и вскрики! Как завидовали нам эти бедняги, что нам посчастливилось избежать подобной судьбы, и как сами мы благодарили за это Бога!
После того как мы переночевали в лагере, каждый из нас получил по дукату на дорогу. С кавалерийским обозом нас — около двухсот человек — направили в одну богемскую деревню, откуда после краткой ночевки мы двинулись на следующий день в Прагу. Там, получив подорожные паспорта, мы разделились на партии по шесть, десять, самое большее — двенадцать человек, которым предстоял один и тот же путь, так как мы представляли собой самую невероятную смесь из швейцарцев, швабов, саксонцев, баварцев, тирольцев, итальянцев, французов, поляков и турок.6
Мы шестеро получили такую подорожную, одну на всех, до Регенсбурга. В самой Праге тоже тогда распространились невообразимые страх и дрожь перед пруссаками. Там в это время узнали об исходе сражения при Ловозице, и им казалось, что победитель уже подступает к городским воротам. И снова солдаты и горожане толпами окружали нас, желая разузнать, что именно намерен делать пруссак. Некоторые из наших пытались успокоить этих трусивших любопытных, другие же, напротив, находили удовольствие в том, чтобы постращать их как следует, уверяя, что неприятель будет здесь, ну, самое позднее — через четыре дня и что он обозлен, как черт. Многие хватались после этого за голову, а женщины и дети даже валились с плачем в дорожную грязь.
LVII. Домой! Домой! Только домой!
Наконец 5-го октября начали мы наш теперь уже настоящий путь домой. Был уже вечерний час, когда вышли мы из Праги. Вскоре мы поднялись на возвышенность, откуда нам открылся неповторимый вид на всю прекрасную, царственную Прагу. Ясное солнышко золотило одетые металлом шпили ее бесчисленных башен, так что душа радовалась. Мы немного постояли там, разговаривая о том, о сем и любуясь этой величественной картиной. Одни жалели, что такой чудный город может пострадать от пушечной бомбардировки, другие были бы не прочь оказаться там — особенно во время его разграбления. Я же не мог досыта на него наглядеться; но все мои помыслы все-таки устремлялись домой, к своим, к Аннели.1
В тот же день мы еще поспели в Шибрак, а 6-го добрались до Пильзена.2 Там у трактирщика была дочка, самая красивая девушка, какую я только видывал в своей жизни. Товарищ мой Бахман вздумал было за нею приударить, и почти что ради нее мы провели там целый день. Однако хозяин трактира растолковал Бахману, что дочь его — это не какая-нибудь там берлинка!
С 8-го по 12-е мы шли через Штааб, Ленш, Кетц, Кин и т.д., держа направление на Регенсбург,3 где сделали вторую остановку. До той поры мы двигались короткими дневными переходами в две-три мили,4 зато пировали подолгу. Моя сумма в один дукат, выданная на дорогу, сделалась тоненькой, как древесный листик, а кроме нее — в кармане ни геллера, так что пришлось просить пардону5 по деревням. Удавалось подчас набить оба кармана ломтями хлеба, но не получить ни единого геллера монетой.
Бахман же сберег кое-что из дорожных денег, заглядывал в кабаки и ни в чем себе не отказывал. Но он заходил вместе с нами и в дворянские усадьбы, и к сельским священникам, и в монастыри. Нам случалось простаивать на ногах по получасу, повествуя о своих злоключениях. Это особенно злило Бахмана по той причине, что за весь рассказ о сражении, в котором он не участвовал, нам перепадала лишь пара пфеннигов. Он всегда врал слушателям, что тоже был при Ловозице, и мне еще приходилось помогать ему, «причесывая» эту ложь, дабы она выглядела правдоподобнее, за что он, впрочем, за все время путешествия не поставил мне и кружки пива. В монастырях, однако, кормили супом, а то и мясом.
В Регенсбурге, вернее сказать — в «Баварском подворье», наша компания опять разделилась. Бахман и я получили подорожную до Швейцарии. Остальные — баварец, двое швабов и француз, — о которых ничего не могу сообщить, кроме того, что все четверо были крепкие ребята и намного ловчее нас, недотеп, — пошли каждый своей дорогой. Наша дорога вела нас с 14-го по 24-е октября, — не считая мелких селений, — через Ингольштадт, Донауверт, Диллинген, Буксгейм, Ванген, Гогентвиль, Брегенц, Рейнекк, Рошах6 (40 миль).
Недалеко от Рейнекка случилось со мною одно невеселое происшествие. До этого времени мы обходились друг с другом вполне по-братски, в добром настроении обсуждая наше удачное бегство, прежнюю и нынешнюю судьбу и виды на будущее. Бахман, у которого еще и раньше чуть ли не каждый день на языке были гончие да зайцы, купил себе, едва только мы покинули Прагу, охотничье ружье, бывшее теперь постоянно при нем. Его вечные разглагольствования о травлях и облавах мне уже порядком надоели, когда мы, как уже говорилось, спускаясь к Рейнекку, услыхали в виноградниках лай охотничьих собак. Мой шут гороховый принялся только что не кувыркаться от восторга, уверяя меня, что это — разрази его гром! — старые его знакомцы и что он узнает их по лаю. Я его высмеял. В ответ он разозлился, велел мне замереть и прислушаться к сей приятной музыке. Тут я и вовсе расхохотался и даже ногами притопнул. Вот этого-то и не стоило делать. Разъяренный, он ринулся ко мне, весь кипя, и со скрежетом зубовным приставил к моему лбу заряженное ружье, словно собирался в тот же миг убить меня на месте. Я перепугался. Он был вооружен, я — нет, но даже и без этого, если бы он и не обозлился, думаю, что я вряд ли сумел бы сладить с ним, таким диким и здоровенным парнем — почти на два дюйма выше меня.
Уж и не знаю — от храбрости или со страху, но стоял я против него, не шевелясь, а сам косил глазами по сторонам, — не увижу ли кого-нибудь, кого можно позвать на помощь. Однако дело происходило в безлюдном месте, на общинных угодьях, — и не видать было ни души.
— Брось дурить! — сказал я ему тогда. — Что, ты разве шуток не понимаешь?
После этих слов ярость его немного поутихла. Мы молча отправились далее, и я был рад, когда мало-помалу мы добрались до городка Рейнекка. Но тут он снова принялся допекать меня — на сей раз из-за талера, который я занял у него в пути. Часто приходило мне потом в голову, что ничтожная та монета, пожалуй, спасла мне жизнь.
И с этой минуты всякая доверительность между нами исчезла. Тем не менее никогда в жизни я не пытался ему мстить, хотя удобных случаев было немало. А мой отец охотно возвратил ему этот талер, когда через несколько дней после моего возвращения Бахман заявился в наш дом.
Мы дошли потом еще до Рошаха, и на другой день (25-го октября) отправились в Геризау, ибо товарищ мой Бахман что-то не спешил,7 и мне стало ясно, что он не будет уверен, стоит ли ему появляться дома, пока не разнюхает, чем там пахнет после разных его прошлых проделок.
LVIII. О, милые мои места родные!
Дальше возиться с этим малым было мне недосуг, потому что, оказавшись в такой близости от родины, я горел нетерпением попасть туда. Итак, 26-го октября рано утром начал я свой самый последний переход и понесся, словно серна, по каменистой дороге, не жалея ног, а картина встречи с родителями, братьями и сестрами и с милой заменяла мне до поры до времени еду и питье.
Когда же я, подходя все ближе и ближе к дорогому моему Ваттвейлю, одолел наконец живописный холм, с которого совсем близко внизу можно было видеть колокольню его церкви, вся душа моя затрепетала, и крупные слезы градом покатились по щекам. «О, желанное мое, благословенное место! Вот я и воротился к тебе, и больше никому и никогда нас не разлучить!» — так повторял я мысленно сто раз, скатываясь что было духу с холма, и не уставал благодарить Божье Провидение, каковое хоть и не чудесным образом, однако с великим тщанием уберегло меня от столь многих опасностей.
На мосту, что перед Ваттвейлем, со мною заговорил старый мой знакомец Гемперле, которому еще до моего ухода была известна моя любовная история. Первыми его словами были:
— Эй! А знаешь, Анна-то твоя уже продана. Кого она осчастливила, так это твоего двоюродного братца Михеля. Имеется уже и ребеночек.
Эта весть пронзила меня до мозга костей, однако перед вестником несчастья я и вида не подал.
— Ладно, чего уж там, — ответил я. — Что было, то прошло!
И вправду, к своему великому удивлению, я быстро успокоился и про себя подумал: «Ну, что ж! Не ждал я такого от нее, но если уж так вышло, — что будешь делать! Пусть милуется со своим Михелем!» И поспешил к своему двору.
Стоял хороший осенний вечер. Войдя в комнату (ни отца, ни матушки не было дома), я быстро понял, что никто из моих братьев и сестер не узнает меня и что их немало напугал небывалый вид что-то им говорившего прусского солдата при полной амуниции — за плечами ранец, на лоб надвинут косматый кивер, густые усы. Младшие затряслись от страха, а старший схватился за вилы... да и был таков. А мне как раз и не хотелось, чтобы меня узнали, пока родители не вернутся.
Наконец пришла матушка. Я попросил у нее ночлега. Она никак не могла решиться: мужа нету дома и т.п. Тут я не мог более сдерживаться, схватил ее за руку и сказал:
— Матушка, а матушка! Разве ты совсем не узнаешь меня?
И какой же разразился громкий крик радости малых и больших, пополам со слезами, потом пошли объятия, ощупывание и оглядывание, вопросы и ответы, и не было предела счастью. Каждый хотел рассказать, чего он только ни делал, чего ни передумал, чтобы возвратить меня домой. Так, например, старшая из моих сестер1 собиралась продать свое воскресное платье и на эти деньги вызволить меня. Между тем появился отец, которого пришлось вызывать из какого-то отдаленного места. У доброго моего батюшки тоже побежали по щекам слезы:
— Ах! Здравствуй, здравствуй, сынок! Слава Богу, что ты воротился здоровым, теперь вся моя поросль снова при мне. И хотя мы люди бедные, потрудимся — и хлеба пока хватит.
Сердце мое разгорелось светлым огнем и ощутило, сколь велико счастье, когда приносишь радость многим, в особенности — родным людям. В тот же вечер я начал свои рассказы и еще несколько вечеров продолжал рассказывать свою историю, не упуская ни единой мелочи. И все время я чувствовал в сердце необычайную радость!
Через несколько дней явился Бахман, получил, как уже говорилось, свой талер и подтвердил мои рассказы. По воскресеньям с утра я начищал все свои бляшки, как в Берлине перед церковным парадом. Все знакомые меня приветствовали, остальные глазели на меня, как будто на какого-нибудь турка. Здоровалась со мною и — не моя теперь, а Михелева, братца двоюродного, — Анна, держась при этом довольно смело и даже не краснея. Я отвечал ей насмешливо и сухо.
Некоторое время спустя я, впрочем, побывал у нее, потому что она просила мне передать, что хочет поговорить со мною наедине. Она стала, было, холодно оправдываться, — что она-де полагала меня утраченным навеки, что Михелю удалось ее провести и прочее. Она даже предложила сделаться моей свахою. Однако я учтиво поблагодарил ее да и ушел.
LIX. Надо с чего-то начинать
Копать не могу, просить стыжусь.1 — Нет! О хлебе насущном я и прежде не заботился, да и теперь не более того. Просто я подумал: «Вот и стал ты опять у своего отца нахлебником; придется тебе заново учиться работать». Но как я заметил, — батюшка мой пребывал относительно меня в некотором замешательстве и, наверное, применял ко мне те слова, что стоят выше, в заглавии, хотя и не произносил их вслух.
И действительно, грязное и опасное ремесло пороховщика было мне совсем не по нутру, ибо этого зелья я нанюхался вдоволь. Меня надо было наново одеть, и мой добрый батюшка старался изо всех сил соорудить мне платье. Всю зиму напролет мне пришлось таскать с гор дрова и чесать хлопок. А по весне 1757 года отец отправил меня варить селитру. Работа была грязная и по большей части тяжелая. Но всегда оставалось достаточно досуга, чтобы уноситься душою вдаль. Мне думалось тогда: «Вот побывал ты в солдатах, а совести не потерял и среди ужаса и нужды знавал и веселые деньки!» Ах, как непостоянно сердце человеческое! Теперь-то как раз и стал я долгими часами так и сяк прикидывать, не пуститься ли снова в путь. Что Франция, что Голландия, что Пьемонт — весь мир, кроме Бранденбурга, открыт передо мною.
Между тем мне предложили место слуги в Доме иоаннитов в Бубиксгейме,2 в Цюрихском кантоне. Я ходил туда разузнавать об условиях, однако то ли там не пришелся ко двору я, то ли — уж не знаю — эти люди не пришлись по вкусу мне. Так и остался я по-прежнему при своей селитре бедняк-бедняком и без гроша в кармане, при том что ведь и мне хотелось порою вместе с другими парнями пустить дым коромыслом.
Отец выделял мне, правда, по временам — на праздник или по другим приличным поводам — по нескольку баценов для моего кошелька, но они быстро утекали сквозь пальцы. Честный наш страстотерпец вынужден был, как всегда, больше тратить, чем зарабатывать, и горести да заботы побелили его голову задолго до срока. Ибо, правду сказать, ни один из его десятерых детей так и не стал для него настоящим помощником. Каждый старался только для себя и, несмотря на это, ничего не умел себе раздобыть. Некоторые из нас были еще слишком малы. Из обоих братьев, следующих за мной по возрасту,3 старший занимался чесаньем хлопка и вносил батюшке столовые деньги, второй помогал ему на пороховой мельнице. А вообще-то, этот добросердечный человек позволял каждому из нас, так сказать, творить что в голову взбредет. Он не скупился на благие наставления и увещевания и много читал нам вслух из разных благочестивых книжек, но тем все и ограничивалось, и его гнева хватало ненадолго. Матушка точно так же относилась к нашим сестрам и была к ним слишком уж снисходительна, полагая, что чему быть, того не миновать.
О, сколь немногим родителям известно подлинное искусство воспитания, и как неосмотрительна юность! Как поздно приходит понимание! У меня оно должно было бы в те времена давно наступить, и я мог бы сделаться надежнейшей опорой для своего отца. Так-то оно так, если бы не были столь притягательны телесные удовольствия! Благих намерений всегда имеется с избытком. Но, как говорится:
Хоть ненавистно мне то зло, что сотворяю, —
Но не творю добра, которого желаю.
Так и топал я всегда мимо своего счастья.
LX. Мысли о женитьбе (1758 г.)
Еще в прошлом году, при своем «патрулировании» окрестностей, встречал я там и сям так называемых «красоток»; и многие из них выражали мне свою сердечную благосклонность, при этом, правда, по большей части не имея ни гроша за душой. «У меня пусто, да у тебя пусто, — рассуждал я, — этого в итоге как-то маловато». Таким неразумным, как на своем двадцатом году, я, понятно, теперь уже не был. Да и отец постоянно твердил нам:
— Мальчуганы, не будьте слишком податливыми! Первым делом глядите в оба. Никаких запретов я вам не ставлю, однако же «кинь дубинку повыше, она и упадет подальше». Из этой пословицы пусть каждый вынесет полезный для себя урок.
Все бы хорошо, но ведь всякая рыба ищет где глубже. Я, к примеру, мечтал хоть малость разбогатеть и считал, что семейное счастье — мой удел, иначе к этому времени я непременно отправился бы ловить удачу в чужие края. Вместе с тем, как ни гордился я своей вышеупомянутой осмотрительностью, скопидомство было не в моем характере. И если бы какая-нибудь девушка была бы мне по сердцу, я бы ее и голенькой за себя взял. Но ни одна мне толком не нравилась так, как нравилась когда-то моя незабвенная Анхен.
Пару раз ходил я на пляски1 с некой Лизхен из К. Девица поначалу чинилась, а потом оказалась на все готовой. Но чувство мое к ней было слишком слабым, хотя я не думаю, что с нею была бы у меня вовсе уж несчастливая жизнь. Но что упало — то пропало.
Вскоре после того я завел знакомство, сам не понимая, как это вышло, с дочерью одной вдовы-католички. Это привлекло в округе некоторое внимание к нам, даром что я лишь раза два с нею прошелся, однажды выпил с нею рюмочку вина и т.п., все это без особых намерений, а главное — безо всякой особенной любви. Моему отцу стали нашептывать, что я собираюсь принять католичество, а матери Марианхен — что дочка переходит к реформатам, тогда как у нас — ни у меня, ни у нее — и в мыслях ничего церковного не было, а тем более, — чтобы поменять веру.
Бедняжка действительно подверглась из-за всего этого чему-то вроде тайной инквизиции, устроенной ей церковью и мирянами. Она рассказывала мне все подробности и была от страха Божьего ни жива, ни мертва. Я же в душе потешался над этой дурацкой вознею. Тем серьезнее воспринял все это мой отец и, проэкзаменовав меня доброжелательно, но строго, взял с меня слово, что я буду твердо, до гроба, стоять на своем вероисповедании, как Лютер или как вождь нашей земли Цвингли.2
У Марианхен дело приняло оборот, еще более серьезный, чем я мог подумать. Эта добрая девушка влюбилась в меня, как котенок, и часто омывала меня своими горькими слезами. Наверное, глупышка готова была бежать со мной хоть на край света, и как ни крепка была в ее сердце вера матери, я склонен думать, что я перевесил бы эту веру на чаше весов. Впрочем, жалость к ней была бы для меня при этом, по-жалуй, важнее, чем всякая любовь. И все же, обдумав дело хорошенько, я решил с ним постепенно покончить — да так и поступил. Пусть упадет слеза сострадания на могилку бедной девушки! Быстро стала она угасать и через несколько месяцев скончалась в вешнем цвете нежной своей юности. Господи, прости мне тяжкое мое прегрешение, если есть на мне вина в сей смерти. И разве я мог бы скрывать это от самого себя!
LXI. Теперь, кажется, пошли дела серьезные
Продолжая заниматься своей селитрою, увидал я однажды девушку с лицом амазонки,1 шедшую мимо. Она очень приглянулась мне, старому пруссаку, а вскоре я заприметил ее и в церкви. Я стал, сперва осторожно и потихоньку, разузнавать о ней, и то, что выяснилось, было для меня довольно подходящим, разве что если исключить один важный пункт, а именно, что она слыла большой злючкой, хотя и не в дурном смысле. И еще поговаривали, будто у нее уже завелся ухажер. Несмотря на все это, я подумал: «Эх, попытка — не пытка!»
Я постарался сблизиться с ней и завести знакомство. Кончилось это тем, что в Эггберге,2 где жила моя Дульсинея,3 купил я себе небольшой участок селитряной почвы и хлев ее папаши, ради нее — по слишком дорогой цене. Это были почти выброшенные на ветер деньги. Уже во время этой сделки я приметил, что ей нравится всем заправлять и командовать, но делала она это с умом, что было мне, в общем-то, приятно.
Теперь у меня имелся повод ежедневно видеть ее, но я еще долго не открывал своих намерений, говоря себе: «Изучим-ка ее сперва получше». И той ее злости, о которой люди мне все уши прожужжали, я в ней не находил. Однако душа девицы на выданье — полные потемки! Как бы то ни было, я забегал к ней все чаще и чаще. В конце концов выложил ей все начистоту и вскоре был извещен, что мое предложение для нее не новость. И все же она продолжала сомневаться, собираясь, по всей вероятности, устроить мне долговременную проверку.
«Хочешь проверить — проверяй!» — решил я, а сам переходил со своим селитряным скарбом с места на место и заводил знакомство с разными другими девицами, которые, по правде говоря, нравились мне даже больше. Тем не менее ни одна из них, пожалуй, не подходила мне так удачно, как эта, — что я наконец уразумел или, может быть, мой добрый гений внушил мне, что не гоже следовать одной лишь чувственности. Однако стоило мне только увидеться со своей красоткою, как у нас тут же начинался спор или обмен словечками, из чего легко можно было заключить, что наши души настроены отнюдь не одинаково. Но даже и такая дисгармония не отвращала меня, и я все больше укреплялся в мысли, что эта женщина сможет принести мне пользу, как больному — лекарство.
Как-то раз она высказалась в том смысле, что ей совсем не нравится мое вонючее ремесло селитровара, которое мне и самому претило. Поэтому она посоветовала мне начать понемногу приторговывать хлопковой пряжей, как делал ее свояк В., у которого это неплохо получалось. Совет показался мне в общем разумным. Но где взять денег? — таков был мой первый и единственный вопрос. Она сама была готова меня ссудить, но этого было мало. Я обратился к отцу. Тот также не имел ничего против и обещал мне сто флоринов, которые надо было еще получить у матушки.
Около этого времени я опасно заболел; глубоко в горле образовался у меня такой нарыв, что я едва не лишился жизни. Кончилось тем, что почтенные доктора Меттлеры, отец и сын,4 вскрыли его каким-то изогнутым инструментом так ловко, что в тот же самый миг я вновь обрел способность глотать и говорить.
1758 год
С марта следующего года я действительно начал скупать хлопковую пряжу. Тогда еще мне приходилось верить прядильщикам на слово, и получалось, что пробные порции обходились мне слишком дорого.5 Со своею пряжей, 5-го апреля, я отправился в первый раз в Санкт-Галлен, и мне удалось сбыть ее с некоторой выгодой. Тогда я закупил у господина Генриха Гартмана6 семьдесят шесть фунтов7 хлопка по два флорина за фунт и стал по всей форме торговцем пряжей, возомнив об этом грошовом промысле Бог знает что.
Около года я продолжал еще попутно заниматься селитрой. А поскольку наличности было у меня немного, я старался пускать ее в оборот почаще и хаживал для этого в Санкт-Галлен, обделывая дела как будто неплохо. Однако всей прибыли набежало в том году не более двенадцати флоринов, но и те казались мне тогда большими деньгами.
LXII. Планы обзавестись собственным домом(1760 г.)
Сделавшись чем-то вроде купца, я посчитал, что теперь-то уж моя милочка не найдет доводов против моего предложения. Но не тут-то было! Лукавое создание пожелало испытать мою преданность другим способом. Ну, и пришлось заняться тем, что и без того входило в мои планы. Как только я однажды со всею серьезностью завел с ней речь о женитьбе, то первый вопрос ее был, — а где же мы станем жить и хозяйствовать? Я принялся перечислять ей разные жилища, какие сдавались тогда внаем.
— Это все не по мне, — отвечала она. — Никогда в жизни не пойду за того, кто не имеет собственного дома!
— И то верно! — согласился я.
И если бы даже не сидело это в моей голове раньше, — попытаться стоило.
С этого времени я разузнавал обо всяком домишке, предлагавшемся на продажу, однако мне не везло. Тогда я решил сам построить себе дом и сообщил об этом своей красавице. Она восприняла это с удовольствием и опять предложила мне денег. И я опять поделился своими планами с отцом. Тот, как и прежде, обещал помогать советом и делом и честно сдержал свое слово.
Я стал присматривать место и купил участок земли приблизительно за сто флоринов, затем — там и сям строительного леса на корню. Несколько еловых стволов я получил в подарок. Я старался изо всех сил — валил лесины, росшие большей частью в ущелье у ручья, и волок их (добрый мой батюшка помогал мне изрядно) сперва на пильню и после этого — к плотникам. Распилка леса и разделка его на доски стоила, однако, денег. Ежедневно приходилось развязывать кошелек, — а ведь это были еще только цветочки. Но пока еще все шло неплохо; торговля пряжею помогала латать дыры. Я прилежно докладывал обо всем своей Дульсинее, и та чаще всего милостиво одобряла мои хлопоты.
Все лето, осень и зиму напролет я заготовлял все, что было нужно, — лес, камень, известь, кирпич и прочее, чтобы следующей весной начать строительство и поскорее ступить на порог со своей молодой хозяюшкой. Помаленьку приторговывая, я, как мог, мастерил, особенно в зимнее время, разную мебель, хозяйственный инвентарь и прочее. Ибо считал, что для дома надобна домашняя утварь, а от моей голубушки много ожидать не приходится, от отца же, которому я теперь вносил, хотя и небольшую, сумму за пропитание, — и того меньше.
Вообще-то, это было, наверное, самое неразумное дело — просто так, в угоду женскому да и собственному суетному желанию, иметь свой дом, — лезть в лабиринт, из которого могут вывести только Бог и случай. Некоторые из соседей ехидно ухмылялись, когда я проходил мимо. Другие были со мною откровеннее и говорили мне прямо в глаза:
— Ульрих, Ульрих! Навряд ли ты выдюжишь!
Но были и такие, кто по большой своей доброте и в меру сил, довольствуясь моим и батюшкиным честным словом, подставляли мне плечо.
В целом же год этот — тысяча семьсот шестьдесят первый — был благословенным и подлинно замечательным годом, по редкостному урожаю плодов земных и по особенной милости — невиданной дешевизне средств пропитания. Фунт хлеба стоил десять пфеннигов, фунт масла — десять крейцеров. Четверть1 яблок, груш и земляных яблок можно было у нас купить за двенадцать крейцеров, одну меру2 вина — за шесть крейцеров, а меру водки — за семь баценов. У всех всего было вдосталь — у богатых и у бедных.
Мои строительные дела могли бы идти в это время весьма неплохо, если бы я разбирался в них получше и тратил бы на них побольше денег и времени.
Итак, год этот пролетел для меня довольно быстро. Со своей красоткой я порою и ссорился, когда она хулила, например, мои привычки и пыталась предписывать, как мне себя вести, а в ответ я — как и нынче это бывает — взрывался. Но глядишь — и нить пряжи пошла сучиться снова, чтобы вскоре опять порваться. Словом, уже и тогда мы были то довольны, то снова недовольны друг другом, — как и по сей день.
LXIII. Наиважнейший год (1761 г.)
После того как я, как уже говорилось, провел всю зиму, готовясь, елико возможно, к своему строительству и до самой весны стаскивая лес на выбранное место, ровно в обещанный день явились мои плотники. Кроме моего брата Георга, которого я тоже нанял и должен был теперь платить отцу еще и за его прокорм, было их семеро, и каждому я платил поденно за еду и работу по семи баценов, мастеру же Гансу Иоргу Бруннеру из Кринау1 — девять баценов. Сверх того я ставил им ежедневно полмеры спиртного и отдельно еще чарку «за порог», чарку «за связку» да чарку «за конек».2
Марта 27-го числа был заложен порог моего домика; стояла отличная погода, продержавшаяся до самой середины апреля, пока работу не прервал густой снегопад. И все же к середине мая, а значит, недель через семь, взяли дом под крышу.
Но перед этим, в конце апреля, судьба сыграла со мною парочку таких злых шуток, что я, который обычно все предоставлял воле небес, хотя те отнюдь не обязаны были щадить мое легкомыслие, — едва не утратил все свое мужество. Словно три или четыре роковые звезды сошлись вместе, чтобы помешать моему строительству. Одной звезде я был обязан тем, что у меня не хватило леса, несмотря на заверения мастера Бруннера, что хватит, и обнаружил он это лишь тогда, когда дело дошло до чердачной светелки. Значит, надо снова отправляться в лес, покупать и валить деревья и таскать их на пильню и на разделку.
Другая роковая Звезда способствовала тому, что во время одной из таких поездок, когда возчик мой с тяжелым бревном проезжал между двумя валунами, а я поспешал рядом, древесный ствол, дернувшись, зацепил мою правую ногу, разорвал башмак и чулок и крепко про-шелся по коже, плоти и кости — да так, что пришлось в довольно плачевном виде добираться домой на единственной лошади и прова-ляться много дней, страдая сильными болями; лишь затем я смог снова приковылять к своим работникам.
Ко всему этому во время моего «поражения» произошли еще две фатальные неудачи. Вот — первая. Совершенно неожиданно для меня один мой земляк, которому я задолжал сто двадцать флоринов, прислал сказать, что намерен нынче же получить долг обратно. Я знал его, как облупленного, и понимал, что ни просьбы, ни уговоры тут не помогут. Стал я прикидывать так и этак, что предпринять. Наконец решил наскрести по углам весь мой запас пряжи, отправить ее в Санкт-Галлен и продать за любую цену. Но, о, горе! Четвертая беда! Посланец мой возвратился, принеся вместо наличных ужасную весть, что вся моя пряжа попала под арест из-за того, что мотки чересчур коротки и что мне надлежит лично явиться в Санкт-Галлен и предстать перед цеховым начальством.3 Что тут было делать! Ни пряжи, ни денег. Буквально ни шиллинга у меня не осталось для моих работников, которые между тем так усердно стучали молотками, словно собирались возвести сам храм Соломонов.4 А тут еще этот безжалостный кредитор! Снова занимать? Если бы! Но кто же мне, бедняге, теперь в долг поверит?
Отец мой видел все эти мои страхи, но Отец мой небесный прозревал намного глубже. Как батюшка, так и я еще не потеряли доверия кредиторов. Однако стоило ли злоупотреблять им? Ах, да что там! Короче говоря, отец поспешил поручиться своим и моим именем и нашел-таки людей, сжалившихся над нами, — людей, а не ростовщиков! Воздай им, Господи, в селениях твоих!
Стоило мне только начать снова прыгать и взяться за дело, как все мои беды, — наверное, слишком быстро — были мною преданы забвению.
Во время моей болезни милочка моя часто меня навещала. Но обо всех других моих роковых звездах я не проговорился ей ни словечком, и мой добрый ангел-хранитель позаботился о том, чтобы она и стороной ничего не узнала; ибо я хорошо видел, что она еще не приняла решения, следя за моим характером и за тем, что получится из всех моих ненадежных предприятий. Наши с ней отношения не были по-этому пока еще слишком доверительными.
В Санкт-Галлене дело обошлось пятнадцатью флоринами неустойки. Едва плотники все сделали, началась кладка печи. Потом настала очередь горшечника, стекольщика, слесаря, столяра, которые сменяли один другого. Особенно последнему я помогал, сколько мог, так что худо-бедно выучился его ремеслу и сэкономил впоследствии не один кровный шиллинг, мастеря кое-что своими руками. Нога моя между тем никак не желала выздоравливать, и мне еще пару лет пришлось поковылять, а то бы все дела шли гораздо быстрее.
Наконец, 17 июня мы с братом обновили дом; с ним одним только пришлось мне вести наше маленькое хозяйство, — так что нам приходилось быть и за хозяина, и за хозяйку, и за работника, и за служанку, и за кашевара, и за ключника — за всех разом. Но в доме недоставало еще многого. Куда ни глянь — почти всюду веселые и согретые солнышком, но пустые углы. То и дело были мы вынуждены развязывать кошелек, а оный был мал и тощ. Мне и до сих пор удивительно, откуда только возникали в нем или, вернее, проникали в него все эти крейцеры, бацены и гульдены. Но, впрочем, в конце концов все прояснилось — обнаружился долг без малого в одну тысячу флоринов. Тысяча гульденов!5 И вот они-то ничуть меня и не волновали?! О, милая, святая беззаботность молодых моих лет!
Минуло уже почти четыре года, как я стал обхаживать свою упрямую девицу, а она — меня, хотя и не с таким усердием. Когда нам, бывало, не случалось видеться, мы с нею каждый день обменивались письмами в рифму и в прозе, причем моя лукавая Дульсинея ухитрялась ловко водить меня за нос. Дело в том, что письма свои она писала обычно стихами, да так славно, что я не шел с ней ни в какое сравнение. Я был очень доволен тем, что имею дело с такой ученою особой, и воображал, что скоро из нее получится отличная стихотворица. Однако в итоге выяснилось, что она не умела ни писать, ни прочесть написанное, а все это за нее проделывал по-приятельски один сосед.
— Ну, милочка, — заявил я ей однажды, — вот и дом наш готов! И мне хотелось бы знать, каковы мои дела.
Она тут же наговорила мне с три короба оправданий. И все же мы в конце концов условились с нею: я дал ей срок до осени. И вот наконец-то в октябре состоялась наша публичная помолвка. И тут как раз (с таким трудом, наверное, даже Рим не строился) удружил мне некий подлый человечишко, предъявив от имени своего братца, служившего в пьемонтском войске, претензии на мою невесту, которые были, впрочем, скоро отвергнуты как безосновательные.
В день поминовения усопших (3 ноября) нас поженили. Господин пастор Зеельматтер6 произнес прекрасную проповедь и соединил наши руки. Так закончилась моя свобода, и начались в тот же самый день раздоры, которые продолжаются по день нынешний. Пришлось мне приспосабливаться, хотя и не особенно этого хотелось и теперь не хочется. И ей пришлось поступить точно так же, хотя ей хотелось этого еще меньше. Что опять скрывать, — к женитьбе подтолкнули меня сугубо житейские соображения, и никогда не питал я к этой женщине той нежной склонности, какую принято именовать любовью. Я все это ясно осознавал, но был уверен и остаюсь до сих пор при сем убеждении, что в тех моих обстоятельствах, в каких я брал ее в жены, я сделал наилучший выбор. Разум мой усматривает, что никто иной не мог быть мне полезнее, как ни вскипает подчас обида на суровую хозяйку моего дома. Словом, одна сторона нрава моей дражайшей половины настолько же раздражает меня, насколько я ценю про себя другую, лучшую, ее сторону. Если мой брак и не относится к числу самых счастливых, то уж, верно, не принадлежит он и к самым несчастным, а скорее, — к умеренно полусчастливым, и никогда я в нем не раскаивался.
Мой брат Якоб женился годом раньше, а самая старшая сестра вышла замуж7 годом позже; и никому из них не повезло так, как мне. Не стоит говорить, что семейство моей жены было намного богаче, чем те семьи, с которыми породнились мои брат и сестра, — все они были одна другой беднее. Брату Якобу пришлось к тому же в голодные семидесятые годы вообще сбежать от жены и детей — на войну.8
LXIV. Смерть и жизнь
Год 1762 запомнился мне особенно из-за 26-го марта и 10-го сентября. В первый из этих дней умер дорогой мой отец, умер внезапной и трагической смертью, о которой я долго не мог вспоминать без боли.
Утром он отправился в лес поискать дров. Под вечер зашла ко мне сестра моя Анна Мария и рассказала со слезами на глазах, что, дескать, батюшка ушел в самую рань, и его все еще нет обратно, и что все они опасаются, не приключилось ли с ним чего дурного, и что надо бы мне пойти поискать его. Собачка его прибегала домой несколько раз и опять убегала.
Меня мороз продрал по коже. Что было сил помчался я к лесу. Собачка бежала впереди и привела меня прямиком к тому, кого я искал, — к нашему отцу. Он сидел около саней, привалясь к елке, его кожаная шапка — у него на коленях, глаза открыты и неподвижны. Мне показалось, — он на меня смотрит. Я позвал:
— Батюшка, батюшка!
Никакого ответа. Душа его уже отлетела. Холодны были застывшие его руки, а один рукав его зимней рубахи висел, полуоторванный, наверное, в предсмертных его муках.
В ужасе и отчаянии стал я звать на помощь, и скоро, услыхав меня, прибежали братья и сестры. Один за другим кидались дети к безжизненному телу. Наши вопли раздавались на весь лес. На его же санях мы привезли его домой, где к нашему плачу присоединились причитания матушки и младших детей. Суп, который ожидал дома доброго нашего батюшку, отдали мальчугану из одного бедного семейства.
За десять дней до этого я в последний раз (о, если бы мне знать, что этот разговор был последним!) беседовал с ним, и он между прочим сказал мне тогда, что ему хочется все глаза выплакать, стоит ему подумать, сколь часто гневил он Господа Бога. О, каким добрым был наш отец, каким заботливым супругом для матушки, какую чистую душу и какого честного человека потеряли в нем все, кто его знал! Упокой, Господи, душу его во веки веков! Трудным было его земное странствие. Бесчисленные несчастья и заботы, недуги, тяжкое бремя долгов и т.п. преследовали его по пятам, сменяя друг друга.
В воскресный день 28 марта большая толпа народа проводила его к месту упокоения, и земля, наша общая мать, приняла его в свое лоно. Господин пастор Бёш из Эбнета1 произнес над ним надгробное слово, послужившее для осиротелых его домашних большим утешением и посвященное неисповедимым путям Господним. Покойному шел пятьдесят четвертый или пятьдесят пятый год.2
О, как часто бывал я потом на том самом месте, где отец мой испустил свой последний вздох! Место это само подсказало мне почти наверняка, как это случилось. Там, где отец спускался, таща за собой возок дров, была крутизна. Снег хорошо выдерживал сани, но отец ступил на рыхлое место, которое мне еще удалось отчетливо разглядеть, и ноги его оказались под полозьями; сани наехали на него и прижали к стволу ели, о который отец ударился грудью — прямо сердцем. Должно быть, некоторое время он был еще жив и пытался высвободиться, отчего и порвал на себе теплую рубаху.
После этой горькой потери свалилась на меня тяжкая ноша. Остались четверо несмышленышей, для которых мне пришлось заступить место отца. Матушка наша стала безразличной ко всему и на все вопросы отвечала только «да, да!» Я делал что мог, хотя и своих забот было у меня предостаточно. Хозяйственные дела взял на себя мой брат Георг. Из тех ста флоринов, которые дал мне когда-то покойный, я погасил его долги. В подвале своего собственного дома я устроил ткацкую, выучился ткать сам и мало-помалу обучил братьев, так что они, в общем-то, могли теперь заработать себе на кусок хлеба. В свою очередь сестры неплохо приноровились прясть «на лоты», а самая младшая выучилась шить.
Первым радостным днем стало для меня 10-е сентября, когда жена моя родила мне сынка, которого я назвал своим именем и именем моего тестя — Ули.3 Его крестными родителями стали господин пастор Зеельматтер и госпожа Гартманша.4 Этот мальчишка был для меня такой радостью, что я не только показывал его тем, кто заходил к нам в дом, но и каждому проходившему мимо знакомому кричал:
— А у меня парнишка!
Правда, я заранее знал, что многие посмеются надо мной, приговаривая про себя:
— Погоди, погоди! Уж этого-то добра еще наберется у тебя вдосталь!
Что и произошло в действительности. Однако в этот первый раз моей доброй женушке пришлось поистине нелегко, много недель провела она в постели. А дитя между тем росло себе и росло, удивительно быстро прибавляя в весе.
В скором времени поведение моих родных привело к возникновению множества мелких и крупных семейных раздоров между мною и моей дражайшей половиной. Последняя, как водится, всегда недолюбливала первых и считала, что я уделяю им слишком много своих мыслей и забот. Мои братцы были, впрочем, изрядные сорванцы, но все-таки они были моими братьями, и мой долг был печься о них. Постепенно, один за другим, отправились они в люди, все, кроме Георга, который взял себе в жены довольно-таки никудышную бабенку. Остальные все, насколько знаю, с Божьего благословения честно зарабатывали свой хлеб.
LXV. Прошло еще три года (1763—1765 гг.)
Медовый месяц моего супружества давно уже миновал, да и меда было в нем, по-моему, мало. Жена моя непременно желала командовать мною в доме, а где много запрещается, там много и нарушается. Стоило мне допустить промашку хоть в чем-нибудь, тут же срывались с цепи все ч... .1 Это порождало во мне горечь и дурное расположение духа и толкало на всяческие пустые предприятия.
Торговля моя шла ни шатко, ни валко. То сосед перебежит мне дорогу и подпортит сделку, то мошенники проведут меня с хлопком и оплатою, поскольку я был весьма легковерным. Возмечтав за пару лет погасить все свои долги, я тем самым воздвиг один из своих самых причудливых воздушных замков. Между тем год от года затраты все росли.
Зимой 63-го года жена родила мне дочку, а anno* 65 — еще одну.2 И захотелось мне, как в детстве, заняться козами, — я тотчас же завел нескольких. Молоко пришлось очень кстати и мне и трем моим малышам, но и возни с козами было много. В другой раз я завел корову, а потом и две их, и три. Я высаживал земляные яблоки и разные овощи, — словом, пробовал делать все, что могло бы нам помочь стать на ноги. И все-таки я все время топтался на месте, не двигаясь ни вперед, ни назад.
LXVI. Два года (1766 и 1767 гг.)
Вообще же эти шестидесятые годы я как-то проморгал, даже и не могу сказать — каким образом, так что в памяти моей они отошли назад еще дальше, чем самые далекие годы моей юности.
Вот лишь кое-что немногое о моем тогдашнем расположении сердца и души.
Не один раз приходилось мне замечать, что в мальчишестве своем я был веселым, легкомысленным малым, не ведавшим ни горя, ни забот. Однако по временам ощущал я также и сильную благую склонность к раскаянию и немало добрых чувств, хотя и делал не более полушага в сторону своего исправления. А ведь срок давным-давно приспел для того, чтобы взяться за ум и начать совсем иную жизнь.
Именно после того как женюсь, я намеревался не более и не менее как решительно отвернуться от мира и отвергнуть плоть свою со всеми ее похотями. Наивный я человек! Какая сумятица и какие борения начались тогда в душе моей!
До женитьбы я воображал, что стоит мне только завести жену, свой домик и осесть в родных местах, как все прочие желания и страсти облетят с моего сердца, как шелуха. Да не тут-то было, разрази меня гром! Как душа бунтовала! Долгое время я использовал каждый миг, который мог выкроить, — и даже тот, который выкроить не мог, — для чтения; хватался за любую книжку, какую только удавалось достать. Покончив со всеми восемью томами in folio2*
Любая, даже самая безобидная радость жизни заставляла мня мучиться сомнениями. Я дошел до того, что стал отказывать себе в удовле-творении обыкновеннейших жизненных потребностей. И тем не менее душа моя была переполнена разной мерзостью и массой самых причудливых желаний, которые заставал я там всякий раз, как набирался смелости заглянуть туда. Я впадал почти в полное отчаяние, чтобы затем снова заступить на свой пост и пытаться поправить дело молитвами, благочестивым чтением, а самое главное — о, я нечестивец! — произнесением нравоучений на манер пастора перед женою и перед братьями и сестрами, чем доводил их до белого каления.
Порою мне казалось, что мой удел — странствовать по свету подобно гернгутерам и «богодухновенным»,3 и проповедовать покаяние. Но когда мне случалось завести свою проповедь, обращаясь к кому-нибудь из своих братьев или сестер, я тут же путался в словах и опять говорил себе: «Дурень ты, дурень! Нет у тебя апостольского дара, а значит, нет и призвания». И вот как-то меня осенило, что лучше, пожалуй, взяться за перо, и я внезапно решился написать книжицу на благо и в утешение если не всего Токкенбурга, то хотя бы родной общины или на худой конец оставить ее моему потомству — вместо фамильного достояния.
LXVII. И еще два года (1768 и 1769 гг.)
Предыдущий 67-й год снова одарил меня мальчуганом. В память моего покойного батюшки я назвал его Иоганнесом.1 Почти в это же время брат мой Самсон упал в Лаубергадене с вишневого дерева и убился насмерть.2
Anno 68 я начал обещанную выше книжицу и одновременно с нею — дневник,3 который веду до сего дня. Сперва в нем было много пустых мечтаний и лишь местами встречалась разумная мысль, все тонуло в обильном пустословии, с которым — N. В.3*
В эти годы моего благочестия мне, в общем-то, быстро опостылело торговать пряжей, потому что, как я представлял, вокруг слишком уж много грубых и бессовестных людишек. Однако — какое заблуждение! Зачем я передоверил свою торговлю жене, а сам принялся за хлопкоткачество? Я посчитал было, что по моим чувствам и нраву мне лучше удастся общение с ткачами, нежели с прядильщиками. Но оказалось, что для моего хозяйства этот шаг был неудачным или по крайней мере получился таковым. Первым делом сам ткацкий станок обошелся недешево, да еще пришлось выложить кругленькую сумму за обучение; а когда дело понемногу пошло на лад — товар закончился. Однако надежда на то, что все еще может перемениться, не покидала меня.
Год 69-й одарил меня третьим сыном.4 Ну, вот! — подумалось мне. — Пришла пора как следует заняться экономией, долгов-то у тебя сейчас ровно столько же, сколько было и вначале, а хозяйство все растет и растет. А ну-ка, быстренько! Руки вон из карманов да подсчитай наличность. Вот теперь все ясно. До сих пор ты то тут, то там достраивал свой домишко, то одного, то другого все еще недоставало, не считая затрат на торговлю и т.д. и т.п. Кроме того, ты потратил уйму времени на чтение, писанину и тому подобное. Нет, нет! Все это теперь — по боку! Оставим мечтания о том, чтобы разбогатеть. Ленивец умирает вместе с помыслами своими — говорит Соломон.5 Вечно учиться — к чему это тебе? Ведь ты все такой же, ни на волос не лучше, чем десять лет назад, когда ты еще читать и писать-то толком не умел. Пришлось тебе, правда, призанять деньжонок, но ты зато тем усерднее трудился и не гнушался никакой работою. Ты теперь знаешь не только свое ремесло, но ведь умеешь же и плотничать, и столярничать, и проч. как мастер своего дела. Делал уже прялки, корыта, сундуки да и гробы дюжинами. Платили за это, впрочем, мало. Как гласит пословица: «Работ девять, а забот десять». Но все-таки кое-что лучше, чем ничего.
Так рассуждал я сам с собою. Однако все зависит не от того, чего тебе хочется и как тебе хлопочется, но от промысла Божьего, от времени и от удачи.
LXVIII. Мой первый голодный год (1770 г.)
Пока я строил разные новые планы и обдумывал проекты жизни, подкатили голодные, как волки, семидесятые годы, и первый из них подкрался совсем неожиданно, аки тать во нощи, как раз тогда, когда все мы надеялись на совсем иные времена.
Надо сказать, что после 1760 года в наших местах не было очень уж богатых урожаев. В 68-м и 69-м годах был полнейший недород, летние месяцы были дождливыми, зимы — холодными и долгими, выпало много снега, так что посевы погнили, и пришлось весною все перепахивать. Этим ловко воспользовались хитрые оптовики — торговцы зерном, и они дали толчок безумному подорожанию. Судить об этом можно по тому, что достать хлеба за деньги можно было всегда, но их-то как раз и не хватало, и даже не у одних только бедняков, но и у людей среднего достатка. В общем, это было золотое времечко для торгашей, хлебников и мельников, многие из которых просто-напросто разбогатели или уж на худой конец сумели припрятать на будущее хорошие деньги. Между тем хлопкопряденье вылетело почти вовсе в трубу, и заработать на нем было почти невозможно, так что многие люди работали за одну еду. Не будь этого, цены на пропитание полезли бы еще выше, и дороговизне не было бы вообще конца. Но перечислять здесь все эти подробности не требуется, тем более что я в достаточной мере и с полнейшей правдивостью сделал это в своем дневнике, — который, как я слышал, уже появился перед читающей публикой,1 — указав там все, что этому времени предшествовало (к примеру, явление комет, багрянец на небесах, землетрясения, ужасные грозы) и все, что за сим последовало (страшные болезни, довольно сильный мор2 и т.п.). Остается мне лишь кратко и правдиво сообщить о собственных своих как хозяйственных, так и душевных обстоятельствах в эти невеселые годы. Ибо хотя в вышеупомянутом «Диариуме»3 и сказано немало словес также и об этом, да не все там верно; есть там немало мест, где я сверх меры болтал о своем беспримерном уповании на Божественный Промысл — и больше всего как раз в те минуты, когда моя вера почти вовсе иссякала. Но я должен и теперь признаться, что упование это, хотя и колебалось временами, все же никогда не рушилось до основания, и почти во всех случаях я находил, что своими самыми тяжкими страданиями я обязан был сам себе, но мною же содеянное зло часто обращалось благодаря милости Божией к моему же благу.
Так, anno 68 и 69, когда два года подряд начисто выбивало градом всю поросль на моей земле, а мне и моим домашним оставалось только в тоске созерцать это разорение, — мог я, однако, благодарить Милосердного за то, что он пощадил жизни наши. И с той поры, при всяком таковом или подобном несчастии, при всяком недостатке пропитания, при всяком стоне и жалобах людских единственными моими словами были: «хуже не будет» или «придут и лучшие времена». Потому что неизменно верить в лучшее и уповать на него — таков был мой обычай или, если хотите, таковым было следствие природного моего легкомыслия. Поэтому я никогда терпеть не мог малодушного брюзжанья, причитанья и метанья моих близких и никак не мог взять в толк — какая польза ждать всегда самого страшного. Однако я совсем удалился от предмета моей истории.
Год семидесятый, о котором я говорил, уже с самой весны предвещал беду. Снег с озимых не сошел даже в мае, так что большая часть посеянного погибла под ним. Все лето мы не теряли надежду хоть на какой-нибудь урожай — до самой молотьбы, однако надежда оказалась обманутой. Я посадил большое поле земляных яблок, но, к сожалению, много их было украдено.
Летом я отдал двух своих коров на чужое пастбище; имелось еще несколько коз, которых пас мой первенец; но из-за отсутствия денег и корма пришлось мне осенью всю эту живность продать. Ибо торговля падала, а цены на овощи и фрукты все росли. Беднягам прядильщикам и ткачам оставалось только брать и брать в долг.
Утешая по возможности своих близких и самого себя своим обычным «Придут и лучшие времена!», я был вынужден тем не менее проглотить немало горьких пилюль, которыми угощала меня подруга жизни за мое прошлое, за беззаботность и легкомыслие, и, надо сказать, что не все из них перенес я с терпением и выдержкой. Хотя совесть моя нередко нашептывала мне: «А она-то ведь права...» Если бы только жена не преподносила мне все это с таким ожесточением.
LXIX. И снова два года! (1771 и 1772 гг.)
И вот наступила суровая зима, самая ужасная из тех, какие я пережил. У меня теперь было пятеро детей и никаких доходов, кроме мизерной выручки от прядения. Но и эта торговлишка иссякала от недели к неделе. У меня имелся довольно большой запас хлопка-сырца, закупленного по высокой цене, и мне ничего не оставалось, как терять на нем, — стану ли я сбывать его в прежнем сыром виде или как полотно. И я продавал полотно, придерживая хлопок, и упрямо утешал себя все той же своей мудростью: «Придут и лучшие времена!»
Но дела шли все хуже и хуже, и так всю зиму. Я же рассуждал следующим образом: «Твое скромное занятие доставляло тебе до сих пор кусок хлеба, хотя тебе не удавалось ничего отложить на черный день. Ты не волен и не вправе опускать руки. Если ты сделаешь это, придется тебе сразу же отдавать все долги, а уж это тебе точно сейчас не по силам».
Во всех других делах везло мне не больше. Мой скудный запас земляных яблок и прочих овощей с моего огорода — то, что оставили мне воры, — был на исходе; приходилось изо дня в день покупать муку прямо у мельничного жернова, что к концу недели обходилось в хо-рошую пригоршню монет, считая только муку грубого помола да черный хлеб. И все-таки я не терял надежду и даже не провел ни одной бессонной ночи, не уставая твердить:
— Небеса позаботятся о нас и устроят все к лучшему!
— Как бы не так! — отвечал на это мой Иов женского рода. — По твоим делам и воздается тебе. Я-то уж ни в чем не виновата. Не надо бы-ло лениться в хорошие времена, бездельник, да почаще совать руки в опару, чем нос — в книги.
Она права, — думал я про себя, — но небеса позаботятся...И не отвечал ей. Однако я не мог допустить, чтобы невинные мои дети страдали от голода, пока у меня есть еще кредит.
Нужда сделалась в ту пору такой ужасной, что немало людей из беднейших едва смогли дождаться весны, когда появилась возможность собирать коренья и травы. Я и сам варил еду из всего этого, полагая, что все же лучше питать свой юный выводок растительностью, чем подражать одному из моих несчастных земляков, который — я видел это собственными глазами — вместе с детишками обкромсал павшую лошадь, набрав мешок мяса, которым до этого уже много дней лакомились собаки и птицы. Еще и теперь дрожь омерзения пробегает по моим жилам, стоит мне только вспомнить эту картину.
При всем том меня волновало не столько собственное мое положение, сколько нужда, в которую впали матушка и мои братья и сестры, еще более бедные, нежели я, и получающие от меня так мало помощи. Из последних сил старался я выручить их, так как у меня сохранился еще кое-какой кредит, тогда как у них не было никакого.
В мае anno 71 некий добросердечный человек помог мне купить опять корову и пару коз, ссудив деньгами до самой осени. Появилось хоть немного молока для детей. Но заработать ничего не удавалось. Все, что перепадало от торговли, уходило на пропитание людям и скотине. Мои должники не платили мне ничего, и, значит, у меня не было возможности удовлетворить кредиторов, и я брал деньги в долг, где только можно.
Наконец бочка была вычерпана, и донышко вылетело. И хотя я все повторял свое «жив Господь! Придут и лучшие времена!», однако кредиторы стали тем не менее напоминать о себе и угрожать мне. То и дело доходили до меня известия о том, что обанкротился то этот, то тот. И были же такие бессердечные люди, что только тем и занимались, что воевали со своими должниками, добиваясь уплаты долгов. Дошла очередь и до моего свояка. У меня тоже были к нему претензии на этот счет, и я пришел на распродажу, правда, скорее для того, чтобы ему помочь, чем из-за того, что он был мне должен.
О, что за душераздирающее зрелище, когда человек стоит перед всеми, как преступник, слушает список своих долгов и грехов, который громко зачитывается, и, принужденный глотать множество горьких упреков, то громогласных, то едва слышных, видит, как идет с молотка за бесценок дом его и все движимое имущество, — все подчистую вплоть до нищенской его постели и одежды, слышит вопли жены и детей и при этом должен быть нем, как рыба. О! это пронизывает до мозга костей! И тем не менее я не мог ни посоветовать им что-либо, ни оказать помощь — ничего не мог, кроме как молить Бога за дитя моей сестры и признаваться себе в глубине сердца: «Да и сам ты сидишь в такой же зловонной луже! Не сегодня-завтра может и должно произойти то же самое и с тобою, если только не произойдет никакой перемены обстоятельств. Но какая там перемена! Если вещи пойдут своим обычным ходом, то спасения мне нет. Ну, может статься, твои кредиторы потерпят еще некоторое время, но в любой миг терпение их может лопнуть. — И однако же, кто знает! Жив Господь Предвечный! Не будет же это длиться бесконечно. — Но ах! Даже если дела пойдут получше, все равно понадобятся годы, чтобы снова прийти в себя. А уж так долго господа мои кредиторы любоваться мною не станут. Ах, Боже мой! Что же мне делать? Ведь я не могу довериться ни одной живой душе — даже от собственной жены вынужден я скрывать свое отчаяние.
Такие мысли мучили меня, заставляя несколько ночей кряду ворочаться с боку на бок. Но однажды, как-то вдруг, я вновь обрел присутствие духа, утешил себя опять упованием на помощь свыше, препоручил судьбу свою небесам и пошел своей дорогой, как и прежде. Бывало, я спрашивал себя, — есть ли доля моей вины в том положении, в каком я теперь оказался. Но ах! как мы склонны сами себя оправдывать в подобных обстоятельствах. Конечно, я не мог упрекнуть себя в подлинном расточительстве или в какой-нибудь нечестности, но все же числились за мною и равнодушие, и легковерие, и неумение вести дела, и проч. Ибо я так и не выучился обходиться с деньгами разумно, что, откровенно говоря, всегда занимало меня лишь в той мере, в какой деньги нужны были на ближайший день. Добавим к сему, что я готов был верить всякому проходимцу, стоило тому дать мне честное слово. Даже и теперь первые же попавшиеся мне правдивые глаза способны выманить последний геллер из моего кошелька. Но самое главное и существенное состояло в том, что ни я, ни жена никак не могли разобраться в торговле, покупая и продавая всегда не вовремя.
Между тем жена моя забеременела и недомогала все лето (1772 года), стыдясь перед целым светом того, что в такие тяжелые времена собралась обзавестись дитятей. Она даже и мне внушила тогда такое же чувство. А осенью, когда по всей нашей округе гуляла красная немочь, не обошла она и нас, поразив для начала дорогого моего первенца.1 Слегши в постель, он отказывался от всего, кроме родниковой воды, — от всякой пищи и питья, и через неделю почил в Бозе. Одному Богу ведомо, что я пережил при этом несчастье. Такой был славный мальчик, я души в нем не чаял, и каково мне было видеть, как он мучается дни и ночи, словно невинный агнец, не зная ни минуты покоя!
В свой смертный час притянул он меня хладеющей уже ручонкою к самому своему личику, поцеловал немеющим ротиком и, тихо плача, прошептал непослушными уже губками:
— Батюшка милый, я так устал. Приходи ко мне поскорее. Я стану теперь ангелочком на небе.
Потом поборолся со смертью и отлетел. Мне казалось, что сердце мое разорвется на части. Горестный плач мой об этой первой в моем доме жертве великого убийцы остался в дневнике.2
Не успели мы похоронить сына, как эта страшная немочь с еще большей яростью набросилась на старшую дочку.3 Это дитя переносило страдания не так стойко, как братик. Короче говоря, болезнь, несмотря на все старания докторов, унесла ее еще быстрее — на восьмом ее году, а мальчика — на девятом. Эта болезнь казалась мне столь отталкивающей, что даже у собственных детей я не мог видеть ее без содрогания. Едва девочка скончалась, — а я был как безумный от ночных бдений, забот и отчаяния, — эта немочь принялась и за мое бренное тело. В эти дни мне и самому сто раз хотелось умереть и отправиться вслед за своими кровиночками. Но все же, уступив настойчивым просьбам жены, я побрел еще своими ногами к господину доктору Вирту.4 Он прописал мне ревеню5 и чего-то еще. Едва добравшись от него до дома, я свалился пластом. Тотчас же начались страшные колики и понос, а лекарство, казалось, еще удваивало боль. Доктор самолично явился ко мне и убедился в телесной моей немощи, — но не в страхе моем. Бог, время и вечность, мои долги духовные и мирские грозно предстали предо мною и окружили мое ложе. Ни минуты сна — смерть и могила — умереть и в таком нечестии — какая мука! Я метался в постели, не зная ни дня, ни ночи, корчился, как червь, однако по старой своей привычке не мог допустить, чтобы хоть одна живая душа поняла, в каком я состоянии. Я возносил мольбы к небесам, и вот тогда впервые взяло меня крепко сомнение, — а слышат ли меня небеса. Явственнее, чем когда-либо прежде, представилась мне полная невозможность выбиться из бедности, даже если мне удастся преодолеть болезнь.
Дочку похоронили, а через пару дней слегли и все трое оставшихся детишек — жертвы, как и я, той же самой напасти. Одной только неутомимой жене моей пока везло. Поскольку она не успевала ухаживать сразу за всеми, на помощь ей пришла ее незамужняя сестра; вообще же, моя жена далеко превзошла меня в мужестве и стойкости. Что касается меня, то несколько дней я — частью из-за телесных муче-ний, частью из-за ужасных мыслей — не мог избавиться от дикого страха, пока не удалось мне в один счастливый момент совершить самое главное — целиком, вкупе со всеми своими делами, препоручить себя милости Божьей. Если до той поры я был довольно капризным пациентом, то теперь я позволял делать с собой что угодно. Жена, ее сестра и господин доктор Вирт не скупились на заботу обо мне. Господь вознаградил их усилия: через восемь дней стал я выздоравливать, да и все трое моих малышей пошли понемногу на поправку.
Когда я еще лежал, явилась как-то под вечер моя свояченица и сообщила, что обе козы сбежали.
— Ну, и Бог с ними! — отвечал я. — Если уж такая наша судьба!
Однако на следующее утро я все-таки поплелся, будучи еще весьма слабым и плохо соображая, на их поиски, и, к моей великой радости и к радости детей, мне удалось их отыскать.
По всему нашему краю распространились тогда мор, глад и горе. Ежедневно хоронили кого-нибудь, нередко по три, четыре, а то и по одиннадцать тел подряд. Оставалось лишь благодарить Господа Бога за милость его ко мне и за то, что он взял к себе двух моих деточек, ко-торым я сам не мог уже ничем помочь. Но долго еще, долго витали передо мной их милые личики, их ненаглядные детские фигурки, как живые.
— О, милые мои детки! — стенал я тогда по многу раз на дню. — Придет ли время, когда и я прилечу к вам? Ведь вы, ах, вы не воротитесь ко мне никогда.
Не одну неделю я бродил, как тень, удивляясь небесам и земле, пытаясь что-то делать, хотя сил почти совсем не было. Надежда на то, что как-нибудь удастся заплатить заимодавцам, становилась все призрачнее и слабее. Стараться жить из кулька в рогожку и держаться как только можно стало единственною моей заботой.
LXX. И еще целых пять лет (1773—1777 гг.)
Так и брел я под бременем долгов, живя между страхом и надеждой, торговал по мелочам и попутно брался за все, что подвернется под руку. Поначалу все опять пошло задом наперед. Орава голодных ртов (поскольку у меня набралась снова целая пятерка ребятишек), траты на еду, одежду, дрова и проч., да еще налоги, будь они неладны, — все это пожирало малый мой доход с лихвой. Одна надежда — пройдет пара лет, и мальчуганы подрастут настолько, что смогут мне помогать.
Будь мои кредиторы людьми злокозненными, — им ничего бы не стоило давным-давно пустить меня по миру. Но нет! они относились ко мне с терпением. Правду сказать, я клал все силы на то, чтобы по возможности держать слово, хотя это вгоняло меня в новые долги, сделанные для погашения прежних.
Самые черные дни календаря приходились на последние недели перед Цурцахской ярмаркой,1 когда приходилось бегать немало часов, чтобы возобновить кредит. О, как сжималось сердце, если в недобрый час я получал у трех или четырех дверей в ответ христианское «Бог подаст!» Я простирал тогда руки к небесам, вознося молитвы Тому, кто обращает сердца по воле своей, умоляя Его обратить к помощи моей хоть одно-единственное сердце. И в тот же час мое сердце получало всегда облегчение, и, в конце концов, понятно, что не без неустанных поисков и толкания в чужие двери находилась-таки добрая душа, подчас в каком-нибудь самом неожиданном укромном уголке.
У меня было несколько знакомцев, которые, уж не знаю сколько раз, выручали меня из беды. И вот боязнь надоесть им окончательно приводила к тому, что в итоге я именно к ним-то и попадал. Однако не сдержи я хоть раз данное им слово, — и этот источник помощи мог иссякнуть для меня навсегда. Поэтому я трепетно пекся о них, как о собственной жизни. Надо сказать, мало кому из моих соседей и близких приятелей приходило в голову, что я сижу по уши в долгах. Зачастую мне удавалось утаивать от них истинное положение вещей, прятать свои горести и заботы от людского глаза, появляясь на людях с видом веселым и довольным. Думаю, что не будь этого чистосердечного притворства, со мною давно уже было бы покончено.
Несмотря ни на что — с трудом верится в это! — у меня находились даже завистники, про которых мне было известно, что всем, кто имеет дело со мною, они нашептывают на ухо то, чего никак знать не могут. Так, про меня болтали, например: «Он уже в трясине с головой. Долго ему не продержаться. Смотрите, как бы он не задал деру, оставив жену и детей ни с чем. Боюсь, боюсь... однако же, ничего не утверждаю... Ежели он не одумается...», и прочие подобные слова. А сами между тем корчили из себя добрых друзей, вынюхивали и выпытывали и такое сочувствие выражали, что можно было подумать, будто они не пожалеют ни денег, ни самой жизни, чтобы меня выручить, если только я им доверюсь. Плакались на худые времена, на дурных работников и проч., любопытствовали насчет того, как это мне удается содержать мою большую семью при таких скудных доходах от торговли и т.д. и т.п.
Как-то раз (не помню уже — для того ли, чтобы подразнить, или по необходимости) я попросил у одного из этих благодетелей полдюжины дублонов всего на месяц. Сей господин привел сразу сто оправданий и в конце концов отказал мне наотрез, а сам стал потом нашептывать всякому, кто подставит ухо, что вот, мол, Б. хотел вчера занять у меня денег. Были, однако, такие, кто говорил:
— Но он же всегда слово свое держал; и пока так будет, мои двери для него открыты. Это — честный человек.
Итак, самые большие хлопоты доставляли мне эти мои многочисленные ложные друзья, с которыми не следовало откровенничать ни в коем случае, если не хочешь окончательно разориться.
Anno 71 или 72 я избавился от ткацкого станка, хотя и не без изрядных потерь для себя. Это тоже произвело не самое лучшее впечатление, так как моя потребность в хлопке стала оттого умереннее, а купец, снабжавший меня оным, стал раздраженным и ворчливым. Он по-требовал скорейшей уплаты старых долгов за хлопок, к чему я теперь был еще менее способен.
Так проходили год за годом. Случалось, что мой добрый ангел нет-нет да и вдохнет в меня на время свежие силы и новую надежду на то, что, может быть, удастся как-нибудь устоять на ногах. Но слишком часто бывало, что я впадал в мрачное настроение, и, говоря по правде, это случалось особенно тогда, когда надо было платить, а я не мог ума приложить, — где взять денег. И вот, не отваживаясь, как я уже не раз говорил, исповедаться никому на свете, я находил в такие часы отчаяния прибежище в чтении и письме. Я одалживал и жадно проглатывал любую книжку, какую только мог достать, в надежде отыскать хоть что-нибудь, что могло бы пролить свет на мои обстоятельства. Полночи промучаюсь, бывает, разными мечтаниями, светлыми и темными, и лишь в том случае более или менее успокаиваюсь, если удается излить на бумаге печали своей души. Письменно пожалуюсь Отцу небесному на свое житье-бытье и пре-поручу ему все дела свои в твердой уверенности, что он поведет меня праведным путем и, ведая жизнь мою до дна, все обернет ко благу. И тогда возникает у меня решимость ждать спокойно грядущих событий, какими бы они ни были. В таком состоянии души отправляюсь я вечером на ложе и почиваю сном праведника.
LXXI. Зерно моего писательства
Около этого времени заглянул ко мне в дом один из членов Морального общества, которое имеется в Л.,1 и как раз тогда, когда я перелистывал историю Бранда и Струэнзе,2 а на столе передо мной были разложены некоторые из моих писаний.
— Вот уж этого я не ожидал у тебя увидеть, — сказал он и полюбопытствовал, нравится ли мне читать нечто в этом роде и писать подобные вещицы.
— Конечно! — отвечал я. — Среди всех прочих моих занятий это единственная моя отрада.
С той поры мы стали друзьями и частенько захаживали друг к другу. Он предоставил в мое распоряжение свое небольшое собрание книг; в хозяйственных же делах он охотнее принимал мою помощь, чем сам помогал мне, несмотря на то, что я обиняком дал ему понять, каковы мои обстоятельства.
Как-то раз в эти годы упомянутое Общество объявило премию за решение ряда вопросов, предложить которое имел право любой житель нашего края. Мой друг принялся уговаривать меня взяться за это дело, да я и сам был весьма не прочь, хотя и возражал ему, что боюсь, как бы это не закончилось тем, что меня, бедного неуча, просто высмеют.
— Ну и что! — отвечал он. — Твое дело рассказать все в простоте душевной, как да что и каково твое мнение.
И вот я возьми да и напиши «О переработке хлопка и о кредитах»3 и отправь свою писанину к условленному сроку, как это сделали и многие другие. И эти ученые господа были столь добры, что присудили мне премию в один дукат. Уж не в насмешку ли? Но нет, право же, нет! Или, может быть, принимая во внимание мои бедственные обстоятельства? Короче говоря, я не знал, что и подумать, и тем был удивлен еще более, что сразу из нескольких мест пришли ко мне приглашения вступить по всей форме в это Общество. «Боже сохрани! — думал я и твердил себе поначалу. — Это уж и вовсе не по мне! Уверен, что мне дадут от ворот поворот. А если даже и не дадут, — зачем ставить таких почтенных господ в неловкое положение? Ведь рано или поздно — все равно они меня выпроводят оттуда».
Однако в конце концов, после больших сомнений и колебаний, в особенности же благодаря настоянию одного из председателей —господина Г.,4 весьма ко мне расположенного, я решился ответить согласием. Могу, впрочем, заверить, что это объяснялось не столько честолюбием, сколько любопытством и желанием за небольшой денежный взнос принять участие в прекрасных ученых собраниях Общества.
Между тем случилось так, как я и предполагал, — дело не вполне обошлось без разного рода сложностей. Некоторые сочлены стали возражать против меня, утверждая — с полным правом — что я-де из бедной семьи, да еще к тому же и беглый солдат, а значит, человек, о котором не знаешь, — что у него на уме, и от которого не приходится ожидать слишком уж много хорошего и т.п. Однако большинством голосов я был все-таки принят. Но именно после этого я стал раскаиваться в своем необдуманном шаге, так как понимал, что те самые господа говорили, собственно, чистейшую правду, да к тому же они еще найдут когда-нибудь повод напомнить мне это. Но что сделано — то сделано, а утешением послужила мне одна не совсем бескорыстная мысль: ведь кто знает, — впоследствии тот или другой член Общества может оказаться полезным для меня в разных важных вещах.
LXXII. И вот...
Теперь я чувствовал удивительную детскую радость от того, что стал как-то причастен к каждой книге из целой их горы, какой я в жизни своей не видывал. И несмотря на это, краска стыда всякий раз заливала меня при одной лишь мысли, что я называюсь и числюсь действительным членом ученого общества, и потому я посещал его редко и как бы тайно.1 Но ничто не помогало: я казался сам себе вороной, вздумавшей летать в утиной стае. Соседи мои и все остальные старинные приятели и знакомцы — словом, одного со мною поля ягоды — стали вообще смотреть на меня косо. То вдруг услышу я ехидный шепоток, то поймаю презрительную усмешку. Ибо нашему Моральному обществу приходилось в Токкенбурге поначалу столь же туго, как и всем подобным ученым предприятиям в непросвещенных землях. Как только ни обзывали их участников, — выскочками, книжными червями, иезуитами и т.п. Можешь легко представить себе, сынок,2 каково у меня-то, бедного простака, было тогда на душе! Женушка моя буквально извергала искры и пламя по моему адресу, много недель не могла утихомириться и относилась с омерзением и ненавистью к любой книжке, особенно, если та принадлежала библиотеке нашего Общества. Однажды мне взбрело со злости в голову, что это никто иной как она подсказала моим заимодавцам, что не худо бы меня как следует припугнуть. Она, правда, отрицает это и сегодня, и Бог мне судья, если я ошибся! Но в те времена я так и считал.
Как бы то ни было, мои гонители стали наседать на меня упорнее, чем когда-либо. Рассуждали они так: коль скоро ты нашел деньги для вступления в общество книгочеев, значит, и мне плати. А если я хотел, бывало, призанять, тотчас же тыкали пальцем в сторону моих ученых коллег. «Ах, ты, непутевая твоя голова! — думал я. — Какой же дурацкий промах ты совершил! Теперь тебе и вовсе крышка! Разве ма-ло было тебе утренней и вечерней молитвы, как всем остальным добрым твоим землякам? И вот теперь ты растерял уже всех своих прежних друзей, а у новых ты вряд ли отважишься и сумеешь попросить взаймы хоть крейцер. Жена твоя к тому же мечет громы и молнии на твою голову. Дурень! Ну, что тебе за польза от чтения и письма! На доход от них не купить тебе, пожалуй, и нищенской сумы для себя и для детей твоих!» и т.п.
Так я горько упрекал сам себя и часто бывал на грани отчаяния. Но иногда я все же отыскивал — в другом кошельке — кое-какие оправ-дания, а именно: «Эй! Да ведь чтение-то это обходится мне считай что даром, и для оплаты его я сэкономил на одежде и на прочем больше, чем нужно. И трачу я на него только часы досуга, когда и так никто не работает, и чаще всего это — ночное время. Верно, что мои мысли и в остальное время немало заняты прочитанным и редко готовы сразу устремиться к моему основному занятию. Однако я ведь ничего не прокутил; выпивал разок-другой самое большее — бутылочку вина, чтобы залить свою печаль. Конечно, лучше было бы этого не делать, — но что за жизнь без вина, а тем паче такая, как моя!»
И снова я начинал винить себя: «Но согласись, — каким бывал ты безалаберным и неумелым во всем, что касается купли-продажи. Из-за твоей нелепейшей доброты ты брал все, что тебе подсовывали, и отдавал любому все, что тот ни попросит, запамятовав, что денежки в твоем кошельке вовсе не твои, а других людей, и что самые что ни на есть честные, как тебе кажется, глаза могут тебя обмануть. Свой товар ты сбывал первому встречному, поверив ему на слово, когда он тебе врал, что платит по совести самую лучшую цену. Вот если бы сейчас начать все с начала! Напрасное желание! Ведь тогда придется идти на все — приступить с угрозами к тем, кто тебе должен, точно так же, как нынче угрожают тебе самому» и т.д.
Так рассуждал я, недотепа, а потом возьми да и впрямь назначь двоим из моих должников день уплаты, — хотя, наверное, больше для того, чтобы нагнать страха на них и на всех остальных, чем для того, чтобы всерьез получить с них деньги. Но они-то отнеслись к делу иначе. И вот, в назначенный день, прихватив с собою оценщиков, я явился к ним домой и — видит Бог! — мне было еще страшнее, чем им. В тот самый миг, когда я ступил на порог первого из них, мне подумалось: «У кого достанет сил сделать это!» Хозяйка, умоляя меня, показывала пальцами на изодранную постель и какие-то жалкие черепки на кухне; ревели детишки, одетые в лохмотья. «О, дай Бог унести ноги!» — подумал я, заплатил оценщикам и судебному приставу и поспешил прочь не солоно хлебавши, хотя мне и было обещано заплатить к такому-то новому сроку, что не выполнено и по сей день.
Позднее, задним числом, я узнал, что за пару часов до моего прихода эти люди попрятали свои лучшие пожитки и намеренно вырядили детей в тряпье. «Бог с ними! — сказал тогда я самому себе. — Никогда в жизни своей не стану больше заниматься этим. Может статься, что и мои собственные заимодавцы однажды обойдутся со мною так же варварски. Нет уж! Пусть лучше все останется как есть; в конце концов, эти долги можно будет причислить к моему денежному состоянию».
Однако моих заимодавцев все это не волновало, а должников такие рассуждения тем более не могли напугать. И первые взялись пре-следовать меня еще упорнее и злее. И все это вкупе с моим раздраженным воображением породило, —…
LXXIII. Увы, немалые соблазны
О них-то я должен кое-что порассказать тебе, сынок! Дабы предостеречь тебя от того, сколь ужасно для честного человека залезать в долги, которые невозможно погасить; семь долгих лет стенать под этим невыносимо тяжким бременем; мучиться от тысячи неисполнимых желаний; в сладких грезах строить воздушные замки и всякий раз в ужасе пробуждаться; долгое, бесконечно долгое время уповать на помощь, существующую только в твоем воображении, или даже втайне надеяться на... некое чудо.
Представь себе бедного сына человеческого, который, смертельно устав от всяческих пустых мечтаний и упований, забот и хлопот, отчаивается вконец и приходит к убеждению, что сам великий Промысл, должно быть, вознамерился растоптать его во прах, превратить его в посмешище для всего света и заставить его на глазах всех его недругов держать ответ за последствия собственной опрометчивости.
А если, как это бывает, появляется у него мысль, что Господь и знать-де его не желает и проч., — тут подумай, хорошенько подумай, сын мой! В таком деле соблазнитель не дремлет; бывало, и у меня появлялось такое чувство, что вот они, его нашептывания, когда я, набегавшись за целый день в тщетных поисках людской поддержки, брел в унынии или, ско-рее, — в полубезумии к своему порогу и обращал застывший свой взор на речной поток внизу, подо мною, туда, где он поглубже, — о, именно тогда мне чудилось, что черный ангел шепчет мне:
— Безумец, да прыгай же вниз! Ведь силы твои исчерпаны. Погляди, как ласковы эти волны! Всего лишь миг — и душа твоя погрузится в них, словно в тихую колыбель, и ты уснешь спокойным сном, тихо, тихо. И не станет для тебя уже ни вопля, ни страдания, и сердце твое упокоится в блаженном забвении на веки вечные.
«О, небо! Если б я мог! — думалось мне тогда. — Но какой же страх, Боже, какой ужас пробегал по членам моим! — Забыть ли мне Твои слова, забыть ли правила своей жизни? Нет! отойди от меня, сатана! Я выстою, я заслужил свое, я все это сам заслужил!»
В другой раз этот враг рода человеческого представил мне орудие смерти молодого Вертера1 с самой привлекательной стороны. «У тебя в десять раз больше причин, чем у него, а он был совсем не дурак, — ведь заслужил же он благодаря всему этому почет себе и славу и покоится ныне в ласковых объятиях смерти. — Заслужить-то он заслужил! Однако — чем? Нет, не нужна мне такая слава!»
А еще однажды тот подсказал мне, что пришел час собирать пожитки и бежать подальше. С остатками моей наличности можно-де было бы в какой-нибудь отдаленной стороне начать жизнь с начала. А жена и дети, Бог даст, найдут себе здесь добросердечных заступников. «Как! Мне — и бежать? Бросить свою суровую, однако верную жену и невинных малышек и доставить этим несказанную радость врагам моим, подтвердив все их домодельные пророчества обо мне? Мне — и все это проделать! Да в каком же уголке земли найду я тогда хоть минуту покоя! Где я укроюсь от червя, грызущего мое сердце и от возмездия Вседержителя? — Нет, нет, совсем не то! — возразил в моей душе другой голос. — Ведь можно забрать с собой и жену с детишками и поискать себе такого места, где не процвело еще хлопкоткачество и где люди были бы не против завести его. Там мог бы ты построить свое счастье. Ты ведь смыслишь и в хлопке-сырце, и в пряже и сам умеешь тот хлопок кардовать,2 чесать, прясть, а потом пряжу парить, тянуть, сучить; ты способен даже соорудить самопрялку с веретеном, а значит, можешь и людей научить всему этому. И тогда, через несколько лет, ты воротишься на родину при почете и деньгах и оплатишь все свои долги вместе с процентами!» Но и тут я быстро одумался: «Что за чепуха! Ах, ты, совратитель! Еще тридцать лет тому назад ты, как и нынче, сулил мне дни безоблачного счастья, рисовал предо мною златые горы — и всегда обманывал, заманивая меня все дальше в безвыходные лабиринты и оставляя в дураках, а теперь еще и вздумал сделать меня мошенником! Как! И мне же придется нанести ущерб родной моей стороне, так-то отплатив ей за ее хлеб! Нет и нет! Здесь, в лоне ее, останусь жить и умру, здесь приму свой жребий, стану трудиться как могу, а на все остальное воля Божья. Может быть, мое положение только представляется мне таким тяжелым? О Боже! Если бы мои грехи тер-зали бы меня так же, как мои долги! Но знаю, что Ты не столь жесток, как люди. И однако же не воспрещай им, — пусть их, я заслужил это. Об одном лишь молю тебя, Всемилостивейший, не попусти врагу человеческому и далее мучить меня, лишая меня достояния моего!» Так черпал я время от времени в себе самом бодрость и мужество. Но это лишь до тех пор, пока не стрясется со мною что-нибудь опять, так что невмочь становится бороться с мыслью, что все пропало и что не выросли еще травы для настойки от зла. Но и тогда — вдруг смотришь, — все это скорее кажется, чем есть на самом деле.
Однажды напрасно набегавшись по заимодавцам в поисках пары гульденов да еще натолкнувшись на бессовестную грубость одного из этих людей, и вообще — в день, когда все складывалось плохо и неудачно, я воротился домой в полном упадке духа и, как всегда, не решился ни рассказать жене обо всем, ни пожаловаться ей, рискуя отведать вдоволь горьких упреков, — в тот день собрался я, как не раз уже бывало, отвести душу с помощью пера, однако ничего с него не вылилось, кроме беспорядочных жалоб, которые граничили уже с бо-гохульством. Тогда я задумал найти покой в чтении хорошей книги. Но и это не удалось мне. Пришлось отправиться в постель, но и там не находил я себе места до самой полуночи; мысли мои метались по всему белу свету. И тут вспомнился мне покойный отец. «Ведь и твоя жизнь, добрый человек, — думалось мне, — прошла так же, как теперь проходит моя, — в сплошном горе и в заботах, кои сам я, своими руками, весьма увеличил сам себе, столь мало разделив с тобой твою ношу. Уж не лежит ли на мне твое тайное проклятие? Это было бы ужасно! Но как бы там ни было, пора принимать последнее решение: либо мою несчастную жизнь... — но нет! О Боже, нет! Это все в руке Твоей... — либо кинуться заимодавцам в ноги, отдав себя на их милость, — но и это... — нет! Это жестоко! Этого я не смогу... — либо же уйти, бежать подальше, куда глаза глядят. Ах, дети мои, дети! Но тогда сердце мое разорвется». И вот, во время всех этих размышлений, вспомнил я вдруг о человеколюбце Лафатере;3 и, тотчас же решившись написать к нему, вскочил с постели и набросал следующее письмо, которое и привожу здесь как памятник тогдашнего моего состояния.
LXXIV. Глубокочтимый, высокомудрый и глубокоученый господин пастор Иоганн Каспар Лафатер!
Среди
невыносимо мучительной для меня ночи осмеливаюсь писать к Вам. Ни одна душа на
свете не ведает об этом, и ни одна душа не ведает о том, как я страдаю. Я знаю
Вас по сочинениям Вашим и по рассказам о Вас. Ежели бы я не был уверен в том,
что Вы — один из лучших и благороднейших людей, то мог бы удовольствоваться
таким ответом, какой обыкновенно дают сильные мира сего, то бишь: «Долой с глаз
моих, бездельник! Что мне до твоих нищенских забот?» Но нет! Я знаю Вас за
человека, преисполненного великодушием и любовью к людям, человека, коего
Провидение избрало, кажется, в истинные наставники и врачеватели нынешнего рода
людского.
Вы
не знаете меня. Потому вкратце поясню сейчас, кто я и что я. О, не отодвигайте
в сторону, умоляю Вас, не дочитав, письмо несчастного токкенбуржца, бедного,
измученного человека, который пишет к Вам дрожащею рукой и отваживается открыть
сердце свое пред тем, к кому испытывает бесконечное доверие. О, выслушайте же
меня, тогда Господь выслушает и Вас! Ему известно, что я не собираюсь ничем
досаждать Вам, но лишь прошу прочесть сии строки и ответить на них Вашим
отеческим советом.
Итак,
я — старший сын одного крайне бедного человека, отца одиннадцати детей. Вырос я
на диких склонах заснеженных гор земли нашей и до своих шестнадцати лет не знал
почти никакого ученья. Только ко святому причастию был я наставлен, да
самоучкой одолел кое-как письменную грамоту, имея к сему великую охоту.
Покойный
отец мой, не сумев справиться с долгами, был вынужден покинуть свой кров и
родные места и вместе со всей своей многочисленной семьей искать пристанища где
придется и где можно было бы найти работу и хоть какой-нибудь жалкий кусок
хлеба для нас. Половина из нас, детей, были еще совсем несмышленышами. До
самого моего девятнадцатилетия свет сей был мне вовсе неизвестен, и как раз
тогда один ловкий обманщик отвел меня в Шафгаузен, с тем чтобы, как он уверял,
найти для меня место господского слуги. Отец мой был этим доволен — я же, сам
того не ведая, был продан прусскому вербовщику, который — надо, впрочем, отдать
ему должное, — держал меня при себе как слугу, пока я не попал в Берлин, где на
меня надели-таки солдатскую лямку, — до сей поры не могу понять, как можно было
так меня обмануть.
В
то время был затеян военный поход. О, как горько раскаялся я тогда в
легкомыслии прошедших золотых моих деньков! Но я вознес молитвы к Господу, и Он
возвратил меня в отечество мое. В первом же сражении, при Ловозице, мне удалось
снова обрести свободу, и я тотчас же отправился домой. В городке Рейнекке
впервые поцеловал я швейцарскую землю и счел себя счастливейшим человеком, хотя
и не принес ничего под родимый кров, кроме пары бранденбургских трехпфенниговых
монет и обтрепанного солдатского мундира на плечах.
Пришлось
мне опять добывать хлеб свой поденной работой, и было это, право же, совсем не
сладко. На двадцать шестом году я женился, взяв за себя девицу с тысячей талеров
приданого. Посчитав себя после этого богачом, начал я подумывать о работе
полегче, при которой не приходилось бы гнуть спину. По совету своей невесты,
взялся я за прядение хлопка и торговлю пряжею, нимало не смысля в сем ремесле.
Поначалу я занял денег, построил собственный домишко и, сам того не заметив,
оказался в долгах.
Моя
мелкая торговля приносила кое-какой доход, однако недобрые люди постоянно обманывали
меня в товаре и плате, а семейство между тем год от года увеличивалось, так что
приход и расход пожирали друг друга.
Тогда
я решил, что дела пойдут, может быть, лучше, когда подрастут сыновья. Но надежды
обманули меня. Настали голодные семидесятые годы, а я и без того сидел уже весь
в долгах. Имея к тому времени уже пятерых ребятишек, я трепыхался, словно кошка
в удавке. Плач детей моих, просивших хлеба, разрывал мне сердце. А тут еще
бедная моя матушка, братья и сестры!
Кое-кто
из моих должников к тому времени дал уже тягу, другие умерли, и вышло, что
деньги мои пошли на похоронный звон. Зато были кредиторы, которые наседали на
меня самым безжалостным образом, а торговля шла что ни день, то хуже. Тут еще
напала на нас кишечная немочь. Двое старших моих умерли, мы, остальные,
поправились. Я же все продолжал уповать на Бога и на то, что наступят лучшие
времена. Но все тщетно! И разве не был я глупцом и не остаюсь ли им и теперь,
как подумаю, что всегда жил лишь одним днем! Разве не сам я виноват во всех
своих бедах? Разве не мое неразумие, не мое легковерие, не моя неодолимая тяга
к чтению и письму — не они ли меня довели до всего этого?
Когда
жена моя упрекает меня, или же я сам предъявляю себе вполне заслуженные мною
обвинения, я прихожу в отчаяние и ночи напролет ворочаюсь в постели без сна,
призывая погибель на свою голову, и любой способ покончить с этой жизнью
представляется мне более терпимым, нежели та крайняя нужда, с какой приходится
мне сталкиваться ежедневно. В глубочайшей тоске тихо выбираюсь я подчас из
дверей моего дома и бросаю взгляд со скал вниз, в пропасть. Боже правый! Если
бы в этом потоке погибла также и душа моя!
Бывало
злой дух зависти нашептывал мне, согласитесь, чистую правду: «Сколь великие
богатства растрачиваются попусту на сей земле! Какие тысячи ставятся на карту и
проигрываются в кости, когда бы одна-единственная из них могла бы вывести тебя
из твоего лабиринта!» А однажды враг человечества подкинул мне мысль собрать
пожитки и бросить все на произвол судьбы. Но нет! Боже сохрани меня от этого!
Да, да — в одной рубахе хотел я пуститься в бега, даже продаться рабом в Алжир,1
только бы спасти здесь свою честь и помочь жене и детишкам. В другой раз стал
шептать мне на ухо, наверное, как я по крайней мере думаю, — более добрый дух:
«Дурень ты, дурень! Не станут небеса творить чудо для тебя одного! Бог создал землю
и всякие блага на ней. Но самым великим из них разве не наделил он трепетное
сердце человеческое? Так ступай же в мир и постарайся найти эти благородные
души. Не им же тебя искать! Открой им свое горе и неразумие, не стыдясь нищеты
своей, и излей пред ними всю свою печаль. Немало есть уже тех, кто получил
помощь, а ведь были они много несчастнее тебя».
Но
как же узнать мне, несведущему и сомневающемуся, как узнать — добрые ли то нашептывания
или дурные? Добродетельнейший человеколюбец! Ради всего святого, дайте мне
совет, скажите, годится ли для меня означен ное средство спасения от полнейшей
погибели. Ах, если бы речь шла только обо мне одном! Но жена моя, мои бедные
невинные дети, — за что им-то сносить вину и позор мужа и отца! А здешнее
Моральное общество, вступить в которое я недавно согласился по своей неосмотрительности,
— неужели и оно так скоро и впервые будет столь немилосердно посрамлено в лице
одного из своих сочленов, о коем и так уже не без оснований судили с предубеждением?!
О,
еще раз прошу ради милосердия Божия, господин Лафатер! Всего один-единственный
отеческий совет! Простите мне мою дерзость! Беда припрет — осмелеешь. Здесь же,
в родных местах, не могу я ни перед кем ни за какие сокровища раскрыть свою
душу. Друзей, которые сумели бы меня выручить, никаких не имею, кроме
одного-двух, которые скорее ждут помощи от меня, чем я от них. Подвергнуться же
осмеянию со стороны разных шапочных приятелей или вообще чужих людей — ну, уж
нет! — да в сто раз лучше мне пойти на крайние меры.
Итак, с огромным нетерпением и детской доверчивостью ожидает хотя бы одной строчки ответа от человека, на которого единственно уповает душа его, последнюю грань нищеты перешедший, бедный и измученный токкенбуржец X... под Л...,2
У.Б.
Осеннего месяца,3 18 дня. Год 1777.
LXXV. И вот еще четыре года (1778—1781 гг.)
Письмо это, сын мой, написанное мной в ту ужасную ночь, я собирался на следующее же утро отослать по назначению. Однако читая и перечитывая его неоднократно, я стал относиться к нему все строже и строже, тем более что, как я узнал мимоходом, доброму человеколюбцу Лафатеру и так уже досаждают всевозможные собиратели пожертвований, попрошайки и составители письменных прошений о вспомоществовании, так что одна только мысль о том, что я умножу собой число сих бесстыдников, мне претила. И вот спрятал я свое писание подальше и с этого часа возложил свои надежды единственно на Бога как на самого могущественного друга моего и надежнейшего спасителя, стал поверять ему все свои горести и препоручил все дела мои, истово молясь — не о ниспослании чуда к моему благу, но лишь о том, чтобы дал он идти всему своим чередом.
Случались у меня, конечно, и впоследствии не раз приступы укоренившегося уже отчаяния, но потом снова что-то происходило, что укрепляло мои надежды. Все силы души и тела тратил я на то, чтобы успешнее осуществить свои маленькие начинания; старался сам повсюду поспевать; ни в коем случае не подавал вида, что горюю, а наоборот, старался всегда выглядеть веселым и довольным жизнью. Своим заимодавцам я давал самые надежные заверения, платил по старым долгам и у других людей делал новые.
В соседней общине Гантершвейль1 я присматривал себе новых прядильщиков — столько, сколько мог отыскать. Год 1778-й особенно прибавил мне бодрости и уверенности. Торговля шла превосходно, и мне стало уже казаться, что близится то время, когда я полностью приду в себя и сброшу с плеч все свое долговое бремя. Но никогда в жизни не забыть мне также и страха, который не переставал в ту пору меня мучить, когда я брел после трудов своих привычною дорогой и приближался к конторе надменного купца или к дверям упрямого заимодавца — каково мне было тогда, сколь часто воздевал я руки к небесам, восклицая:
— Господи, тебе ведомо все на свете! Все сердца в руке твоей! Ты направляешь их, как потоки вод, куда пожелаешь! Ах, повели сему Лавану, чтобы он говорил с Иаковом дружелюбно!2
И Всемилостивый слышал мою мольбу, и я получал ответ более мягкий, чем мог бы ожидать. О, какое это великолепное дело — уповать на Господа и доверчиво приносить ему все мольбы свои! Это я испытал так много раз и так неоспоримо, что вера моя в это тверда, как скала, и ничто в целом мире не сможет поколебать ее.
В начале 1779 года, без всяких хлопот и стараний с моей стороны, мне было предложено наладить ткачество хлопкового полотна для фабриканта не из наших мест, а из Гларуса — Иоганнеса Цвикки.3 Поначалу я отклонил это предложение, потому что до меня некто по фамилии Гроб именно на этом деле как раз и обанкротился. Но после того как меня заверили, что причина его провала была совсем иная, я в конце концов дал себя уговорить и заключил договор точь-в-точь такой же, как и тот человек. И сразу принялся за работу. Мне стали поставлять пряжу, сперва, правда, очень скверную, однако шаг за шагом дело пошло лучше. Большого труда сначала стоило найти и нанять достаточное число прядильщиков и ткачей. Но скоро я сообразил, что хотя это занятие тяжелое и хлопотное, оно дает и кое-какой прибыток.
Anno 80 я значительно расширил свое предприятие и, начав изготовлять полотно за собственный счет, весьма преуспел в этом. Мой кредит стал опять расти день ото дня. Заимодавцы вскоре заприметили, что мои дела принимают совсем иной оборот, и я мог теперь раздобыть денег и товара сколько надо и платил по счетам в срок. Казалось, раз и навсегда выбрался я на твердую почву.
И anno 81 дела шли, в общем, неплохо, а при подведении годовых итогов обнаружилась весомая прибыль. Это побуждало меня то и дело подпрыгивать от радости в моей товарной кладовой. Участь моя представлялась мне просто удивительной, а спасение, надо полагать, — едва ли не чудом. На самом же деле все шло как прежде, так и теперь своим естественным чередом, а удача или неудача зависели частично от моих поступков, которые были в моей власти, а частично от обстоятельств времени, которые не зависели от моей воли.
LXXVI. И еще четыре года (1782—1785 гг.)
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД
Если бы мне вздумалось, как это я проделывал издавна в своих дневниках, рассказать обо всех событиях своей жизни, — каковые одинаковы, в общем-то, у всех земных жителей, — даже только за эти четыре года, то я заполнил бы ими не один том. Того и гляди, пришлось бы мне описывать в самых веселых тонах свое благосостояние, приводя себя и других в такой восторг, что можно подумать, — именно я-то и есть счастливейший из смертных во всем Божьем мире. Или же наоборот, в недобрый час столкнувшись на своем пути с полдюжиною неудач, принялся бы я стенать, словно филин, и рисовать свой жребий такими мрачными красками, что и самому впору поверить, будто нет создания под солнцем несчастнее меня. Обстоятельства мои, однако, за последние несколько лет заметно переменились, а с ними — и взгляд мой на сей предмет. В остальном я как был, так и остался прежним скородумом.
Впрочем, неразумная страсть моя к писанию изрядно поутихла. Вот причины. Во-первых, мои дела чем дальше, тем больше вынуждали меня раскидывать умом и хлопотать. Хозяйственные заботы совсем забивают мне подчас голову и напрочь развеивают все хитроумное сплетение моих авторских замыслов. Второе — парни мои вымахали почти мне уже до плеча, и требуется немало времени и умственных усилий, чтобы удержать их хоть в какой-нибудь узде. В-третьих, моя спутница жизни, по старой своей привычке, не устает оспаривать главенство в доме и делает это иногда с такой энергией, что мне остается спасаться ретирадою, и, случается, — я не могу отыскать ни уголка в маленьком своем доме, где Муза посетила бы меня без помехи пусть даже на несколько минут. А если мне удается в неделю раз уйти из дома на пару часов, то — признаюсь честно — я охотнее отправляюсь на поиски какого-нибудь невинного развлечения, с тем чтобы голову проветрить, чем дома, у конторки моей,1 среди шума и гама, еще более ее горячить. Единственная возможность порадовать себя, которая мне еще остается, — это вкушать по временам, субботним вечерком или по воскресеньям, какую-нибудь славную книжечку, хотя, едва успев дочитать ее, я должен передать ее дальше. А потом опять попадает мне в руки другая такая же — и снова я не могу устоять.
Вот и выходит, что буквально неделями у меня не находится ни минуты, свободной для записей, сколь бы сильными ни были желание и тяга набросать на листках бумаги те или иные мимолетные мысли или переживания. Если же и выпадут невзначай подходящие четверть часика, то куда только деваются лучшие слова, ускользая навсегда. Тут и подумаешь (право же, точно как лиса из басни2): «Да и к чему, в конце-то концов, чернила тратить? Все равно, как ни старайся, никогда в жизни не получится из тебя автор!» По правде говоря, долгими годами я ни о чем таком и думать не думал. Тем более что, почитав какого-нибудь отменного писателя, я потом не мог без отвращения даже взглянуть на свою писанину, да и нынче уверен, что в свои зрелые лета так и не сумею этому выучиться, и, пока глаза еще способны различать хоть строчку, буду по-прежнему всего лишь марать бумагу, царапать черным по белому, не зная, где начать и где закончить, а то и — где точку ставить, а где запятую.
По всем этим причинам я буду краток, как только могу, и прежде всего скажу, что в ту пору мои дела шли что ни год, то лучше, и если бы я тогда превратил весь свой товар и все долги в денежки, то сумел бы удовлетворить всех своих заимодавцев и сделать свою маленькую резиденцию — дом и сад своей полной и неотчуждаемой собственностью.
Единственно лишь летом последнего из названных годов (1785-го), как и очень многие другие люди, богатые и бедные, я пережил довольно тяжкий удар. После известного французского королевского эдикта3 произошел такой внезапный и резкий отток товаров, что при моей мелкой и немудрящей торговле я потерял никак не менее, если не более двухсот флоринов. И с тех самых пор нет никакой надежды на то, что когда-либо еще в наших краях сбыт хлопчатобумажного полотна достигнет прежнего расцвета. Наверное, какие-нибудь торговые тузы сумеют еще заключить выгодные сделки, но такая мелкота, как наш брат, потерявшая весь свой товар, — уж точно не оправится.
Впрочем, мое положение было еще довольно сносным, и будь я в то время склонен к скупости или хотя бы всего лишь к очень осмотрительной бережливости, то и поныне я мог бы считаться, да и в самом деле был бы, так сказать, человеком со средствами. Однако сей талант (обладай я им, я никогда бы, вероятно, не угодил под то долговое бремя, под которым пришлось мне стенать десять или двенадцать лет и которое я наконец-то, слава Богу, сбросил с плеч, потрудившись в поте лица), сей талант, надо признаться, в удел мне не достался и, думаю, так и не достанется в этой земной жизни. Не то чтобы не бывало совсем минут, когда я казнил себя за ненужные траты или за упущенную из-за моей уступчивости прибыль, или когда, особенно в доме своем, жалел о потраченных крейцерах или пфеннигах. Однако стоило мне появиться на людях, где и слово доброе услышишь и услугу какую-нибудь тебе окажут или где можно получить какое-нибудь удовольствие, — тут я зачастую разыгрывал из себя человека, у которого шиллингам да гульденам и счета нет, и не только сотни их, но и тысячи. Так случалось особенно тогда, когда я переживал радость избавления от всех тех господ, которые меня преследовали. Я чувствовал себя так, как себя чувствует тот, кого приговорили, было, к пожизненному заключению или даже поставили уже на эшафот, но внезапно помиловали, и он пускается во все тяжкие. И набил бы я себе шишек без числа, и погряз бы, наверное, в излишествах и прочих пороках от одной лишь радости освобождения, и попал бы в новую, еще более глубокую, яму, если бы не стал на моем пути мой добрый ангел-хранитель с обнаженным мечом, как некогда — пред ослом Валаамовым.4
LXXVII. И что же дальше?
Этого я, право, и сам не знаю. Чем дальше я читаю-перечитываю и обдумываю бестолковые свои россказни, тем меньше я ими доволен. Поэтому и решился я, было, начать свою историю опять сначала, нарядить ее в новые одежды; многое из нее и вовсе выбросить, — то, что представляется мне теперь полнейшим дурачеством; а другое, важное, мимо чего я раньше промчался галопом или что не пришло мне в голову во время первого описания, это, наоборот, прибавить и т.д. Но поскольку, как уже говорилось выше, страсть моя к писанию уменьшилась, пожалуй, на добрых три четверти, так как приходилось с трудом выкраивать для него время, и особенно потому, что все это кончилось бы тем, что написал бы я немногим лучше, я предпочитаю оставить все как есть, считая это, хотя и безвредной, но, как я думаю, также и бесполезной вещью, по крайней мере — для других. Однако с тем чтобы немного упорядочить написанную неразбериху, постараюсь восполнить кое-какие пропуски, поругать сам себя, пока этого не сделали сторонние судьи, и заключить все это описанием нынешнего своего состояния.
LXXVIII. Итак?
Что же еще, как не обозначить себя «я», а не «Я»? Ибо с недавних пор мне стало ясно, что о самом себе следует писать с маленькой буквы. Но что это за мелочь по сравнению с остальными моими недостатками! Впрочем, к некоторому своему оправданию должен заметить, что если я и выучился с грехом пополам письму, то одними лишь собственными силами, без всяких наставников, зато и стал царапать нечто вразумительное только на тридцатом своем году, да и то будучи не в ладах с орфографией и даже по сей день не умея вывести более или менее ровной строки, если бумага не разлинована. Между тем очень прельщают меня так называемый готический шрифт1 и изящные на чертания разных прописных букв, хотя и в этом деле мастер я небольшой. Да уж ладно, будем продолжать по-старому, как умеем.
Начиная писать сию книжицу, чего только я себе не навоображал, — какой славной историей, полной удивительных происшествий, она станет. Что я за дурень! И вместе с тем, — как подумаешь хорошенько, — к чему мне себя корить! Не будет ли это значить, что одна глупость другую догоняет? У меня такое чувство, будто кто-то хочет удержать мою руку. Самоуничижение есть, надо думать, все-таки нечто противоестественное, зато если, испросив прощение, будешь находить в себе первым делом хорошее, — вот что будет естественным. Хочу поэтому от души попросить прощения за то, что был сперва так упоен своей историей, как всякий князь или всякий нищий упоен своей. Или — кому не доводилось часами выслушивать бесконечные истории от какого-нибудь седого мужичка о его житье-бытье и разных похождениях в молодые годы, причем описывает он это с самодовольной улыбочкой, красочно и многословно, не хуже какого-нибудь адвоката, — будь даже этот рассказчик распоследним олухом. При этом он чаще всего вгоняет слушателей в изрядную тоску. Однако терпи, — как аукнется, так и откликнется.
Правда, я, как уже говорилось, собирался писать совсем по-иному; и, едва написав половину, начал смотреть на всю эту невнятицу косо — все казалось мне написанным не так, как должно, и все стояло не на том месте, хотя я и не мог сообразить толком, — как именно надо это делать. Знай я это, я взялся бы за дело с нужного конца, — стал бы, например, переделывать вещь по фасону Генриха Штиллинга.2 «Однако, Боже ты мой, разница-то какая! Штиллинг и я! — думалось мне. — Нет, нет, выбрось это из головы! Даже в тени Штиллинга ты стоять недостоин». Не скрою, мне хотелось бы изобразить себя таким же добрым и набожным, каким был сей благородный муж. Но способен ли я на это, не солгавши? Этого бы мне не хотелось, да и мало бы это помогло. Нет! Бог свидетель, я писал одну только чистейшую правду — о вещах, которые либо сам видел и самолично испытал, либо слыхал о них от надежных людей. Надо признаться, что такой исповеди, как у Руссо,3 в моей истории нет, да и быть не могло. Пусть некоторые думают обо мне лучше, чем я есть по собственному моему соображению. Да и как бы я ни исповедовался, все равно ведь найдутся люди, которые посчитают меня таким скверным, каким мне не стать, слава Богу, за всю свою жизнь. А моему единственному непогрешимому Судие и так известно обо мне все и без моего жизнеописания.
LXXIX. Моя исповедь1
Для того чтобы по крайней мере изложить в более или менее связной форме признания моей исповеди и открыть вашему взору, потомки,2 хотя бы только поверхность души моей, мне хотелось бы сказать вам, что я есть человек, которому пришлось сражаться с бурными страстями во все дни его.
В юные годы и слишком рано пробудились во мне некие природные побуждения. Мальчишки-пастухи и кое-кто из взрослых глупцов по соседству наболтали мне такого, что оставило в душе неизгладимый след, поселили там уйму романтических3 картин и вымыслов, которые невольно овладели мной, почти лишив меня разума и внушая мне поистине смертельный ужас, несмотря на все мое сопротивление и всю борьбу. Ибо как раз в это самое время от отца, из некоторых любимых его книжек, я набрался, как теперь понимаю, преувеличенных представлений о том, что есть незамутненное благочестие и чистота сердца. Мне внушили закон, который надлежало неукоснительно исполнять. Предо мною все время маячили непреодолимые высоты и страшные слова из Нового Завета об отсечении руки и ноги, о вырывании ока4 и т.п.
Сердце мое всегда отличалось весьма сильной чувствительностью. Нередко меня поражало то, что люди, которые намного лучше меня, остаются, как мне кажется, совершенно холодными при том или ином происшествии, при сообщении о каком-либо несчастье, внимая трогательной проповеди, или еще при чем-нибудь подобном.
Вообразите себе тогдашнее мое положение среди суровых, безлюдных, заснеженных гор, вдалеке от людского общества, если не считать оборванных мальчуганов да старых бесстыдников — с одной стороны, а с другой — те уроки мечтательности, которые жадно впитывала моя юная, горячая душа. Прибавьте к этому мой бешеный от природы темперамент и силу воображения, которая ни на минуту не давала мне покоя не только днем, но и ночи напролет и внушала мне такие сновидения, что, даже проснувшись, я все еще обливался холодным потом.
Самым страстным моим желанием (как об этом можно отчасти судить по уже сказанному) было забраться в колючий кустарник на какой-нибудь высокой горе ясным утром или же тихим вечером, когда приходилось мне пасти наших коз, вытащить из-за пазухи ту книжицу, которая давно и повсюду была при мне, и до тех пор читать из нее об обязанностях по отношению к Богу, к родителям, ко всем людям и к самому себе, пока не найдет на меня некое дикое исступление — причем это происходило всякий раз, когда я дочитывал до конца обращение к детям, начинавшееся словами: «Приидите, чада! Преклонимся пред престолом Отца нашего на небеси!»
Тут мой взор неподвижно вперялся в небо, и частые слезы бежали по щекам. Тут готов я был поклясться тысячей клятв на веки веков, что откажусь от всех и вся и последую одному Иисусу.
Исполненный невыразимых чувств, в которых сладость перемешивалась с горечью, брел я после этого дальше со своим стадом, с холма на холм, без устали занятый пугающим меня вопросом: с чего же надлежит начать, дабы удостоится небесной благодати?
— Значит, — рассуждал я сам с собою то вслух, то мысленно, — значит, мне больше нельзя опекать моих козочек? Значит, надо распрощаться с моим щеглом? Значит, и вправду должен я оставить отца и матерь свою? и т.д.
И меня одолевали лютая тоска, сомнения, смертельный страх; я не мог ума приложить, — что мне делать, чего не делать, чему следовать. Так продолжается несколько дней подряд. Потом на некоторое время я отдаюсь мечтам совсем другого рода, но и этим занимаюсь до умопомрачения — строю себе одну, две, а то и три дюжины воздушных замков, каждый вечер разрушая прежние и возводя по нескольку новых. Так продолжалось почти до моего восемнадцатилетия, пока отец не сменил наше место жительства и пока я не очутился, так сказать, в совсем новом мире, где было больше людей и дел и меньше поводов для фантазий.
Но вот здесь-то кое-что из плодов моего детского воображения — и один плод в особенности — стало воплощаться в действительность и меня непосредственно волновать. Однако, к счастью, мои природные застенчивость и стыдливость — или назовите это, как хотите, — спасали меня еще несколько лет, прежде чем я осмелился прикоснуться к одному из сих созданий.
Тогда-то и началась моя история с Анхен, выше мною описанная, как мне представляется, с примесью слишком нежных воспоминаний, — и, повторенная здесь, она снова приводит мне на память сладость тех часов, доставляя мне даже еще больше радости, чем я испытал тогда на самом деле. Думаю, что в этом нет греха, но все-таки это нехорошо, и некий тайный голос напоминает мне: «Седой гуляка! Закажи-ка себе лучше домовину,5 ибо ты смертен».
А та женщина еще жива, пребывая в таком же добром здравии, как и я. И стоит только мне увидать ее — тихая радость рождается в моем сердце, несмотря на то, что, сказать по правде, вся ее привлекательность давно улетучилась. Впрочем, хватит об этом и последуем дальше.
С этого времени я сделался непоседливым и беспокойным подобно Каину. То я выполнял работу поденщика, то переносил из одного места в другое орудия селитроварения для отца. На этих путях я сталкивался с разными людьми, каждый раз — с новыми, и попадал в незнакомые мне прежде местности: и люди и места то вызывали во мне неприязнь, то нравились мне.
В общении я держал себя скверно. Я силился, правда, относиться ко всякому человеку дружелюбно. Но настоящих товарищей имелось у меня немного, да и те были настолько ни на что не похожи, что будь я живописцем, я лучше бы нарисовал их, чем взялся бы описывать словами. Случалось, заводил я знакомство и с девицами, однако ни одна из них не могла заменить мне Анхен. Приятные воспоминания остались лишь о Кетхен да Марихен, хотя дружил я с той и с другой самое малое время. Стоило только попасться на моем пути какой-нибудь особе женского пола, хотя бы даже и миловидной, но державшейся мешок-мешком, да еще и в назойливости превосходящей меня, — как всякая ее прелесть тут же для меня пропадала. И если даже порою, улучив минутку, я заходил чуть дальше, чем принято, то уж наверняка это было между нами в первый и последний раз.
Никогда я не считал себя ни слишком ловким, ни красивым, хотя девицы-жеманницы очень даже меня жаловали, а кое-кто из них бывало не удержится и скажет, что я-де писаный красавчик. Платье мое состояло всего из трех предметов — кожаной шапки, грязной рубахи да пары тиковых штанов. Но несмотря на это, даже и самая разряженная девица не гнушалась кокетничать со мною целыми часами.
В душе я гордился своими победами, не зная даже толком — отчего. Иногда эта любовь действительно согревала мне сердце; в другой раз такая гостья надоедала, и я старался ее развеять — драл горло, посвистывал и распевал хлесткие куплеты, которых много выучил у своих товарищей за короткое время. А не то — забирался в безлюдные места и начинал опять фантазировать, выдумывая себе горы счастья и золотые денечки, но забывая при этом спросить себя — откуда бы им взяться? Ответить на этот вопрос я, конечно же, не сумел бы. Ибо, если уж на то пошло, был я тогда олухом и ротозеем, у которого не нашлось бы и на унцию ума в голове, равно как и толковых знаний, хотя бойко болтать обо всем был я мастер. А то, что все ко мне хорошо относились, и в особенности прекрасный пол, происходило единственно от того, что я умел сразу и довольно удачно находить тон, который годился для данного случая и, как утверждали мои нимфы, так меня красил.
И опять — о следующем акте моей жизни.
Когда вскоре после того судьба привела меня на солдатскую службу, и прежде всего за те шесть месяцев, что я провел в разъездах с вербовщиком, невозможно описать, насколько глубоко одурманила меня суета мирская. Впрочем, даже развлекаясь напропалую, я не забывал возносить Господу утренние и вечерние молитвы и письменно назидать братьев и сестер. Дело этим, правда, и ограничивалось, и много ли радости было от этого на небесах, — сомневаюсь. Но кто знает! Ведь даже и краткая молитва не раз укрепила, наверное, во мне благие намерения, которые, не будь ее, развеялись бы в прах, и удержала меня от приступов буйного разгула, каковых, слава Богу, припомнить не могу.
Взять, к примеру, мою постоянную охоту заводить знакомство с красивыми девицами, — никогда за все мои скитания и военные походы я не решился обмануть хотя бы одну из них, между тем как соблазн бывал куда как велик. Право же, совесть моя уж так усердно хлопотала об этом, что много раз потом я ругательски ругал себя за трусость, ждал, когда опять представится удобный повод и т.п. Но стоило только обстоятельствам опять сложиться так, что удача сама шла в руки, тут снова ужас пронизывал меня до самого нутра, и я отделывался любезными словами от своего милого предмета или потихоньку ретировался. На всем нашем пути до самого Берлина ни в одной деревушке не потерял я чистоты своей. Да и в этом большом городе не завел шашней ни с одной из простых его жительниц. Зато не стану скрывать, что мое необузданное воображение обращалось пару раз к дамам и барышням из хорошего общества. Но в каждом случае на моем пути вовремя возникали изрядные препоны. Соблазн рассеивался, и снова пробуждались здравый смысл и способность соображать.
Во время моей военной кампании и путешествия на родину я опять же пальцем не тронул ни одной женщины. Совести моей не в чем упрекнуть меня, если иметь в виду всю историю моего дезертирства. «Кто клясться принуждает, тот Бога искушает!» — считал я. А та церемония, в которой я принимал участие (так мне по крайней мере кажется), вряд ли могла сойти за присягу.
Воротившись в свое отечество, я сразу же обратился к прежнему образу жизни. И опять завелись у меня знакомства среди девиц. Анна, сердечная моя подружка, была уже, правда, занята. Но быстро отыскались другие, и в немалом количестве, такие, которым был я не противен. Моя внешность стала приятнее. Походка утратила былую неуклюжесть, держался я теперь прямо. Военная форма — все мое достояние, красивая прическа, которую я наловчился делать, придавали мне такой вид, что деревенские простушки только глаза таращили. Что касается девушек из зажиточных семей, то они — что верно, то верно! — не удостаивали даже взглядом какого-то там жалкого беглого солдата. Иначе бы матери повыбили из них дурь. И все-таки, будь я чуть сообразительнее и ловчее, мне повезло бы с одной довольно богатой Розиною, как это стало мне известно, увы, задним числом. Тем не менее даже сия неудачная попытка немало прибавила мне смелости и самоуверенности, — ведь попади я в яблочко, оно принесло бы мне целую тысячу гульденов.
С того времени стал я поглядывать на свои прежние любовные истории несколько свысока и задрал нос покруче. Но мой пустой и легкомысленный нрав всякий раз подводил меня. С девичьим племенем одного со мною сословия обхождение мое было, прости Господи, вполне вольным. Но как только я нацеливался на таких девиц, что стояли повыше меня, тут-то и вступала в действие моя робость — и это мешало мне больше всего. Ибо кому не известно, что даже самый неотесанный мужлан, если только он смел и напорист, обязательно добьется своего. А лезть из кожи — клясться, умолять, воздыхать и убиваться — так действовать я не умел.
Однажды я отправился в Геризау, на общинный праздник. Матушка сунула мне все свои малые сбережения — что-то около шести флоринов. Одному моему знакомому из аппенцелльских краев очень уж хотелось, когда мы были в Трогене,6 где собралась большая компания, навязать мне некую Урзель, которая мне совсем не понравилась. Поэтому я постарался отделаться от нее как можно скорее. Это мне удалось проделать на обратном пути в Геризау, когда она затерялась в большой толпе — или, скорее, сам я затерялся, спасаясь от нее.
Молодого народа собралось очень много. В наступающих сумерках парни и девушки сбились поплотнее и разделились на пары. И тут я вдруг увидел несказанно красивую девушку, чистая кровь с молоком. Она шла с двумя подружками. Я протянул ей руку, она ухватилась за нее своими обеими, и вскоре мы уже шли рука в руке in dulci Jubilo4* среди песен и шуток. Когда мы достигли Геризау, я вознамерился проводить ее до дома.
— Нет, нет, упаси Боже! — воскликнула она. — Этого никак нельзя, ни в коем случае! Ну, разве что после ужина я забегу на минутку в «Лебедь».
Такой план мне, конечно, понравился. Я еще не знал тогда, кто она такая, эта моя милочка, и только в кабачке мне объяснили, что она — из зажиточного купеческого семейства и что ей около шестнадцати.
Прошло с час времени, и милое создание появилось — Кетхен было имя ее — с прелестным ребенком на руках, своей сестричкой (иначе ей было не уйти из дома), и в этот самый миг в кабачок вошла эта кислая уксусница Урзель, тоже по мою душу. Она все тотчас же раскусила, обругала меня и удалилась. Хозяин тут же отвел для нас отдельную комнатку. Кетхен — туда, а за ней, как молния, и я. Я заказал знатный ужин. И вот я и эта расчудесная девушка — мы совсем, совсем одни. Как много значит это короткое слово! Если бы длилось оно дни и дни, а не те два или три часа, которые промелькнули, как мгновения! Тем не менее и стены той комнаты, и дитя, что сидело у Кетхен на коленях, и звезды небесные — все они да будут свидетелями того, что наши отношения были теплы и нежны, — но невинны.
Я пробыл там еще три дня. Мой ангелочек навещал меня по четыре, а то и по пяти раз на дню вместе со своей сестрицею. Кончилось это тем, что наличность у меня вся вышла, — пора была отправляться восвояси. Так и не расставаясь с дитятей, Кетхен проводила меня далеко за городок, хотя и побаивалась родительского гнева. Каково было расставание, — можно себе вообразить. До самого дома ощущал я на своих щеках слезинки милочки моей. Не менее ста раз принимались мы махать — она фартуком,7 а я носовым платком, до тех пор пока мы могли еще разглядеть друг друга. Да простится мне неразумие мое! Ведь были те деньки счастливейшими, а счастье их — невиннейшим в жизни моей. Ибо мой добрый ангел внушил мне к этой милой девушке столько же любви, сколько и уважения, так что я обнимал ее, как отец — свое дитя, и она отвечала мне, как дочь — родителю своему, прижимая меня с нежностью к невинной груди своей и покрывая поцелуями лицо мое. И вот сам я телом своим уже дома, а душа моя всецело занята еще моим золотцем, до которого далеко даже и незабвенной Анхен.
И все-таки не было у меня и в мыслях заполучить когда-нибудь эту девушку в жены. Я постарался совсем изгнать из памяти это происшествие, что мне и удалось. Такая уж моя давняя особенность — то, что сразу производит на меня впечатление, то скоро и забывается, вытесненное новыми предметами.
Но кто бы мог подумать! В один прекрасный вечер барка из Геризау принесла мне письмецо8 от моей Кетхен, в котором она рассказывала мне нежными, полными любви и при этом совсем по-детски наивными словами о том, как ей живется после нашей разлуки и как ей хочется меня повидать и еще хоть разок поговорить со мною, а если это никак невозможно, то как было бы хорошо обмениваться письмами. Я целовал листок, перечитывая его сто раз, я носил письмо с собой в кармане, пока оно совсем не перепачкалось и не истерлось. И что же, я кинулся со всех ног в Геризау? Нет. Я сразу же написал ответное письмо? Тоже нет, ни словом не ответил. Короче говоря, — ни привета, ни ответа. Почему так? Как раз в то время — это я помню — не было у меня денег; припоминаю, что еще что-то помешало; настоящая же причина улетучилась из моей памяти. Словом, позабыл я свою милочку из Геризау, за что не однажды потом осыпал себя горькими упреками.
Только по прошествии двадцати лет я вдруг однажды глубоко и надолго задумался об этом событии, и желание узнать, жива ли еще милая девушка и что с нею сталось, так разгорелось во мне, что специально ради этого я отправился в Геризау (несмотря на то что до этого, случалось, проводил там целые дни, не вспомнив о ней ни разу), разузнал, где она живет, и мне сказали, что у нее уже десятеро ребятишек и что они с мужем содержат трактир.
Я поспешил туда. Мужа не оказалось дома. Попросившись на ночлег, я сел к столу и принялся разглядывать свою — нет, давно уже не мою — Кетхен. О небо! Бедняжка, как она подурнела! И все же нет-нет да и узнавал я давнишние черты ее девичьего личика. Я с трудом сдерживал слезы. К несчастью, ей достался муж грубый и к тому же плохой хозяин, позже он совсем разорился. Но уже и тогда жила она в большой бедности. Меня она не узнала.
Я стал выспрашивать ее, — откуда она родом, кто ее муж и т.п. А потом взял и спросил, не помнит ли она некоего У.Б., с которым виделась двадцать лет тому назад в «Лебеде» пару деньков подряд. Тут она вдруг устремила пристальный взор мне в лицо и — прильнула к моему плечу:
— Да! Он это, это он!
И крупные слезинки покатились по ее бледным щекам.
Оставив все дела, она подсела ко мне и принялась рассказывать о своем житье-бытье со всеми подробностями, а я ей — о своем, да так и проговорили мы с нею до самой темноты. А когда пришлось проститься на ночь, мы не смогли удержаться, чтобы не помянуть те счастливые наши часы парой поцелуев; но у меня и в мыслях не было ничего дурного. Потом я не раз останавливался в ее кабачке. Умерла она года через четыре после этого нашего нового свидания, — и сладко мне теперь пролить еще одну слезу на ее могилу, где покоится она с миром, как и все остальные добрые души. Но продолжим.
То, что во всей своей истории я слишком коротко и мимоходом пересказал важнейшие события своей жизни, — как я заполучил свою Дульсинею, построил дом, завел дело и проч., — произошло потому, наверное, что сия эпоха жизни моей принесла мне несравненно меньше радости, чем годы молодые, и посему исчезла из памяти гораздо скорее. Одно знаю твердо: обманувшись и в своем супружестве и найдя в нем вместо счастья уйму совсем новых неожиданных неприятностей, я опять ударился в составление фантастических планов, а все свои дела стал выполнять механически, через силу и подчас вовсе шиворот-навыворот, тогда как моя душа продолжала пребывать словно бы в ином мире, витать в облаках. Я воображал себя владельцем то золотых гор, то Робинзонова острова,9 то еще какой-нибудь страны молочных рек и кисельных берегов и т.п. А поскольку именно в это самое время я начал налегать на чтение, пристрастившись сначала исключительно к мистическим материям, затем к истории, а там и к философии и в довершение всего напав на романы, — будь они неладны, — то все это, хотя и прекрасно согласовалось с моим выдуманным миром, еще сильнее сбивало меня с толку.10
Любого героя и искателя приключений из древних и новых времен я примерял на себя, жил целиком в его образе, придумывая для него всяческие происшествия, какие только мне заблагорассудится. Романы к тому же вызывали во мне недовольство моей собственной судьбой и всем родом моих занятий и пробуждали меня от моих мечтаний, что меня удручало еще сильнее. Впадая в подобное раздражительное настроение, ищу я бывало утеху в каком-нибудь веселом чтении. И чем оно смешнее, тем больше оно мне нравится, так что вскоре я сделался и вовсе вольнодумцем, угодив тем самым из одной крайности в другую.
В этом отношении я от души сочувствую подруге моей жизни. Ибо, пусть я и находил в ней мало соответствия моему вкусу, ее вкусу я соответствовал еще меньше. И все же ее привязанность ко мне была сильной, хотя и отнюдь не нежной. Поступки согласно ее разумению, послушание и любовь — все это она решительно требовала от меня с первых же дней, требует от меня и от сыновей до сих пор по-прежнему и не откажется от этого никогда, подобно тому как мавр11 не способен изменить цвет своей кожи. И все-таки этот способ, как мне теперь известно по опыту, вовсе не годится для того, чтобы приучить человека к ярму.
Так и текли мои дни: наполовину в радостях, наполовину в печалях. Я все искал свое счастье вдалеке да в иных краях, а оно подчас дожидалось меня напрасно совсем рядом. И даже сейчас, когда я убедился, что нигде не найдешь его, кроме как в собственном сердце, я часто забываю об этом и все витаю в мире вымыслов или же выбираю в нашем действительном мире ложные, призрачные сокровища, порождающие одно отвращение и неприятности. Что же тут удивительного, что, ведя себя так, как описано выше, я все время сам себя загонял в угол, да еще в такое долговое болото, что порою меня отчаяние брало.
Правда, сейчас я отлично вижу, что в сих случаях беды мои были скорее воображаемыми, нежели действительными, и что разорение, казавшееся окончательным, никогда не бывало столь страшным, никогда не терял я более семисот, в самом худшем случае — более восьмисот флоринов. А ведь и до того и после видывал я, как люди, располагая многими тысячами, хладнокровно разыгрывали банкротство. К тому же мои заимодавцы относились к числу не самых жестоких, скорее — к добродушнейшим и снисходительнейшим, пусть даже тот или иной из них порою приступал ко мне с гневом.
Так же верно и то, что если бы я следовал правилам своей жены, то не оказался бы в сем лабиринте. Однако же будь обстоятельства иными и будь по-иному устроена моя половина или если бы она наставляла меня иначе, т.е. предоставив мне свободу действий, или сумела бы каким-нибудь более мягким способом обуздать мое своеволие и мои склонности, — зашло ли тогда бы дело столь далеко — вот еще один... вопрос! Раз и навсегда поступить под ее начало было для меня невозможно. Но имей я побольше свободы (ибо силой настаивать на своем авторитете я никак не мог), я сумел бы больше посвятить себя делам, тратил бы на свою профессию больше пыла и старания, а вернее — все способности тела и души. Но поскольку ругань и ссоры смертельно мне надоели, а добиваться своего хитрыми уловками был я не способен, да и время на это требовалось, которое, по мне, не стоило таких трудов, — то я на все это рукой махнул.
Уже тогда умственные занятия были для меня намного привлекательнее. — А поскольку моя Дульсинея все равно всюду совала свой нос, бранила меня сплошь за все и никогда и ничем невозможно было ей угодить, то я становился все мрачнее и думал себе: «А поди-ка ты совсем к..! У меня есть дело, которое я полагаю бесконечно более важным». В этом я был, впрочем, тысячу раз не прав, ибо не принимал во внимание то, что в конце концов вся тяжесть земных забот падет на мужа и за волосы ухватит его, а не его жену. «Вот если бы, — думалось мне нередко, — была бы у меня такая жена, как у моего приятеля Н.». Вообще-то, он, не говоря худого, был таким же недотепой, как и я, и натворил бы уже уйму глупостей, не удерживай его умница его Дорхен самым милейшим образом, — и делая это так хитроумно и так скрытно, что ему и невдомек было, что не сам он себе хозяин и во всех делах господин. О, как мастерски умеет она приноравливаться к его настроениям и утихомиривать его как в добрых, так и в дурных поступках (ибо в веселье он удержу не знает, а попав в беду, воет, как старая баба, или норовит все вокруг переломать), так что меня часто изумляет, как слабая женщина способна взять такую власть над мужем и, делая вид, что поступает всецело по его воле, держит его в полном повиновении.
Однако же такой характер — весьма редкая птичка на сей земле, и блажен тот муж, которому досталось такое сокровище, если только он знает ему цену. И друг мой Н. ценит свое сокровище превыше всего, хотя и сам толком не знает — за что. Все-то в нем она нахваливает, а если что ей не по вкусу, — она только скажет с нежной улыбкою:
— Вот и ладно, а по мне, так было бы еще лучше сделать так или вот этак. Миленький! Ну, ради меня, сделай это вот так.
И ни разу не замечал я с ее стороны ни едкого словца, ни злого взгляда, обращенных к муженьку, и не знаю никого, кто слышал бы и видел от нее такое. Признаться, эта перепелочка вызывала подчас у меня зависть, а разница между нею и подругой моей по ложу наводила часто на меня что-то вроде тоски, хотя в глубине души я никогда не был так уж недоволен своим жребием, твердо веря в то, что добрый мой Отец небесный и в этом деле — почему бы и нет? — сделал за меня наилучший выбор! Без всякого сомнения, именно такая половина и никакая иная могла положить предел моей склонности ко всякого рода нелепостям. Такой грубиян в юбке мог показать мне все, что заслуживает осмеяния и осуждения, в любом моем слишком поспешном движении души, — подобно тому как лакедемонские рабы демонстрировали сыновьям своих господ порочность пьянства12 in natura,5* — и таким способом он изгонял одного беса при помощи другого.
Нужна непробиваемая копилка, которая уравновешивала бы мою щедрость и расточительность — к вящей пользе моей и к ее посрамлению, как сказано о том в пословице: «На всякого скрягу свой мот». Нужен судья и критик, который следил бы за каждым моим шагом, ежедневно указывая мне на мои промахи. Это побуждало бы меня самого, тоже ежедневно, следить за своими поступками, исследовать сердце свое, подвергать испытанию свои намерения и склонности — что в них истинно, а что ложно или дурно. Нужен такой наставник, который обрисовал бы мне все мои слабости самой черной краскою, там, где я полагал их если не снежно-белыми, то уж никак не темнее серых. Нужен мне такой лекарь, который не просто обнажал бы передо мною все мои пороки, но и преувеличивал бы их, и даже те из них, что не очень страшны, выдавал бы за такие, которые наводят ужас; который без устали, с солдатской прямотой, совал бы мне зловонные, едкие лекарства с такой силою, что небу жарко бы стало. Благодаря всему этому дошло бы до меня, что есть только один врач, который поможет мне, и лишь к нему надлежит прибегнуть, броситься на колени и умолять: «Господи! Тебе одному ведомы все прегрешения мои; прости и исцели все мои скрытые от меня пороки!» Нужна мне, наконец, и такая богомолка, которая молиться бы молилась, но между молитвами могла бы, если потребуется, заниматься делами; она научила бы меня... молиться, отбив у меня вместе с тем тяготение к неумеренной набожности.
Однако хватит, дражайший потомок! Ты же видишь, что я отдаю жене своей полную справедливость и чту ее, как чтут опытного лекаря, на которого подчас и обижаются слегка, но в глубине души никогда не станут думать о нем плохо. Она и вправду отличнейшая, честнейшая женщина на всем белом свете, далеко превосходящая меня во многом; это — незаменимая, верная супруга, с которой всякий муж, — если только он согласится плясать под ее дудку, — превосходно уживется. Как уже говорилось, у нее множество хороших качеств, каких я лишен. Так, например, ей вовсе чужда чувственность, тогда как сия склонность заставила меня натворить немало глупостей. Она столь тверда в своих правилах или предубеждениях, если угодно, что никакой doctor juris,6* никакой Лафатер, никакой Циммерман13 не сумели бы сдвинуть ее с них ни на волос. Я же, наоборот, колеблюсь, как осиновый лист. Ее мнения, — если они достойны сего имени, — о Боге и мире и всех вещах в мире представляются ей всегда наилучшими и непоколебимыми. Ни лаской, ни строгостью, ни мытьем, ни катаньем невозможно внушить ей иные. Я же, наоборот, вечно сомневаюсь в том, что суждение мое справедливо. И еще — ее преданность и любовь ко мне способны меня устыдить. Мое земное и небесное благополучие точно так же близко ее сердцу, как и ее собственное; доведись, так она чего доброго потащит меня в рай за волосы, а то и погонит пинками — отчасти и прежде всего ради моего же блага, но также из удовольствия показать мне, чем я ей обязан, и иметь возможность командовать мною.
Но если говорить серьезно, то ее сердечная просьба к Богу звучит, наверное, следующим образом: «Сделай так, чтобы я повстречала мужа моего на небесах, и мы никогда уже больше с ним не разлучались». Я же, напротив, — признаться честно, — когда прихожу в дурное расположение духа, то молюсь: «Отче всемилостивый! В небесных селениях твоих много келий. Значит, найдется там и для меня укромный уголок. Удели же и супруге моей блаженное место, — но только, пожалуйста, не очень близко ко мне». Разве это не самая искренняя исповедь? Ну-ка ответь, дражайший потомок! Да! Я еще раз подтверждаю, что жена моя неизмеримо лучше меня и что она желает мне одного только добра, пусть даже и не всегда можно счесть его за добро. Вот, к примеру, никак невозможно было переубедить ее, что вовсе не обязательно каждую ночь орать мне в ухо изо всей мочи, что-де раз она молится, то и мне надлежит молиться с нею вместе. И хотя я твердил ей сто раз, что от такого вопля нет и не будет прока, — все напрасно: кричит и кричит. Но тут уж, что поделаешь, переложим вину на мои слишком чувствительные уши и признаем решительно и бесповоротно: да, да, она намного лучше меня!
***
Милосердие — какое утешительное слово! Милосердие Господа моего, чья благодать превышает все мыслимое, чья милость не знает пределов! Когда в трудный час я перебираю все утешительные мысли Откровения Твоего, одно лишь сие слово так воздействует на мое сердце, что становится главным источником моего успокоения.
Между тем, подобно всем смертным, я не отказываюсь и от поисков утешения в собственной душе. И вот что говорит мне голос моего сердца: «Несомненно, ты великий, тяжкий грешник и мог бы поспорить о первенстве с самыми отпетыми грешниками; но прегрешения твои чаще всего обращаются на твою же собственную голову, а наказания за твою чувственность следуют за нею по пятам». По крайней мере могу засвидетельствовать следующее: с юности моей отнюдь не был я злым и сознательно и предумышленно никому не причинил незаслуженной обиды. Наверное, не однажды нарушал я свой долг, в особенности по отношению к родителям; и всю свою вину осознаю, — увы, слишком поздно! — только теперь, когда сам стал отцом и, очевидно, в наказание за свои грехи — отцом грубых и упрямых детей. Непонимание было моим грехом, и смею предположить, что и они этим же страдают. Тридцать лет тому назад я отвесил одному человеку пару хороших оплеух и вспоминаю еще одну-две потасовки. Но я никогда так уж сильно не сожалел об этом. Или меня задирали, или имелись достаточно веские причины для раздражения. Упомянутый человек подал судье жалобу на моего отца из-за елки, поваленной ветром в общинном лесу; доброму моему батюшке пришлось ни за что ни про что платить штраф. Тут вскипели ненависть и месть в моем сердце. Однажды я застал этого гнусного жалобщика, когда он сам ... крал кусты. Недолго думая, стукнул я его раз, другой и, кажется, третий, да так, что разбил ему в кровь нос и губы. С разбитой физиономией он побежал к старшему управителю. Тот вызвал меня, однако я ни в чем не сознался, а у побитого не было свидетелей. Пришлось ему удовольствоваться тем, что получил.
В купле-продаже я и подавно никого не обманывал, скорее, сам оставался внакладе. Не выносил я и такой компании, где затевалась свара или кого-нибудь не устраивало что-либо, или же были в ходу сальные шутки и всякая подобная гнусность. Зато я любил, чтобы веселье шло прилично и все пребывали бы в добром согласии.
Не раз я наносил урон своим деньгам, чтобы доставить другим радость. Пришлось занять не одну сотню гульденов, чтобы помочь тем, кто потом надо мною же и потешался или отказывался возвращать долг, или, против моей воли, превращался из друга во врага.
Прекрасный пол был всегда, признаюсь, моим любимым предметом. Но я ведь уже исповедался по сей части. Прости мне, Господи, если я в чем-то провинился! Тут уж пойдут извинения и всяческое самоутешение. Но в глубине души я хвалю сам себя за то, что не найдется такой женщины под солнцем, которая прилюдно объявила бы, что я ее соблазнил. Не найдется на всем Божьем свете такой души, что могла бы упрекнуть меня в своих несчастьях. Ни одной женщины не увел я от мужа и познал только одну лишь девицу — жену свою. Это мое чистосердечие всегда меня радовало, да и теперь его у меня не отнимешь.
Утешением служит для меня и то, что я не искал подобных приключений, разве что в помыслах своих имел глупость вообразить подобный случай, но стоило только ему, к счастью или к несчастью, мне подвернуться, меня всего уже загодя дрожь пробирала.
С женою своей я никогда не поступал несправедливо, если не считать того, что я никогда не позволял ей подчинить себя. Ни разу я не поднял на нее руку, а если она доводила меня до крайности, старался держаться подальше от нее. Всем сердцем желал я доставить ей любую возможную радость и принести ей все, что ее душе угодно. Однако что бы я ни делал, — все было не по ней, обязательно недоставало хоть малости. Поэтому кончилось тем, что я махнул рукой на все старания и поиски. Но и тут не угодил.
И со своими детьми не поступал я несправедливо, если не считать того, что не накопил для них сокровищ или хотя бы не сберег получше своих денежек. В первые годы семейной жизни я взялся было за суровое воспитание. Но после того как умерли оба мои первенца, я принялся корить себя за то, что был к ним слишком строг, тогда как в душе нежно их любил. После этого я сделался слишком мягким к тем детям, которые остались, оберегал их и от труда и от колотушек, старался почаще чем-нибудь радовать их и давал им все, что только было в моих силах, — до тех пор, пока не стал замечать, что недовольство жены по этому поводу имеет свои основания. Потому что мои парни вымахали тем временем почти с меня ростом, и требовалось уже избрать иной способ, чтобы сберечь хоть малую толику моего авторитета. Однако дудеть на жениной шарманке я считал неподобающим. Не пристало мне часами ругаться да изливать жалобы, не пристало допекать их бесконечными наставлениями и проповедями, выполнимыми и невыполнимыми. Если бы я стал допускать это, то последствия такого воспитания были бы яснее ясного: кончится тем, что они и вовсе ничего делать не станут и на все наплюют, дурь всегда переходит в зло, и молодой конек пойдет брыкаться напропалую.
По этой причине я ограничился тем, что стал извещать их о своем мнении в нескольких словах, но произнесенных серьезным тоном. Однако никогда не делал этого раньше времени и совсем не цеплялся к мелочам. Не раз и не два я составлял в душе длинную проповедь, но всякий раз у меня хватало ума вовремя проглотить ее, так как при ближайшем рассмотрении дело выглядело не столь плохо, как мне сперва казалось, когда я был в раздражении. Вообще, я нахожу, что сдержанность и доброжелательная мягкость действуют чаще всего, хотя и не всегда, лучше, чем суровость и окрик.
Уже замечаю, однако, что начал расписывать свои добродетели — значит, как раз теперь самое время поведать о своих промахах. Повторяю еще раз, что в эти поздние годы мне захотелось, елико возможно, поуспокоиться. Мою откровенную исповедь может здесь прочесть всякий любитель чтения, и он с большой достоверностью сумеет сделать из нее вывод о моем характере. Давно уже силился я исследовать себя самого и полагаю, что отчасти изучил себя неплохо, — жена моя послужила в этом отличным подспорьем, — отчасти же остаюсь я сам для себя все еще удивительной загадкою: много искренности в чувствах; доброжелательное сердце, склонное к справедливости и добру; великая благодарность и участливость ко всему в мире сем, что физически и нравственно прекрасно;14 великая печаль при виде всяческой несправедливости, горя и нищеты или при слухах об оных; наконец, великое душевное желание, чтобы прежде всего другим было хорошо. Все это, как мне кажется, я действительно за собою числю. Но рядом с этим: причуды сердца — и немалые; один на другом воздушные замки, райские сады — одним словом, разные химеры, которые я все еще с тайным удовольствием пестую в старой своей башке, что, наверное, никому другому, кроме меня, и в голову бы не взбрело. — А теперь еще вот о чем —
LXXX. О Нынешнем состоянии моей души. Item7* о моих детях
И об этом также я считаю необходимым сообщить чистую правду, что бы там ни думали современники мои и потомки.
По-прежнему я стараюсь убедить себя, что все мои фантастические вымыслы по сути дела совершенно безгрешны, поскольку — безвредны. И уж, конечно, вреда ими я ни одной живой душе не нанес. Да и заслуживает ли вообще упрямая приверженность разным любимым мечтаниям той черной краски, которой готовы вымазать ее ничтоже сумняшеся строгие блюстители нравов, — право, не знаю. И добрый мой небесный Отец так ли смотрит на мои причуды, как взглянули бы на них люди, если бы пред их глазами и при свете дня раскрыл бы я свое сердце, — позволю себе усомниться в этом. Ибо уж кому другому, а ему то доподлинно известно, что я за фрукт. Но и то сказать, ведь я же все время стараюсь стать немножко лучше или хотя бы чуть менее дурным.
Например, если я, проходя своей привычной дорогой и по-прежнему иногда втайне мечтая повстречать наяву одно из созданий своей фантазии, приближаюсь к тому месту, где мог бы повстречать его, — и никого нет, — как я радуюсь этому! А ведь я ожидал-таки увидеть его. Как в этом разобраться? Знает Бог, но не я. Одно мне известно, что я должен благодарить Его за то, что по Его воле создание это ушло с моего пути.
Но однажды такое создание моего воображения действительно обнаружилось, и притом без всяких усилий с моей стороны, в точности на том самом месте, где я его мысленно помещал. О, небо! как я перепугался! Я приблизился к нему, а мороз так и продирал меня по коже. К счастью или к несчастью, поблизости оказались двое сорванцов, которые сперва принялись хихикать, а потом стали покатываться со смеху. Не будь этого, и по сей день не могу сказать, что приключилось бы со мною. Я поплелся восвояси, как побитый пес. Сорванцы свистели мне вслед, пока могли меня видеть. Я весь кипел от ярости. Против кого? А против себя же самого. И посылал свою чувственность прямиком к ч... и к его бабушке в виде новогоднего подарка. В тот миг я был готов отрезать себе ухо за это распроклятое происшествие.
Скоро я услыхал, что уже слыву большим бесстыдником, и всякая промашка отныне старательно записывается на мой счет, а те сорванцы разнесли повсюду весть о том, что они застукали меня там-то и там-то. Со всех сторон поползли сплетни. Недруги мои ликовали. А друзья мне об этом доносили. Я попросил их осмотреться между делом и постараться назвать мне тех, кто разносит обо мне сплетни. Но никто не взялся за это. А ведь в меня только что пальцем не тыкали.
Эта душевная рана мучила меня годами и не зажила совсем даже и по сей день. Однако — видит Бог! — она принесла мне пользу. В первую минуту, охваченный яростью из-за оскорбленной чести, я готов был придушить мальчишек. Но затем я вознес благодарственную молитву доброму моему ангелу-хранителю за то, что он привел их туда, иначе я мог бы и не устоять против искушения. Один мой приятель (который, думаю, ошибкою тоже подозревал меня кое в чем) посоветовал мне не пользоваться впредь той дорогою. Но я не послушался его и тотчас же отправился прямо туда, открыто глядя в глаза всем встречным, словно силился прочесть их мысли. Таким образом я повидал всех, кто пробавлялся там сплетнями на мой счет, и разузнал, кого как зовут, обо всех до единого, от первого болтуна до последнего, а также — о том, что болтали и что привирали шепотком и т.п.
Вообще-то говоря, мой образ мыслей со временем так переменился, что впоследствии меня все это перестало так сильно волновать, как прежде, а те мечты, что вселяли в меня когда-то такой неописуемый ужас, заметно поблекли, и я, по крайней мере, уже больше не воображал себе, будто я еще откуда-нибудь получу помощь в осуществлении своих нередко столь фантастических желаний, кроме как из рук благого Провидения. Даже величайшее счастье, но полученное из всяких иных рук, счел бы я дурным делом. И это несмотря на то, что мое воображение перебирало сотни и сотни различных способов достижения оного.
Частые попреки жены тоже не задевали меня теперь так глубоко, как прежде. Я к ним притерпелся, понимая, что эта привычка коренится целиком в ее натуре и впуская ее бесконечные проповеди в одно ухо, а выпуская — в другое и даже на миг не задумываясь над тем, что в них, возможно, содержится и доля правды, которая могла бы пойти мне на пользу.
Как уже говорилось, от своих мечтаний о стране молочных рек и кисельных берегов так и не отучился я до сих пор; еще и теперь они доставляют мне, старому дурню, немалую радость. Но я тут же сам стараюсь их высмеять или учусь хотя бы пренебрегать подобными дурачествами и взамен их утешаться воспоминаниями о ранних годах невинной юности моей. Но и тогда надобно миновать некий риф: ведь такие воспоминания могут вогнать в тоску при виде того, как постепенно иссякают мои дни, о которых говорится, что нечем тут гордиться. А средство против этого, в кратких словах, имеется такое: стараюсь, по возможности, не нанося урона своему благополучию, сделать дни мои приятными для меня, а если возникает какая-нибудь неприятность, — даю ей пинка с полным хладнокровием. Для того чтобы разные житейские случайности не могли вывести меня из равновесия, я стремлюсь более, чем когда-либо, поступать так, чтобы совести моей невозможно было попрекнуть меня каким-нибудь промахом, и пытаюсь держаться со всеми близкими, и особенно со своими домашними, таким образом, чтобы ни у одной живой души не нашлось весомой причины жаловаться на меня.
В работах и заботах и вообще во всяких словах и делах я предоставляю другим довольствоваться всем, сам же довольствуюсь малым и достиг того, что любому приятно со мною общаться. Мне выпало счастье встречать доброжелательное отношение к себе со всех сторон, исключая нескольких завистников. О своем здоровье, каковое у меня, слава Всевышнему, в наилучшем порядке, чего не было с самой юности, я также забочусь теперь больше, чем когда-либо. С детства меня долго изводили флюсы. Головная и зубная боль, разные опухоли и сильная раздражительность сидели во мне, так сказать, от рождения; острая пища и горячительные напитки, весьма мною любимые, только усугубляли их: они и сейчас еще мучают меня, невзирая на то, что я соблюдаю довольно строгую диету. Дважды за свою жизнь я опасно болел. Нынче смотрю на свое здоровье, как на клад и неоценимый дар Божий, каковой охраняю весьма ревностно. Мысли о пропитании меня не очень волнуют, и заботы о хлебе насущном не отнимают много времени.
Что меня действительно заботит больше всего, так это мои сыновья. Целые дни они не выходят у меня из головы, и я, как в зеркале, вижу в них себя, с самого раннего моего детства. Все проступки, которые я совершил в отношении своих родителей, получают теперь, через них, на мне свое отмщение. И все, чем я досадил братьям и сестрам, — все это, как я с грустью убеждаюсь, они повторяют на самих себе. Впрочем, нахожу у них и лучшие свои черты. В общем, мою супружескую жизнь скрашивает одна только радость, которую доставляют дети.
Если бы не было детей, — неизвестно, что получилось бы из меня. Я и жену предупредил когда-то, что если нас постигнет несчастье не иметь детей, то горю моему не будет конца-края. Но мое желание исполнилось. Судьба благословила меня семерыми детьми. Двое старших, к которым я относился с особенной нежностью, были похищены у меня смертью. Сначала это повергло меня в глубокое отчаяние. Однако по зрелом размышлении я нашел утешение в мысли, что благой Отец человеков забрал к себе любимых моих деток в дни, самые горькие во всей моей жизни, когда я утратил последнюю надежду на то, что сумею вырастить и прокормить дорогих своих чад. В те времена я, бывало, желал и остальным отправиться обратно в селения Господни — так мне было тяжело. А те двое были истинными агнцами, и дай Бог чтобы остальные мои дети унаследовали их доброе сердце.
Моя жена рожала всех семерых без происшествий, и все обходилось удачно. Но тем тяжелее давалось ей каждый раз начало беременности. Впрочем, выйдя замуж, она сделалась даже здоровее, нежели когда была в девицах. И всех моих наследников она рожала хорошо сложенными. Однако некоторым из них достались — наверное от нее — кое-какие изъяны. Например, следующий после тех двоих рано умерших сын Якоб, хоть и быстро тянется вверх, но не может похвалиться здоровьем.
Жена была заботливой, однако не очень-то нежной матерью. Несказанного труда, дней без отдыха и ночей без сна стоили ей недуги малышей и воспитание старших. По мере возможности я служил ей в этом подмогой, самым настоящим образом заменяя няньку в варке и стирке, в тасканье воды и дров, что делал с немалым удовольствием. Несчетные часы носил я своих мальчуганов на руках, успокаивал их, баюкал и т.п., да к тому же обоих моих умерших учил у себя на коленях с превеликой радостью читать и писать. Остальные были гораздо менее понятливыми, и потому я, потеряв к этому охоту, послал их в школу.
Ну, что ж, милые мои, вы, что еще проживете сколько Бог даст, прочитайте-ка свое описание здесь по порядку, какими я вас вижу и как мое отцовское сердце, право же, вовсе не строгое, судит о вас! Будь это в моей воле, я предсказал бы вам ваше неведомое будущее! По крайней мере не собираюсь скрывать от вас свои догадки о последствиях вашего поведения в зависимости от характера каждого из вас. Дай Бог, скажу вам откровенно, чтобы вы унаследовали добрые качества матери вашей и лучшие стороны отца. Но приходится признать с печалью, что в ваших жилах течет кровь ее и моя, и, к сожалению, самое худшее, что вам досталось, — это смесь ее холерической крови и моих чувственных соков. Вижу в вас себя живого и в такой же степени — образ вашей матери. Я — отец ваш. Вы следите за моим взглядом, когда мать слишком уж яростным образом старается растолковать вам, в чем заключается ваш долг; и поэтому на мою долю выпадает множество попреков, будто я всегда принимаю вашу сторону. Тут помочь нечем! Но Бог — свидетель, и вы сами можете подтвердить, что все это не так. Конечно, я обычно склонен немного смягчать чрезмерные требования. Однако что тут поделаешь! Я могу говорить что угодно — все будет впустую. Она — мать ваша, она носила каждого из вас девять месяцев под сердцем, рожала в муках и вырастила ценою невероятных усилий и забот. Задумайтесь об этом, дорогие мои! И ведь в конце-то концов она всей душой желает вам только добра, — чтобы всем вам, так же как и мне, досталось побольше счастья, несмотря на то что вам не очень нравятся — да и мне тоже — те способы, какими она хочет этого добиться.
Во многом она ошибается, и я тоже — вы же молоды еще и зелены! Я, я сам лишь после двадцати лет опыта понял, что воспитание, такое, как ваше, приносит добрые плоды. И поумневши со временем, вы поймете лучше, как вам повезло, что у вас была именно эта, а не другая мать! Просите у Господа вразумить вас побыстрее, и дано вам будет. Вникните в пятую заповедь1 и отыщите в Библии все те слова, которыми Отец ваш небесный строго научает вас обязанностям по отношению к земным родителям вашим. Что касается меня, то немало проступков, немало вашего упрямства, так уж и быть, я вам прощаю и не считаю, подобно матери вашей, что ваша воля всегда и во всем должна подчиняться моей воле и что якобы вам же оттого будет лучше. Как раз напротив. Но и я забочусь только о вашем благе. Вы же сами себе делаете хуже. Всякое непослушание отзовется на вас же точь-в-точь на этом ли, на том ли свете. Поверьте мне, я это по опыту знаю.
Итак, еще раз прошу как нежный отец — ибо приказания тут не помогут — прошу ради вас же самих, ради вашего земного и вечного блаженства: любите и почитайте мать! Она во всем заслуживает этого! И даже если она подчас, по вашему разумению, требует от вас слишком многого, пусть каждый из вас помнит всегда: «Она права, я перед нею в великом долгу, и если я и не в силах исполнить все ее требования, — буду делать, что сумею, не стану хотя бы перечить ей в лицо, делать что-либо назло, пререкаться с нею, добиваясь, чтобы последнее слово оставалось за мной. Лучше отойдя в сторонку, спрошу-ка свое сердце и себя, — не пришло ли для меня время учиться послушанию, чтобы когда-нибудь тем осмотрительнее отдавать приказания?» Ибо причиной того, что так много родителей и властителей отдают своим детям и своим подданным самые нелепые распоряжения, является не что иное, как то, что раньше они толком не научились повиноваться.
Не надо делать насмешливое лицо, не надо ухмыляться и хмыкать, сыновья и дочери мои, едва только над вами разразится малая или большая гроза. Никак не гоже высмеивать и осуждать вспыльчивость отца и слабости матери. Даже если бы это позволялось, какая вам оттого выгода! Был ли когда-нибудь прок от ругательных слов и ответов? Думаю, что одни лишь жалкие комедии и печальные трагедии получаются от этого на земле каждодневно, и дьявол со всеми своими подручными уже устал рукоплескать им.
Теперь я хотел бы обратиться к каждому из вас в отдельности.2
Анна Катарина! Твой дерзкий и крайне вспыльчивый нрав то и дело вызывает во мне немалое беспокойство. В то же время твое участливое, чувствительное сердце душевно радует меня всякий раз, когда мне удается увидеть или услышать, что этому есть большие или малые подтверждения. Но твое упрямство может тебе дорого обойтись. Тебя ожидает судьба твоей матери, если выпадет тебе в замужестве такой же жребий; однако если случится по-другому и тебе достанется муж нрава, подобного твоему, — о, горе! — тогда дело твое плохо. А пока храни свою невинность, как твоя родительница, — и Провидение о тебе позаботится и ниспошлет то, что ты заслужила, или, вернее, то, что пойдет тебе на благо.
Иоганнес, старший мой сын! О, если бы ты унаследовал характер покойного твоего братика, как во время оно Елисей — плащ Илии.3 Узнаю себя в тебе только наполовину, тогда как в своей дочери вижу целиком мать. Твой нестойкий, колеблющийся ум, — если только его можно назвать умом, — поверг бы меня в ужас и отчаяние, не имей я старой привычки доверяться высшему Промыслу. Моя отцовская любовь побуждает меня надеяться на лучшее. Но для того чтобы сделаться бездельником и сорвиголовой, задатки у тебя самые подходящие. То ты зол, то опять добродушен и уступчив, но никогда не постоянен. Попадется тебе супруга, которая сумеет управлять тобой, — тогда жизнь твоя более или менее наладится; если же нет, — только Бог тебе защита! Одно я приметил, — что обрадовало меня. Ты поступаешь так, как тот, кто твердит: «Нет, этого я делать не стану!» А потом идешь и делаешь. Но нет у тебя ни на унцию вкуса к чтению и ко всякому глубокому знанию и умению,— ты любишь одни истории о привидениях и прочие россказни. Твое времяпрепровождение — пустая болтовня без устали. Хотел бы я ошибиться, однако, однако...
Якоб, мой второй сын! в котором вижу я себя порою, как в зеркале, хотя растили нас совсем по-разному. Я вырастал в грубости и суровости, в одиночестве, в пустыне; ты же рос среди людей, в более теплых местах, и, поскольку ты все время болел и бывал близок к смерти, — тебя грели и холили. Если бы я имел состояние, чтобы дать тебе все, что нужно, думаю, что из тебя получилось бы что-нибудь. Будем надеяться лишь на то, что ты долго проживешь в здравии. Твой брат создан больше для грубой работы, а ты — для каких-нибудь тонких дел, требующих скорее головы, нежели рук. Но я вынужден приучать всех своих детей к моему занятию и не могу позволить, чтобы каждый делал, что хочет. Впрочем, надеюсь, что придет время, и ты получишь вкус к размышлениям, к чтению и письму — так, как это произошло с твоим отцом. Правда, пока еще владеет тобой ненавистная мне привычка шататься из дома в дом, собирать там и разносить всякие пустые сплетни. Чем станешь ты зарабатывать себе на хлеб, — ума не приложу. Все же если пораскинешь мозгами и на дальнейших путях своих препоручишь себя Господу, который столько раз отводил от тебя жало смерти, то Он тебе поможет.
Зузанна Барбара, моя вторая дочь! Легкое, порхающее существо! Будь ты дитя какого-нибудь монарха и попади ты в хорошие руки, из тебя могла бы получиться незаурядная женщина. Твой глаз-алмаз раздражает твоих сестер и братьев, хотя ты никому не желаешь зла. Твое чувствительное сердце страдает от многочисленных уколов, наносимых острыми язычками, а от громогласия твоей суровой домашней повелительницы душа твоя дичает. Ах, боюсь, что слишком рано пробудившиеся страсти и твои нежные нервы принесут тебе еще немало бед!
Анна Мария, самая младшая моя дочь, мой последышек, дитя мое, ты — единственная, кто согревает мне душу и кому отвечаю всей своей последней любовью! Тиха ты и не глупа, рассудительней всех, если забыть о маленьких приступах злости и упрямства. Ты, моя голубушка, всегда высказываешь вслух меньше, чем думаешь про себя. Охотно верю, что из тебя получится отличная мать семейства, если сподобит тебя Провидение.
Ну, что ж, дети мои! Ведь это всего лишь легкий набросок ваших черточек. Не стоит обижаться и ревниво смотреть один на другого. Отцовская моя любовь, конечно же, простирается на всех вас; она побуждает меня ожидать от вас только хорошего. Верно — в каждом из вас вижу довольно много дурного, но моей любви хочется закрыть на это глаза. Однако нахожу у вас также и похвальные качества и стараюсь не упускать ни одного из них, раздувая огонек, как только замечаю в ком-нибудь искорку добра.
Источник благодати, Отец небесный! Отче малых сих и великих! Тебе, чья доброта не имеет пределов, препоручаю детей своих и все их потомство во веки веков!
LXXXI. Кое-что о счастье и о том месте, где я живу
Остается сказать немногое и на том закончить. Домишко да садик — вот и все имение мое. Жена и четверо ребятишек — это значит шесть ртов и дюжина рук составляют все мое семейство. Однако здоровый аппетит сих упомянутых ртов (считая еще одежду и прочее) поглощает почти целиком, сколько ни старайся, плоды труда вот этих самых рук. Свой хлопковый промысел я уже описал. Это — как синица в небе и как погода в апреле. Тот, кто на это все свои силы положит да еще сумеет угадать подходящее время, тому, может быть, и повезет. Но этого таланта я никогда не имел вдосталь, был всегда недотепой да, верно, таким и умру. И тем не менее всю эту куплю-продажу (которую, впрочем, даже вполне рассудительные люди, видя одни ее дурные стороны, понапрасну, думаю, осуждают) я год от года все больше люблю. Почему? Полагаю, что по одной простой причине: это было средство, с помощью которого благое Провидение без особенного моего участия вывело меня из полной безысходности к более или менее сносному состоянию. Правда, не прельстись я ролью торгового человека, мог ли я попасть в безысходное это положение? Кто знает! Наверное, каким бы делом я ни занимался, все равно случилось бы то же самое — по моей небрежности, неосторожности и неумелости. Здесь, я думаю, уместна пословица: «Собачий зуб калечит, собачий язык лечит». В общем, мелкий мой промысел стал дорог моему сердцу, и, отдавая ему все имеющиеся силы, я желал бы приохотить к нему своего сына,1 если только есть у него к этому склонность и если он, по возможности, переймет мой опыт. Благие небеса могут, конечно, подарить ему и нечто иное, но тогда уж этот промысел пойдет прахом. А ведь я, имея теперь за плечами полвека жизни, отдал ему вот уже тридцать лет.
В то давнее золотое времечко можно было б извлечь из него немалую пользу, если бы я тогда в нем что-либо смыслил или хотя бы искренне хотел разобраться в деле. Но и dato8* не променяю его ни на какое иное занятие, хотя и есть между ними такие, что могут дать пускай не изобильное, но верное пропитание.
Затраты стараюсь ограничить. Приходится детям приспосабливаться к этому волей-неволей. Приходится, конечно, одевать-обувать их не хуже прочих, однако роскошествовать не позволяю. Во всем прочем даю им — пожалуй, даже чересчур — полную свободу развлекаться, как принято, не запрещаю бывать на праздниках, пропустить принятый у нас стаканчик по воскресным дням и т.п., даже сам порою предпринимаю с ними небольшие и не слишком дорогостоящие вылазки. Но при этом особенно ликую душой, если вижу, что их руки заняты делом и что у них достало ума научиться блюсти мою и собственную свою пользу. А впрочем, как уже говорилось, их радости — это и мои радости; и ничто не задевает меня больнее, чем их недовольство.
За стенами моего дома, на людях, у меня всегда так: не выношу печальных лиц и добиваюсь улыбки иногда с помощью собственного кошелька. Могу сто раз давать себе слово быть экономным, а на деле все та же петрушка — и конца не видать.
Вот видите, милые мои!2 Копить богатство вовсе не в моей натуре; да я и не уверен, что оно принесло бы вам пользу. А польза и благо будут лишь в том, чтобы научиться вам поскорее самим зарабатывать себе свой скромный кусок хлеба, не теряя честной своей независимости. Если даст мне Бог еще жизни и здоровья, я уж постараюсь обеспечить каждого из вас по мере возможности. Кому-нибудь из вас достанется и этот мой славный домик, вид которого я как раз собираюсь теперь описать.
Родина моя — никоим образом не земля молочных рек и кисельных берегов, не какая-нибудь там счастливая Аравия и не прекрасная Пэи-де-Во.3 Это — Токкенбург, жители которого испокон веков слывут сварливыми и непросвещенными. Пусть это заблуждение останется на совести того, кто его придумал. А тот, кто возьмется доказывать обратное, может, конечно, показаться слишком пристрастным. Тем не менее я должен сказать вот что: повсюду, где только ни приходилось мне бывать, люди были точно такими же грубыми, а то и намного грубее, такими же темными, а то и намного темнее. Однако, повторяю, в мои намерения не входит, да и неприлично мне это, — описывать своих соотечественников. Скажу одно: я люблю их, а равно и отечество свое не менее, чем любой другой человек на свете — свое, живи он хоть в раю.
Наш Токкенбург — это красивая долина, протянувшаяся на двенадцать часов пути и окруженная множеством боковых долинок и плодородными горами. Главная долина изгибается с юго-востока в северо-восточном направлении.4 Как раз в самой середине этого изгиба, на холме, красуется мое «родовое поместье», у подножия горы, с вершины которой открывается приятный вид почти на всю эту страну, вид, который не раз уже доставлял мне величайшее наслаждение. То глянешь вниз, в долину, застроенную деревнями, то вверх — на высоты по обеим ее сторонам, покрытые тучными пастбищами и лесом и не менее, чем долина, усеянные бесчисленными домиками, а за всем этим вздымаются в облака вершины Альп. А потом глядишь опять на бегущий внизу по долине наш извилистый Тур; его дамбы и берега, обсаженные вязами да ивами, так и манят прогуляться.
Мой деревянный домик расположен на том самом месте, где долина красивее всего. В нем имеется одна большая комната, три маленьких, кухня и погреб, — вот память! чуть не забыл еще пристройку, — есть также сарайчик для коз, дровяник, а вокруг дома — садик с парой-другой невысоких деревьев и надежной изгородью из терновника.
Через мое окошко можно услышать церковный звон и бой башенных часов разом из трех или четырех мест. В нескольких шагах от порога раскинулся осененный деревьями превосходный луг, который принадлежит соседу. С этого луга можно взглянуть прямо вниз, на Тур и на бельники5 противоположного берега реки, на красивую деревню Ваттвейль, на городок Лихтенштейг и дальше — там опять виден Тур в своем верхнем течении. За домом моим бежит ручей, устремляясь вниз, к Туру, а вытекает он из романтического ущелья,6 прыгая по каменистым уступам. На другом его берегу находится пронизанная солнцем рощица, прилегающая к подножию высокой скалы. На этой скале в недоступной пещере издавна гнездятся ястребы-перепелятники и их крупные сородичи. Пещера да еще одна гора, которая во время солнцестояния лишает меня на час утреннего солнышка, удручают меня более всего из того, что я здесь имею. Ту и другую я охотно продал бы или даже даром бы отдал. Богомерзкие перепелятники не только терзают мне уши своим воплем с середины апреля и до поздней осени, но — что намного печальнее — распугивают всех моих певчих пташек, так что скоро ни одна из них не отважится селиться поблизости.
Мои соседи — все сплошь люди добрые и честные, и я их искренне уважаю и ценю. Бывает, правда, что и среди них может затесаться кто-нибудь не такой, но, это, впрочем, как и везде. Истинных же друзей, с которыми можно было бы обмениваться мыслями и сблизиться сердечно, нет у меня здесь в округе никого. Их заменяют мне платонические мои наперсники7 в комнатке моей.
Весною снег задерживается в моем садике, пожалуй, несколько дольше, чем требовалось бы. Но я объявляю ему войну, разбиваю его на мелкие кусочки и сыплю ему на хвост золу и всякий сор. От этого он прячется в землю, и тогда можно пораньше и за садовничество браться. Вообще-то, сей малый клочок земли приносит мне немало радости. Земля здесь, надо сказать, довольно скупа и неподатлива, но все же я обрабатываю ее почти уже двадцать пять годков. И добиваюсь-таки от нее салата, капусты, гороха и всего, что нужно для стола; удаются подчас и цветы — розы во множестве. Словом, получаю радости не меньше, чем иной властитель от своих вавилонских садов.8
Ну-ка, ответь, сынок!9 Разве наше жилье не стоит любого другого на свете? Уединенное и вместе с тем неподалеку от людей; в самой долине и вместе с тем на высотке. Подымись когда-нибудь в мае на травянистый холм, что перед нашим домом. Взгляни вдоль пестроцветущей долины вверх по течению реки; посмотри, как вьется Тур среди лугов прекрасных, как он катит свои темные еще, снеговые воды прямо под ногами у тебя. Посмотри, как по обоим его берегам пасутся в травах коровы без счета, и вымя у каждой полно молоком. Прислушайся к веселому хору крупных и мелких певчих птиц. Мимо наших окон проходит дорога, но куда ей! Видишь — за Туром дорога, вот это уж для всей долины большая дорога, которая никогда не пустует. Взгляни-ка на эти цепочки домов, словно связавшие Лихтенштейг с Ваттвейлем. Здесь перед тобою, в общем-то, все, чего можно пожелать и в городе, и в деревне.
«Как бы не так! (скажешь ты, наверное). Да ведь все эти луга и коровы не наши!» Дурачок! Они — наши, как и весь белый свет. Кто мешает тебе любоваться ими, получая от этого наслаждение и радость? Масла и молока от этого скота я могу получить, сколько душе угодно. Так что только и преимуществ у их хозяев, что возня с ними. Что мешает нам назвать своими даже эти Альпы? Или вон те великолепные фруктовые деревья? Ведь лучшие их плоды могут быть принесены прямо к нам домой! Или, к примеру, вот этот большой сад, — разве мы не можем издали наслаждаться запахом его цветников! Да возьми ты и наш небольшой садик, — не вырастает ли в нем все, что мы сажаем, обихаживаем и поливаем?
Итак, сын мой дорогой! Желаю тебе, чтобы, созерцая все это, ты чувствовал то же самое, что чувствовал и я и что я ежедневно чувствую еще и по сей день; чтобы и ты во всем находил и ощущал с восторгом и благоговением присутствие Всеблагого, точно так же как я находил и ощущал его — совсем рядом с собою, вокруг себя и — в себе самом; это он отворил мое сердце, сделав его таким трепетным и так глубоко чувствующим.
Милый, милый мой мальчик! Описать это тебе я не в силах. Но часто ощущал я в себе такой восторг при виде всего этого великолепия, когда бродил взад и вперед под полною луной по этой луговине, погруженный в свои мысли, или же прекрасным летним вечером взбирался вон на тот холм и смотрел, как садится солнце и подымаются тени; вот и домик мой стоит уже в синих сумерках, а кругом шелестит и овевает меня закатный ветерок, и птахи запевают свою нежную вечернюю песнь. И тогда я спрашивал себя: «Неужто же все это ради тебя, бедный ты и грешный человек?» И глас Божий, казалось, ответствовал: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои!» О, как таяло тогда мое сердце в сладком томлении, как давал я тогда полную волю току радостных слез и готов был все вокруг — и небо и землю — заключить в обьятия,10 так что даже и ночью это счастье мое повторяли блаженные сны.
Вот так-то, милые мои! Такова моя история вплоть до нынешнего дня. Впредь, если Бог даст мне жизни, расскажу еще кое о чем.11 Будет это, конечно, всякая всячина, — однако ж это и есть моя история.
Прости мне, Господи, если я, по неведению, написал какое-либо несправедливое слово!
Да искупятся кровию Иисусовой те грехи мои, которые я утаил, и те, о которых поведал!
Отче всеблагий на небесах! Тебе, тебе единому посвящаю остаток дней моих!
ПРИБАВЛЕНИЕ (1788 г.)
Вот и еще три года утекли в море времен, с тех пор как я соорудил из всех моих корявых записей повестушку о жизни.1 А то, что показалось мне достойным внимания после того, я занес в свой дневник, так что если уж и это все когда-либо увидит свет, мне останется сказать весьма немногое — о моем нынешнем положении и о судьбе скромного и невинного писательства моего до сего времени.
По-прежнему тяну я еще свою лямку в мире живых и, право же, чем дольше тяну, тем она мне милее. И это несмотря на усилия некоторых завистников, которые готовы отравить мне всякий Божий день, всякий веселый часок, даже самый свет солнечный, однако не в силах и пальцем меня задеть. Ибо крепка моя твердыня под защитою Вседержителя.
Мое жилье осталось все тем же. В том же виде и совершено те же самые у меня промысел, дела, настроения, удачи и — доброжелательность людская. Зато весь мир улыбается мне. Большая, да и лучшая, часть окружающих относится ко мне вполне хорошо; мне выпало даже неоценимое счастье приобрести нескольких сердечных друзей. Здоровье мое лучше, чем когда бы то ни было.
Что же до гармонии в моем доме, — ну уж тут-то все по-старому! Сие пресловутое несовершенство состояния моего принадлежит, стало быть, к неизбежным порокам земной жизни, коих если и нельзя избежать, зато можно в голову не брать. Впрочем, как раз в этом искусстве я еще не поднаторел, хотя до звания подмастерья дошел и вижу все его преимущества.
Дражайшая моя половина бодрей, чем прежде, и по живости заткнет меня за пояс. Постоянные сотрясения диафрагмы и вдыхание бальзамического воздуха на нашем бельведере2 для нее полезнее всяких лекарств. В остальном же — дуда дудит по-прежнему. И все-таки время и привычка облегчают ношу, даже делают ее приятной, а то и просто необходимой. Последнее могла бы подтвердить, конечно, наша с нею разлука.
Парни мои,3 о которых я уже писал, вымахали рослыми, здоровыми и бодрыми: еще чуть-чуть, и было бы, думаю, даже слишком. Конечно, они порядком еще грубы и неотесанны, но время и судьба обтешут там, где я не сумел. Одним словом, надеюсь, что из них получится еще нечто пригодное для человеческого общества.
Чтение и письмо сделались опять моей неодолимой потребностью — и теперь еще сильнее, чем раньше. Пускай это разные пустяки — то, что я царапаю в своем дневнике, или же это старые календари — то, что я штудирую! Однако же не испытываю недостатка в книгах. Если мои скудные средства и не позволяют мне завести собственную библиотеку, вблизи и вдали от меня имеется довольно друзей человечества,4 которые сочувствуют моей жажде знания и моему любопытству и посылают мне безвозмездно все, что только находит дорогу в наш отдаленный Токкенбург. Воздай им, Боже, ныне и присно за такое благодеяние.
Вообще-то, мне выпало счастье, какое мало кому досталось из моего сословия, — пребывать в бедности и вместе с тем не иметь недостатка во всех необходимых потребностях жизни; жить в дальнем романтическом медвежьем углу, в деревянном домишке, который, однако же, призрело Господне око точно так же, как Козерту или Версаль;5 наслаждаться общением с таким множеством добрых людей живых и плодами разума столь многих благомыслящих покойников (бывает, конечно, что и не совсем благомыслящих) — и все это без затрат и без шума. С подобным сокровищем в руках прогуливаться в прекрасной роще среди веселья лесных обитателей и читать как бы в самом сердце наилучших и мудрейших людей всех времен — какое блаженство, какое благодеяние, какое противоядие от массы горьких пилюль, которые мне довелось и еще доведется проглотить!
Надо ли удивляться тому, что в сем любимом своем времяпрепровождении не мог я противиться желанию доверять время от времени свои мысли бумаге, а затем пробовать, сколько возможно, составлять из них нечто единое. Но уж ни за что не пришло бы мне в мою незадачливую голову, что стоит навязывать сию бессвязную болтовню... глубоко уважаемой мною публике, если бы не замечательный наш пастор Имхоф6 (от зорких глаз которого не укроется ничто в нашей большой общине Ваттвейль), заметивший меня, ничтожного, почтивший меня незаслуженным вниманием, а там и своею искренней дружбою и направивший мои шаги как бы со ступени на ступень по дерзновенному пути начинающего — по счастью уже пятидесятичетырехлетнего — писателя. Без прикрас, как она была, так и отдал я, дрожа и колеблясь, свою писанину в полную его волю. Он предполагал тогда поместить ее в «Швейцарском музеуме», который уже несколько лет издавался в Цюрихе; и у меня было твердое намерение по-другому приодеть ее на досуге и, елико возможно, очистить хотя бы от самых грубых ошибок. От этого труда избавил меня, к великому моему удовлетворению (ибо исправление никогда не было моим делом и не станет, думаю, даже и в вечности), издатель оного ежемесячника, друг моего дражайшего пастыря, господин Ф... из Ц...,7 который тем временем (7 июля Ао9* 88), проезжая через наш Токкенбург, удостоил меня краткого, но незабываемого визита вместе со своей милой и доброй госпожою супругою. Жалею лишь о том, что как раз в ту пору из-за одного неприятного происшествия я пребывал в мрачном настроении, которое нельзя было преодолеть никаким благорасположением. Ныне господин сей вознамерился самым любезным образом напечатать отдельным изданием мою невиданную историю, а затем и мои дневники в сокращенном виде и в изящном оформлении. Ну, так тому и быть!
Итак, ступай же в широкий мир, моя книжечка! И поведай о моей простоватости многим смертным ради их исправления. Тем, во-первых, кто отнесется к тебе с некоторой доброжелательностью, передай сердечное спасибо от моего имени. Те же, во-вторых, кто станут хохотать надо мною во все горло, будут все равно благодарны нам за веселье, которое мы им доставили. Тем же, в-третьих, кои хоть и сунут нос в нашу невнятицу, но быстро отшвырнут ее, скажи лишь: «Вы правы, — бывает, что и от чтения воротит!» В-четвертых же и в-пятых: знатоков искусства благодари и благодари без устали! А людям несведущим пожелай земного и вечного блаженства. В-шестых и по-следних: тех из сих судей, как ближних, так и дальних, кто со зла любит ловить блох, полагаю, излишне убеждать, что вина моя, когда я тебя, бедную, выставил напоказ, заключалась лишь в том, что я согласился на это. Им-то на закуску и дарю я следующий ниже «Разговор».