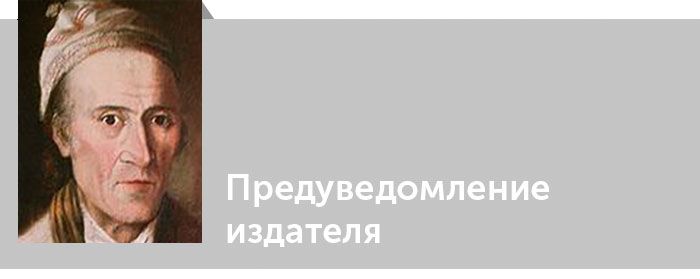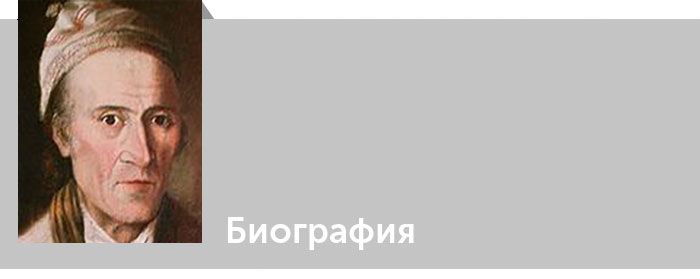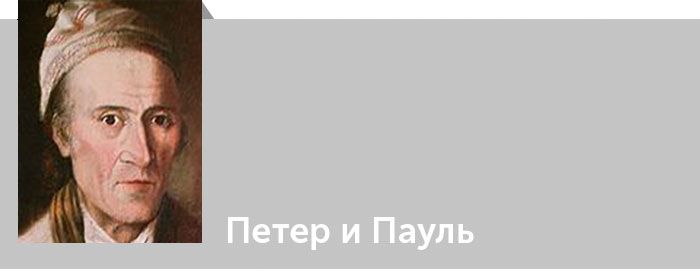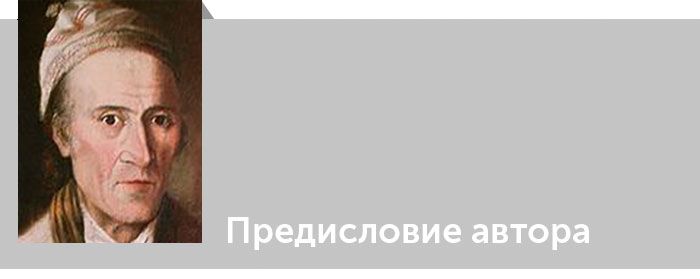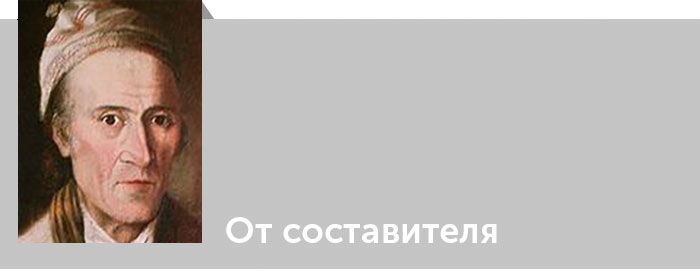Ульрих Брекер. История жизни и подлинные похождения бедного человека из Токкенбурга. Часть первая

I. Мои предки
О них я знаю так мало, как редко кто. Одно достоверно — что были у меня отец с матерью. Моего покойного батюшку знал я многие годы, а матушка еще жива.1 Что и у них имелись родители — можно догадаться. Но мне они неизвестны, и ничего я о них не слыхал, кроме того, что моего деда звали М. Б. из Кебисбодена, а бабка моя (чье имя и откуда она родом не ведаю) умерла при рождении моего отца; поэтому его забрал к себе вместо сына бездетный родственник И. В., живший в Небисе, в общине Ваттвейль;2 его-то и его жену я и считал поэтому своими дедом и бабушкой и любил их, а они, со своей стороны, относились ко мне как к внуку. Деда же и бабку со стороны матери знал я хорошо: это были У. Ц. и Э. В., и жили они около Лаада.3
Мой отец всю свою жизнь был бедным человеком; да и среди моих приятелей богача не найти. Наша семья входит в общество, составившее капитал для стипендий.4 Если бы я или мои наследники захотели послать кого-нибудь из наших парней учиться, то он имел бы право на 600 гульденов. Всего год назад мой двоюродный брат Э.Б. из Капеля был ответственным за стипендии. Однако не слыхивал я, чтобы хоть кто-нибудь из нас, Б., пошел учиться. Отец мой многие годы получал «оброчные деньги», потом, однако, при очередном пересмотре выплат, его вычеркнули из списка вместе с другими семьями, которые не смогли предъявить удовлетворительных письменных свидетельств.5 Что касается нашего участия в капитале для стипендий, то тут все законно, хотя мне толком неизвестно, как его составили, кто из моих предков в этом участвовал и т. п.
Как видите, дети мои, гордиться происхождением нет у нас причин. Все друзья наши и родные — люди необеспеченные, и о предках наших также не слыхал я ничего другого. Почти никто из них не занимал и мало-мальской должности. Брат моего деда состоял церковным служкой в Капеле, а сын его был ответственным за стипендии. Вот и все, что можно сказать о службе нашей большой родни. Так что не грозит нам, я думаю, гордыня, которая часто донимает неразумных бедолаг, имеющих богатых и влиятельных родичей, хотя им от них не перепадает ни гроша. Нет уж! Из нас, Б., этот недуг, слава Богу, насколько я знаю, не мучает никого; и вы видите, дети мои, что и я от него свободен, — иначе я по крайней мере прилежнее занимался бы нашим родословным древом.
Мне известно, что мой дед, как и его родитель, были людьми бедными и лишь кое-как добывали себе пропитание; что отец мой не получил в наследство ни пфеннига;6 что всю жизнь его давила нужда, и он часто вздыхал, сокрушаясь о невеликих своих долгах. Но от этого я нисколько не стыжусь своих родителей и прародителей. Наоборот, я, скорее, даже немного горжусь ими. Ибо, несмотря на бедность, не приходилось мне слышать, чтобы среди них затесался бы какой-нибудь воришка или вообще преступник, которого наказал бы закон, какой-нибудь мошенник, кутила, сквернослов, клеветник и т.п.; не слыхал ни о ком, кого не считали бы добропорядочным человеком; кто не добывал бы хлеб свой добросовестно и честно; кто клянчил бы милостыню.
Напротив, знал я многих действительно славных, благочестивых людей с чуткой совестью. Вот единственное, чем я горжусь и желал бы, чтобы и вы, дети мои, продолжали бы этим гордиться и чтобы мы не посрамили этой славы, но продолжили бы ее в потомстве. Именно об этом хотелось бы мне почаще напоминать вам на страницах моего жизнеописания.
II. День моего рождения (22 декабря 1735 г.)
Для меня — день очень важный. В этом мире я появился, как мне рассказывали, немного раньше, чем положено. Должно быть, виной тому мои родители. Думаю, что еще в материнском чреве сильно захотелось мне повидать свет Божий, — и то, что я всегда тянусь к свету, сделалось моим привычным чувством на все мои дни! Кроме того, я был у моего батюшки первенцем — и за то ему моя благодарность, да будет земля ему пухом!
Он был человек горячий, кровь в нем кипела. О, я тысячу раз думал уже об этом и, случалось, желал бы себе другого родителя, когда начинали бушевать в моей душе пламенные страсти, и мне приходилось вступать в тяжелейшую борьбу с ними. Но стоило только миновать грозе и непогоде, я был ему снова благодарен за унаследованный от него пылкий нрав, который помогал мне гораздо живее, чем многие люди, наслаждаться множеством невинных радостей мира.
Словом, того самого 22-го декабря появился я на свет. Батюшка часто мне рассказывал, что смотреть на меня тогда жалко было: крохотные косточки, едва обтянутые морщинистой кожею. Несмотря на это я орал благим матом день и ночь, так что даже в лесу было слышно и т.д. Эти его рассказы меня злили. «Да ведь все новорожденные донимают так своих родителей!» — говорил я себе. Но матушка неизменно ему поддакивала. Ну, да ладно. На Рождество я был окрещен в Ваттвейле; и мне бывает приятно думать, что это произошло именно в святой день, когда мы празднуем рождение нашего всеблагого Спасителя. Если даже это наивная радость, — что с того, бывают ведь радости и поглупее? Крестными родителями были у меня Г. Г. X. из Капеля, что в Ау, и А.М. М. из Шаматтена; он — жизнерадостный богатый холостяк, она — состоятельная миловидная девица. Он так и умер бессемейным; она жива и теперь вдовствует.1
В первые годы моей жизни меня, скорее всего, немножко баловали, как балуют обычно всех первенцев. Но очень уже рано стал отец браться и за лозу; однако мать и бабушка становились на мою защиту. Дома отец бывал мало; он занимался в нашей округе и по разным окрестным местам варкой селитры. Пока он был в отсутствии, я успевал от него отвыкнуть. Я от него бегал. Это так огорчало доброго моего батюшку, что он придумал вразумлять меня лозою. (Эту глупость совершают многие начинающие отцы, которые из самой искренней любви требуют от детей, чтобы те питали к ним такую же нежную привязанность, как и к матери, И на собственном, и на других отцов опыте я понял, что самая чрезмерная строгость достается первенцам, а там, к последним детям, постепенно она совсем ослабевает).
III. Мои первые воспоминания (1738 г.)
С уверенностью могу в памяти спуститься — или подняться, — к тем временам, когда мне пошел второй год. Отчетливо помню, как сползаю на четвереньках по каменистой тропке, чтобы жестами попросить яблочка у какой-то старушки. Хорошо помню, что не любил спать, и матушка, для того чтобы заработать пару пфеннигов, тайком от деда и бабки, ночами, при свече, пряла лен, а так как я не хотел оставаться один в темной комнате, она расстилала на полу свой передник, сажала меня на него голышом, и я забавлялся тенями и ее веретеном.
Помню, как матушка со мною на руках ходила через луг встречать отца и как я, едва завидев его, подымал истошный вопль, потому что знал, что он станет грубо кричать на меня за то, что я не хочу идти к нему. Его фигуру и его жесты вижу, как сейчас, перед собою.
IV. Какие были времена
В те годы пропитание стоило дешево; но заработки в наших краях были не Бог весть какие. У всех еще на памяти была дороговизна и война двенадцатого года.1 Матушка много рассказывала об этом, и меня страх и дрожь пробирали. Лишь к концу тридцатых годов стали вводить у нас в деревне прядение хлопка; матушка была, думаю, одной из первых, кто взялся «прясть на лоты».2 (Сосед наш А.Ф. сбывал первые порции пряжи на Цюрихском озере по шиллингу, пока не заработал свой дублон. Тогда он сам начал скупать пряжу и так накопил постепенно несколько тысяч гульденов.3 Тут он дело закрыл, ушел на покой и помер). Когда я был ребенком, стали у нас впервые сажать земляные яблоки.4
V. В опасности (1739 г.)
С той поры как мне пошили первые штаны, я стал отцу приятнее. Временами он брал меня с собой. Осенью того года он жег селитру в Гандтене, что от Небиса в получасе ходьбы. Однажды он взял и меня с собой; а тут разразилась непогода с ветром, и он оставил меня у себя на ночь. Селитряный шалаш1 стоял перед самой хижиной, а постель его располагалась в сенях. Он уложил меня и ласково пообещал, что сам скоро ляжет. А сам продолжал раздувать в бурте огонь, и я уснул.
Через какое-то время просыпаюсь, зову его — не отвечает. Тогда я встал, проковылял в рубашонке к костру, обошел вокруг бурта. — Зову, кричу! Отца нигде нет. И я живо вообразил себе, что он отправился домой к матушке. Я торопливо натянул штанишки, набросил на голову шейный платок и побежал сквозь тьму и дождь через примыкавшую к хижине большую луговину. За нею шумел в овраге набухший от дождя поток. Тропы не было видно, а мне надо было во что бы то ни стало перебраться на тот берег и бежать в Небис; я соскользнул по промоине вниз, прямо к ручью, так что едва не свалился в воду. Я напряг все свои детские силенки, — и это спасло меня от падения. На четвереньках выполз я через заросли трав и терновника обратно на луг и стал метаться по нему, не находя нашей хижины. Ветер разорвал облака, и на светлом фоне я заметил вдруг на дереве двух парней, собравшихся, наверное, воровать груши или яблоки. Я крикнул им, чтобы показали мне дорогу. Но — попусту; они приняли меня, должно быть, за нечистую силу, и их трясло от страха на дереве еще сильнее, чем меня, бедного мальчугана, — в грязи под этим деревом.
Между тем отец, который, пока я спал, отправился за какой-то нужной вещью в один из довольно отдаленных домов, возвратился и, не найдя меня, стал искать по всем углам, не спрятался ли я где-нибудь, заглянул со свечой даже в кипящие котелки, но потом наконец услыхал мои вопли, побежал на них и быстро меня отыскал.
О как же он гладил и целовал меня, как плакал от радости и благодарил Бога! Когда мы вернулись в хижину, отмыл меня и обтер, потому что я промок, как мышь, до ушей перемазался в грязи да еще от испуга наделал в штаны... Наутро он провел меня за руку по луговине: он хотел, чтобы я показал ему то место, где я скатился к ручью. Сам я не смог отыскать это место, но отец в конце концов нашел-таки его — по борозде, которую я оставил. Батюшка мой за голову схватился от ужаса, представив себе, каким опасностям я подвергался, и восхвалил Божью длань, которая лишь одна уберегла меня.
— Видишь, — сказал он, — ниже, в нескольких шагах отсюда, ручей падает со скалы. Если б вода потащила тебя, то теперь лежал бы ты внизу, разбитый насмерть!
Я не понял тогда из речей отца ни единого слова; страх свой я помнил, а что такое опасность — не ведал. Но еще долгие годы с особенной ясностью виделись мне те двое на дереве, стоило только кому-нибудь вспомнить хоть словом эту историю.
Господи! Сколько тысяч детишек уже погибли бы самым жалким образом, если бы не оберегали их Твои ангелы-хранители! И мой ангел, как зорко он следил за мною. Славу возношу Тебе за то отныне и до века!
VI. Наши соседи в Небисе
Небис лежит на горе, повыше Шефтенау. Отсюда слышно, как в Капеле звонит колокол и отбивает часы. Здесь всего-то два дома. Когда солнце восходит, его лучи попадают прямиком в их окна. Бабушка моя и хозяйка второго дома были сестрами, две набожные старушки, у которых то и дело собирались все окрестные богомолки. В то время было в нашей округе множество набожных людей.1 Отец, дед и другие мужчины смотрели на это неодобрительно, однако возражать не решались, опасаясь впасть в грех.
Наставником богомольцев был Бееле-молельщик (его брат прозывался Бееле-толстяк), крупный, высокий человек, пробавлявшийся прядением пеньки и кое-какой милостыней. В Шефтенау не было почти ни одного дома, где не обитала бы хоть одна из его приверженок.
Бабушка часто брала меня с собою на такие посиделки. Теперь уже не помню, о чем там, собственно, говорилось; знаю только, что меня там одолевала ужасная скука. Меня заставляли сидеть тихо, как мышка, а то и стоять на коленях. На меня беспрерывно сыпались со всех сторон увещевания и угрозы наказания, а за что — в этом разбирался я не больше, чем какой-нибудь котенок. По временам, однако, деду удавалось вытащить меня оттуда, и мы с ним отправлялись на гору, где паслись наши коровы. Там он показывал мне разных птиц, жучков и червячков, а сам занимался очисткой пастбища или корчевал молодой ельник, кусты дикого можжевельника и прочее.
Когда же дед складывал все в кучу и с наступлением сумерек поджигал ее, то-то было мне радости. Были ли при этом другие ребята — сейчас уже не упомню, припоминаю лишь каких-то девочек-подростков, которые играли со мною. Мне шел тогда шестой год; у меня было двое братьев и одна сестра, про которых мне говорили, что их одна старушка в коробе2 принесла.
VII. Переселение в Дрейшлатт (1741 г.)
Батюшка мой был одержим духом странствий, который я частично унаследовал от него. В том году он купил большой хутор (годный для содержания шести коров в летнее и зимнее время), называвшийся Дрейшлатт, в общине Кринау, за лесом, у самых Альп.1 Наш хуторок в Небисе, который не составлял и половины этого владения, пошел за него в уплату. Отец, как он сам говорил, увидал, что к нему в руки идет большое хозяйство, для того чтобы всем детям хватило места и дела и чтобы он мог воспитывать их по своему усмотрению в этой глуши, где они убереглись бы от мирских соблазнов. Дедушка, который с юных лет был хорошим скотоводом, с готовностью поддержал решение отца.
Но мой добрый батюшка попал-таки пальцем в небо и, не имея средств для вложения в хозяйство, начал все глубже залезать в долги, под бременем которых пришлось ему потом страдать долгие тринадцать лет.
Итак, осенью 41-го отправились мы в Дрейшлатт со всеми нашими пожитками. Дедушка вел скот, я подгонял коров, моего пятимесячного братца несли в коробе за спиной. Мать, бабушка и двое других детей брели следом, а отец со всем остальным скарбом замыкал шествие.
VIII. Хозяйство
Варку селитры отец не хотел оставлять, думая заработать на ней хоть немного для погашения долгов. Но такое хозяйство, как Дрейшлатт, требовало рук и пота. Рассчитывать на нас, детишек, не приходилось; дедушка занимался скотом, а мать — домом. Пришлось нанять работника с работницей. Следующей весною отец опять взялся за селитряное дело. Тем временем мы еще прикупили коров и коз. Дедушка ухаживал за приплодом. Для меня не было большего удовольствия, чем носиться по лугу вместе с козлятами; и не знаю, чему сильнее радовался старик, — мне или же им, когда он, управившись со скотиной, любовался нашими играми.
Едва закончив дойку, он уводил меня в погреб, где стояло молоко, доставал из-за пазухи ломоть хлеба, мелко крошил его в мисочку и делал из парного молока теплую похлебку. Мы с ним хлебали ее каждый день.
Вот так и текло мое время — в беззаботных играх и гулянье, совсем незаметно. Да и дедушка был у меня таким же. Но зато работники — парень и девка делали что хотели. Матушка была женщиной мягкосердечной, не привыкшей строго понуждать кого-то трудиться.
Потребовалось накупить всякой молочной и прочей посуды; а поскольку надо было пускать под пастбище много луговой земли, то пришлось покупать еще и сена и соломы, чтобы навозу было побольше. И все-таки зимою либо кормов было слишком мало, либо животов слишком много. Приходилось занимать деньги; долги накапливались, дети росли, работник с работницей толстели, а отец тощал.
IX. Перемены
Наконец он понял, что так хозяйство не подымешь. И он начал перемены, а именно: отказался от селитроварения, остался дома, стал самолично распределять работу между прислугой и всюду сам поспевал первым. Не знаю — то ли он взялся за дело слишком рьяно, то ли работник с работницей, как я уже говорил, вовсе разленились, но, так или иначе, отработав свой год, они от нас сбежали.
В это самое время занемог дедушка. Как-то он уколол о шип большой палец, и тот стал нарывать. Он приложил к пальцу свежего коровьего навоза, и после этого разнесло у него всю руку. Рука горела огнем, тогда он пошел к роднику и смыл под струей весь навоз. Но от этого ему стало совсем худо. Дедушка слег, и у него сделалась водянка. Пришлось делать прокол; воды оказалось столько, что она натекла в подпол. Пролежав пять месяцев, дедушка скончался — к великому горю всех домашних, потому что все мы, от мала до велика, его любили.
Это был добрый человек, любивший покой и радость. Он сделал бесконечно много для моего отца и для меня; и никогда ни от кого не слыхал я о нем дурного слова. Долгие годы после его смерти отец и мать поминали его только добром. Лишь когда я подрос и набрался кое-какого ума, начал и я вспоминать о нем по-настоящему и стал чтить его прах. Дед похоронен на погосте в Кринау.1
X. Первые последствия смерти деда
Мы опять наняли работницу. Отцу она понравилась, потому что была усердна. Мать же с бабушкой терпеть её не могли, подозревая, что она подлизывается к отцу и ему наушничает. К тому же она страдала часоткой и наградила ею всех нас. Словом, женщины не успокоились, пока ее не прогнали и не нашли другую. Им она подходила, зато отцу — нет, так как знала только домашнюю работу, а не сельскую. Теперь отец был убежден, что она помогает женщинам наводить тень на плетень. И пошли ежедневные ссоры. Женская половина держалась стойко; отец же настаивал на том, что в конце концов в доме он — хозяин. В общем, было похоже, что старый Иоггеле из Небиса1 унес с собою в могилу изрядную долю семейного мира.
С досады отец по временам опять стал ходить на варку селитры, а для присмотра за хозяйством нанял в работники своего брата Н.,2 сочтя, что уж кровный-то родич позаботится обо всем. Однако он обманулся. Продержав его всего лишь год, он как раз вовремя убедился, что права пословица, говорящая: «Не будет в работе ладу без хозяйского пригляду!»
Теперь отец опять был дома, управлял хозяйством, трудился до седьмого пота, сам пас скотину. Я состоял при нем в подручных, так что приходилось здорово вертеться. Работницу он рассчитал и нанял вместо нее мальчишку-козопаса, так как было куплено стадо коз, чтобы удобрять навозом побольше пастбищной и луговой земли.
Женщины между тем хотели утвердить свое первенство в доме, с чем отец примириться не мог. И опять начались свары. Кончилось тем, что однажды, распалясь гневом, отец швырнул в бабушку горшком с овсяным киселем, она от нас ушла и переселилась обратно к своим друзьям в Небис. Дело дошло до местного суда. Отцу было велено выдавать бабушке шесть баценов3 еженедельно да немного коровьего масла в придачу.
Бабушка была маленькой сгорбленной старушкой. Меня она искренне любила, считая как бы за родное дитя. Но, правду сказать, была она немного с причудами, семь пятниц на неделе. Без устали ходила она к тем, кого мы звали смиренниками,4 однако никто из них не был ей по нраву. Каждый год я носил ей парного мяса и оставался у нее на пару дней. Хорошо мне там жилось: вкусного было вволю; а все ее благие наставления в одно мое ухо входили, в другое выходили. Хвалиться тут, конечно, нечем, но ведь у мальчишек, прости Господи, всегда так!
Потом она ослепла, прожила еще несколько лет и умерла от горячки в глубокой старости, в <17>50-м, 51-м или 52-м году.5 Она завещала мне книжку — «Истинное христианство» Арндта.6 Несомненно, была она богобоязненной женщиной, и в Шаматтене очень ее уважали. Тамошние жители и посейчас особенно милы мне в память о ней. И я уверен, что от нее унаследовал я толику счастья, ибо родительское благословение почиет на детях и на детях детей.
XI. Разные разности
Семейство наше все росло. Каждые два года исправно появлялось очередное дитя. Под столом гуляют, а работать некому. Приходилось нанимать уйму поденщиков. Отцу никогда по-настоящему не везло со скотом; все время случалась какая-нибудь напасть. Он считал, что этому виной во многом были нездоровые травы на нашем пастбище. Что ни год, долг превышал доходы. Мы корчевали много леса, чтобы расширить луговины да и заработать деньги на дровах. Но несмотря на это, все глубже влезали в долги, и приходилось жить из кулька в рогожку.
Зимой мы — я и самые старшие из тех детей, кто подрос вслед за мною, — ходили в школу; но она работала в Кринау только десять недель,1 да и из них часть пропадала для нас из-за глубоких снегов. Притом же я был нужен дома для разных дел. Надо было нам начинать по зимам что-нибудь зарабатывать. Батюшка перепробовал всякого рода пряденье: прял лен, пеньку, шелк-сырец, шерсть, хлопок. Обучал он нас и хлопок вычесывать, и чулки вязать и прочему. Однако это приносило мало дохода.
Стол наш все более беднел, зачастую оставалось одно молоко; приходилось жаться да стараться, только бы сэкономить. Почти до самых своих шестнадцати лет я редко ходил в церковь, а если это было летом, то шествовал туда босиком в своем тиковом кафтанишке.2 По весне отцу приходилось делать большие концы со скотиною за сеном и платить за него втридорога.
XII. Мальчишечьи годы
Но все это нисколько меня не печалило. Я об этом знать ничего не знал и был вообще самым легкомысленным мальчишкой на свете. Трижды на дню вспомню о еде — и дело с концом. Стоило только отцу избавить меня от нудной или трудной работы, или же едва я от нее сбегу хоть на часок — мне и ладно.
Летом я бегал по луговине и вдоль ручьев, рвал травы и цветы и делал букеты с веник величиной; шнырял по кустам за птицами, лазал по деревьям, отыскивая гнезда. Или набирал целые кучи ракушек и красивых каменьев. Когда устану, — усядусь на солнышке и ну вырезывать сперва колышки, потом птичек и даже коров. Коровы получали у меня клички, я отгораживал для них пастбище, строил им сарайчики и кормил их; потом продавал то одну, то другую и вырезал еще более красивых. А то, бывало, сооружу печь с очагом и варю отличную кашу из песка и глины.
Зимою я возился в снегу и катался с крутизны то на черепке от разбитой миски, а то и на собственном заду. Так и резвился я в зависимости от времени года, пока не позовет меня отец, свистнув сквозь пальцы, или пока сам я не пойму, что уже все сроки прошли.
Приятелей у меня все еще не было. Правда, в школе я завел знакомство с одним мальчиком, и он часто прибегал ко мне, предлагая за деньги всякие штучки, так как знал, что время от времени мне давали полбацена1 на мои расходы. Однажды он продал мне птичье гнездо, устроенное в мышиной норе. Я заглядывал туда ежедневно. Но в один прекрасный день птенцы улетели. Это расстроило меня больше, чем если бы украли у отца всех коров.
А как-то раз, в воскресенье, он притащил пороха — этого адского зелья я раньше в глаза не видывал, — и научил меня, как делать шутихи.2 Однажды вечером мне пришла в голову мысль: не попробовать ли пострелять? Для этой цели я раздобыл кусок старой железной трубки, что употребляют для проведения струи из родника, один ее конец я залепил глиной и из глины же сделал «полку», на которую высыпал порох и положил тлеющий фитиль. Поскольку ничего не произошло, я дунул... Бабах! Пламя и глина — мне в лицо. Дело было за домом, и я сообразил, конечно, что натворил что-то неладное. Услыхав хлопок, прибежала из дома матушка. Я был изрядно-таки поранен. Она запричитала и потащила меня в комнату. Отец, находившийся в это время выше по горе, на выпасе, заметил вспышку, так как была уже почти ночь. Вернувшись домой, найдя меня в постели и узнав, в чем дело, он сильно рассердился. Но его гнев сразу же остыл, как только отец увидал мою обожженную физиономию.
Мне было очень больно. Однако я старался скрывать это, опасаясь получить еще и трепку и сознавая, что я ее заслужил. Все же отец решил, видно, что с меня хватит. Две недели не видел я ни зги; все ресницы сгорели. Очень опасались за мое лицо. Но мало-помалу, день ото дня мне становилось лучше. И едва только я совсем поправился, отец поступил со мною так же, как фараон с израильтянами,3 а именно заставил меня крепко трудиться, полагая, что это самый верный способ отучить меня от проказ. Он был прав. Но тогда я не мог этого понять и считал его тираном, когда ни свет ни заря он отрывал меня от сна и задавал работу. Мне же казалось, что все это ни к чему, — ведь коровы сами собой молоко дают.
XIII. Описание нашего хутора Дрейшлатта
Дрейшлатт — дикое, пустынное место, за горами Швемле, Крейцегг и Ауэральп;1 когда-то давно здесь было альпийское пастбище. В этих местах всегда короткое лето и долгие зимы; зимой по большей части лежат глубокие снега, достигающие порою даже в мае толщины в пару клафтеров.2 Раз уже на Троицу3 нам пришлось лопатами прокапывать в снегу тропу к дому для новокупленной коровы. В самые короткие дни солнце задерживалось у нас всего на час с четвертью.
Там зарождается наш ручей Ротенбах, который упустили из вида и Фэзи в своей «Географии» и Вальзер на своей карте,4 — и это несмотря на то, что он в два раза больше, чем Швендлибах, он же Ледербах, который крутит немало мукомольных мельниц, лесопилен, льномоек, давилен и пороховых мельниц. Зато в Дрейшлатте самая расчудесная родниковая вода; у нас между жилым домом и вплотную к нему пристроенным сараем имелся свой источник, который, будучи под крышей, никогда не замерзал, так что скотина наша всю зиму не выглядывала наружу. Если уж случалась в Дрейшлатте вьюга, то мело как следует.
У нас был хороший пологий луг на сорок-пятьдесят клафтеров сена,5 и богатый травами выпас. На солнечной стороне гор, в Альтишвейле травы созревают раньше, но там склон круче и туманы гуще.
Дров и соломы — вдоволь. За домом — солнечная поляна, с которой рано сходит снег, тогда как на теневой стороне, перед домом, он, бывало, лежит всю весну, когда за домом уже растет трава и зацветают одуванчики. От одного края до другого весна идет по нашей землице недели четыре.
XIV. Козопас
— Так, так! — сказал однажды отец. — Парень-то растет, жаль только, что он такой дурень и недотепа, каких свет не видывал, да и ума совсем нет. Даешь ему дело, а у него все из рук валится. Ну, так вот, пускай попасет-ка он теперь коз, а нашего козопаса я рассчитаю.
— Ох! — сказала матушка. — Так ты лишишься и коз, и сына. Нет, нет! Он слишком еще мал.
— Что значит «мал»? — сказал отец. — Пора уж решать, сейчас как раз самое время, а козы сами его всему научат, они бывают поумнее мальчишек. А то и не знаю, право, что мне с ним делать.
Матушка:
— Ох, прибавится мне теперь горя и забот. Будет у меня о нем голова болеть! Как посылать такого малыша с гуртом коз в лесную чащобу, где он ни пути, ни дороги не найдет и где попадаются страшные овраги. И кто знает, что за зверье там водится и какая злая непогода может там его застигнуть! Подумай сам, ведь это же целый час ходьбы! В грозу, или в град, или если ночь наступит, — никогда не будем знать, где он. Это меня в могилу сведет, и все — по твоей вине.
Я:
— Нет, матушка, нет! Я — парень не промах, если зверь нападет, я задам ему взбучку, в непогоду спрячусь под скалами, а начнет темнеть — сразу домой; а уж с козами-то я, само собой, управлюсь.
Отец:
— Ну, так слушай! Первую неделю будешь мне ходить с нашим козопасом. Да гляди внимательно, как он все делает, как кличет каждую козу, созывает их и как им свистит, куда он их гоняет, и где им лучше всего пастись.
— Ладно, ладно! — крикнул я, подпрыгивая, а сам подумал: — в лесной чаще будет мне полная воля; отца рядом не будет, и некому будет посвистывать мне, чтобы кончал одну работу и брался за следующую.
И вот несколько дней ходил я с Бекле — так звали нашего мальчишку-козопаса. Это был неотесанный, грубый, но честный парень. Подумать только! Однажды на него пало подозрение в убийстве, потому что на Крейцегге нашли одну старушку, которая убилась, упав, должно быть, на камни. Служитель суда поднял его с постели и отвел в Лихтенштейг.1 Вскоре выяснилось, однако, что парень совершенно ни при чем, и, к моей великой радости, был он в тот же вечер опять дома.
И вот я вступил в свою новую высокую должность. Отцу, в общем-то, не хотелось отпускать Бекле из работников, но тот счел труд свой слишком уж тяжелым и попросил отца отпустить его с миром.
Сперва козы — а их было около тридцати — не желали меня признавать. Это меня разозлило, и я попытался при помощи камней и палки объяснить им, кто здесь главный. Однако они мне это объяснили лучше. Пришлось прибегнуть к доброму слову и к ласке. И они тут же стали вести себя так, как мне хотелось. А то мой способ так их поначалу напугал, что я совсем терял голову, когда они бывало разбегутся по лесу и по кустам, так что ни одной из них не видно, и мне приходится полдня носиться по округе, свистеть и орать, посылать их всех в преисподнюю, ругаться и плакать, пока не удастся снова собрать их всех вместе.
XV. Пути-дороги
Три года пас я свое стадо. Оно все увеличивалось, достигнув наконец ста голов, и становилось мне все милее, как и я — ему. Осенью и весной мы ходили по окрестным горам, забираясь нередко вдаль, часа на два пути. Летом же не позволялось пасти нигде, кроме Угольного леса; эта чащоба тянулась больше чем на час хода, и хорошего пастбища там не было. Приходилось взбираться на склоны Ауэральпа, принадлежавшего монастырю Святой Марии;1 там был лес, рос кустарник и встречались стоянки углежогов, было много глухих оврагов и крутых скал, на которых только и можно было еще найти подходящую траву для коз.
Каждое утро я был вынужден топать около часа от нашего Дрейшлатта, прежде чем хоть одна коза ущипнет травку. Идешь сперва по нашему выгону, потом густым лесом все дальше и дальше, поворачивая туда и сюда, то по тем местам, то по этим, которые все окрестил я особыми именами. Одно место я называл «передней землей», другое — «промеж скал», тут — «белый оползень», там — «сытный скат», «на плитах», «в котле» и другие в таком же роде. Что ни день, то пас я в другом месте, то на солнышке, то в тени. На обед я съедал свой ломоть хлеба и еще что-нибудь, что матушка успеет мне тайком сунуть. Была у меня и своя козочка, которая меня поила. Время я определял по козьим глазам. Под вечер я возвращался домой всегда той же самою дорогой, по какой пришел.
XVI. Пастушьи радости
Какая это радость теплыми летними днями бродить по холмам, пробираться сквозь тенистые кущи, гоняться за белками по кустам и опустошать птичьи гнезда! В полдень мы располагались у ручья, мои козы отдыхали там два-три часа, а в жару и дольше. Я ел свой обед, тянул молоко у своей козочки, купался в кристально чистой воде и затевал игры с козлятами. Со мною всегда был тесак, или маленький топорик, и я валил молодые елочки, ивы или вязы. Набегут всем стадом мои козы и ощипывают листву. А то еще покричу им «лек-лек!», и они прискачут ко мне галопом и обступят меня плотной стенкой.
Все листья и травы, какие им нравились, пробовал на вкус и я, и некоторые оказывались совсем недурными. В течение всего лета поспевали земляника, малина, черника, ежевика — я наедался ими досыта, да еще вечерами, по пути домой, прихватывал их вдоволь для матушки. Превосходное лакомство, если бы только не объелся я им однажды, даже до рвоты.
А сколько радости доставляли мне каждый новый день, каждое новое утро, когда солнышко золотит сперва холмы, на которые я взбираюсь со своим стадом, потом оно освещает горный буковый лес и наконец озаряет луга и лесные поляны! В тысячный раз вспоминаю я все это, и часто кажется мне, что нынче солнце уже не может так сиять. А когда все заросли окрест оглашались торжествующим птичьим пением, и птички начинали порхать вокруг меня, — о, что чувствовал я тогда! Нет, не могу я этого выразить! Сплошное блаженство!
Вместе с птицами распевал я и пускал трели до хрипоты. Иной раз, следя за перелетами этих бойких обитательниц леса от куста к кусту и восхищаясь их нарядным оперением, я мечтал хотя бы немного приручить их, как своих козочек. Я рассматривал их птенцов и яички и дивился хитроумному устройству их гнезд. Я обнаруживал гнезда на земле, во мху, в папоротниках, под старым хворостом, в самой гуще терновника, в расселинах скал, на высоких елях или на буках — зачастую на самом верху, в кроне — обыкновенно на кончике ветки. Вскоре я знал уже некоторые из них. Это было моим любимейшим занятием — хотя бы раз в день заглядывать в каждое, следить, как птенцы растут, как покрываются перышками, как родители кормят их и т. п. — все это приносило мне самую большую радость и занимало почти все мои мысли.
Первое время я относил некоторых птенцов домой или подыскивал им еще какое-нибудь место поудобнее. Но они вскоре погибали. Тогда я решил оставлять все как есть, пусть себе вырастают. Но тут они у меня разлетались.
Не меньше радости приносили мне и мои козы. Они были самой разной расцветки, крупные и поменьше, с короткой шерстью и лохматые, злонравные и добродушные. Каждый день сзывал я их дважды или трижды, для того чтобы пересчитать и убедиться — все ли тут. Я приучил их бежать стремглав из зарослей на мое «цуб-цуб! лек-лек!» Некоторые из них меня особенно любили и за весь день ни разу не отбегали от меня дальше, чем на ружейный выстрел; а если я спрячусь, они подымают невообразимый гвалт. От моей Дуглеэрле (так прозвал я свою полдневную кормилицу) мне удавалось отвязаться только лишь хитростью. Уж она-то была у меня совсем ручной. Стоило мне усесться или прилечь где-нибудь, она сразу становилась надо мною и ждала, чтобы я пососал или надоил молока. И несмотря на это, в хорошее летнее время я пригонял ее домой с полным выменем. Случалось, я доил ее для одного углежога, подле которого я провел немало приятных часов, глядя, как он разрубает лесины или обжигает уголь.
А когда начинает вечереть, какое удовольствие протрубить на дудке своему стаду сигнал к обратному пути, видеть, что вот собрались вместе все козы с раздутыми боками и полным выменем и слушать, как весело они блеют, предвкушая возвращение в хлев! Как я гордился, если отец похвалит меня за то, что хорошо пасу стадо! Потом идет дойка, при ясной погоде — прямо под открытым небом. Каждая из коз старается поскорее избавиться над подойником от тяжкой молочной ноши и благодарно облизывает своего избавителя.
XVII. Горести и тяготы
Но житье пастушонка — не только радость. Далеко не только, Бог свидетель! Есть на что пожаловаться. Самым для меня мучительным всегда было вылезать ни свет ни заря из теплой постели и отправляться раздетым и разутым в холодные поля, когда бывало иней лежит толщиною в руку или густой туман покрывает горы. А если туман этот заляжет так высоко, что сколько ни лезь вверх со своим стадом, пастбища не найдешь да и солнечного луча не увидишь, тогда проклянешь тьму египетскую1 и поспешишь что есть мочи из этого мрака назад вниз, в долину. Но когда удавалось одолеть туман и добраться до места, где светит солнышко и над головою голубеют небеса, а бескрайний океан тумана, из которого выступают там и сям, словно острова, вершины гор, оказывался под ногами, — какую чувствовал я гордость и радость!
По целым дням оставался я тогда в горах и не мог досыта наглядеться на то, как солнечные лучи играют на поверхности этого океана и клубы облаков, меняя свои формы, образуют самые причудливые фигуры, пока под вечер весь этот пар не начинает опять угрожающе подбираться ко мне. Как пригодилась бы мне тут лестница Якова!2 Но делать нечего — надо спускаться.
Мне становилось грустно, и все вокруг печалилось вместе со мною. Одинокие птицы устало и недовольно пролетали надо мной, а толстые осенние мухи так уныло жужжали мне в уши, что хотелось плакать. К тому же мне делалось еще холоднее, чем ранним утром, начинали ныть ступни, хотя они и загрубели не хуже башмачных подметок.
Почти никогда не проходили на руках и ногах у меня ссадины и синяки. И стоило только какой-нибудь ране зажить, как тотчас же появлялась новая — то лихо наступал я на острый камень, то сдирал себе ноготь или лоскут кожи с большого пальца руки или попадал себе по пальцам разными своими инструментами. О том, чтобы сделать перевязку, думалось редко, и дело как-то обходилось.
Как я уже рассказывал, козы доставляли мне поначалу уйму хлопот; они не желали мне подчиняться, потому что я не умел ими командовать. К тому же отец нередко задавал мне трепку за то, что я пас не там, где было велено, а забредал, куда мне хотелось, так что козы приходили домой с недостаточно полным брюхом, или до него доходил слух о моих еще каких-нибудь проделках.
Вообще же, мальчишке-козопасу немало достается от людей. Кто сумеет так усмотреть за козьим стадом, что оно не заглянет к кому-нибудь из соседей на луг или на выпас? Кто исхитрится пройти с оравой этих прожорливых тварей между посевами хлеба и овса, между виноградниками и капустным полем так, чтобы ни одна из них не сунула туда морду? Какая тут разражалась ругань, какие сыпались попреки! «Бездельник!», «Висельник!» — так меня обычно честили. Гонялись за мной и с топором, и с палкой, и с колом от ограды, однажды даже с косою; этот дядька обещал ногу мне отмахнуть. Но я был шустрым, и никому не удавалось меня поймать. Зато провинившихся коз часто ловили и отправляли под арест. Тогда отцу приходилось ходить и вызволять их. И если он считал, что вина — моя, то мне крепко доставалось.
Некоторые наши соседи меня особенно невзлюбили и устраивали мне много разных пакостей. Я тогда мечтал: «Ну, погодите, болваны, вот стану ростом с вас, тогда на вашем горбу отыграюсь». Но все забывается — и это прекрасно. И начинаешь понимать истинный смысл пословицы: «Хочешь жизнь прожить без зла — обходи грабли и козла».
Такая вот и есть пастушеская жизнь — неприятностей хватает. Но дурные дни всегда сменяются хорошими, когда чувствуешь себя королем.
XVIII. Новые опасности
В Угольном лесу рос бук, прямо на высокой, как башня, скале, так что по его стволу можно было вскарабкаться наверх, словно по горной тропке, и заглянуть оттуда в сумрачную глубину ужасной пропасти. В том месте, где начинались ветви, наклонный ствол вновь выпрямлялся кверху. Я часто забирался в это удивительное гнездо, и самым большим моим развлечением было смотреть в страшную бездну и следить, как ручеек, сбегающий неподалеку от меня, рассыпается, низвергаясь, водяной пылью. Но однажды это место приснилось мне ночью, и меня охватил такой ужас, что с той поры я туда ни ногой.
В другой раз пришлось мне пасти своих коз по ту сторону Ауэральпа, на склоне, называемом Сухостой, что напротив Ротенштейна.1 Один из козлят застрял в щели между двух скал и стал жалобно блеять. Я полез ему на помощь. Путь наверх был таким узким и крутым и шел такими зигзагами между валунами, что не видно было ни того, что надо мной, ни того, что внизу, и приходилось то и дело ползти на четвереньках. В конце концов я окончательно застрял. Сверху нависала неприступная скала, под собой я видел почти отвесный обрыв — не знаю уж, какой глубины.
Я принялся кричать и громко молиться изо всех сил. Тут я разглядел, что неподалеку переходят луговину два каких-то человека. Не сомневаюсь, что они меня услыхали, но только посмеялись надо мной и пошли своей дорогою. Тогда я отважился на последнее и решил, что лучше я погибну в одночасье, чем буду оставаться в этом печальном положении, в котором долго продержаться не смогу. Возопив к Богу в тоске и страхе моем, я лег на живот и растопырил руки, для того чтобы хоть как-нибудь задержаться на гладкой скале. Но я страшно обессилел и потому, скользя, полетел вниз стрелой, — к счастью, обрыв оказался не таким высоким, как мне со страху померещилось, — и удивительным образом я так, стоя, и въехал в какую-то расселину, где и смог остановиться. Правда, я исцарапался и одежду разорвал, руки и ноги мои кровоточили. Но каким счастливым я себя чувствовал, оттого что и сам был жив, и руки-ноги целы! Козленок мой тоже спасся — я думаю, благодаря какому-то удачному прыжку: я обнаружил его уже среди остальных коз.
Однажды, когда в один прекрасный летний день я, распевая песенки, путешествовал по округе со своим стадом, вдруг небо к вечеру сплошь затянулось черными тучами, страшно заблистали молнии, и загрохотал гром. Я поспешил к одной из пещер в скалах, — такие пещеры или какая-нибудь разлапистая старая ель всегда в таких случаях служили мне убежищем, — и стал сзывать своих коз. Но они, зная, что почти настало уже время возвращения, решили, что я зову их домой и ринулись прочь сломя голову, так что вскоре я потерял из вида и последний хвостик. Я — за ними. Тут посыпался такой бешеный град, что голова и спина мои загудели от ударов. Бежать пришлось по сплошным камням, я мчался галопом, часто шлепаясь и проезжая изрядные куски пути, как на салазках. Кончилось тем, что в роще, круто спускавшейся по скалам, я совсем не сумел удержаться и съехал на самый краешек обрыва, с которого — не убереги меня Бог и его добрые ангелы — я мог бы полететь на много клафтеров вниз и разбиться вдребезги. Непогода между тем постепенно утихла, и когда я добрался до дому, козы мои были там уже с полчаса.
Несколько дней я не ощущал никаких последствий этого приключения. Но потом у меня вдруг распухли ноги да так, будто их окунули в кипяток. Началась боль. Отец осмотрел меня и на одной из ступней обнаружил глубокую рану, в которую набились мох и трава. Тогда я вспомнил, что напоролся на острый пихтовый сук, и тогда мох и трава попали в рану. Батюшка вычистил все это из раны ножом и наложил повязку. Пришлось мне, правда, поковылять пару дней при моем козьем стаде, а потом повязка потерялась, — и снова в ране оказались сор и грязь, однако вскоре все зажило.
Много раз случалось, когда я пас коз в скалах, что они убегали от меня, забираясь на крутизну, и сталкивали вниз увесистые камни, которые порой свистели у меня над самым ухом.
А не то я и сам залезал высоко на скалы, чтобы сорвать глазок первоцвета, венерин башмачок2 или еще какой-нибудь цветок, и сам мог сломать себе шею. Бывало еще так: подпалю снизу высоченные полузасохшие ели, так что они, поджигая одна другую, горят дней восемь или десять сряду, пока не свалятся. Каждое утро и по вечерам я заворачивал туда поглядеть, как там у них идет дело. Однажды одно из этих деревьев едва меня не зашибло: пока я отгонял коз, чтобы их не задело, оно с треском хлопнулось оземь и разлетелось на куски совсем рядом со мной.
Столь много опасностей грозило мне увечьем и смертью со всех сторон, когда я был пастушонком, но я почти не обращал на них внимания или вообще быстро позабывал о них, и, увы, ни разу мне и в голову не пришло, что ведь это единственно только Ты, всеблагой мой Отец небесный и Хранитель, Ты, который и воронов в дикой пустыне питаешь, заботливо оберегал юную мою жизнь.
XIX. Мои приятели
Отец мой то брался за выделывание козьего сыра, то разводил телят и старался получше унавозить наши выпасы. Это подзадорило и соседей, четверо из которых тоже накупили коз и подали в монастырь прошение, чтобы им также было позволено пасти коз в Угольном лесу. Так что у меня завелись приятели.
Каждый день собиралось нас трое или четверо мальчишек-козопасов. Не хочу судить, был ли я из них лучший или худший, — одно верно, что рядом с ними я выглядел совсем дураком. Пожалуй, только один их них был славным мальчуганом. Все же прочие не могли служить для нас добрым примером. Я сделался немного сообразительнее, но стал еще большим сорванцом. Да и отец был не очень доволен тем, что я с ними якшаюсь и советовал мне лучше пасти коз в одиночку и каждый день — в другом месте. Тем не менее такая компания была для меня слишком внове и слишком уж интересной. И когда я однажды последовал отцовскому совету и услыхал, как остальные мальчишки возятся и вопят, меня будто кто-то за рукав потянул, и я не успокоился, пока не присоединился к ним.
Случались и драки. Тогда я отправлялся по утрам опять пасти в одиночестве или с добрым Якобле. От него я редко слыхал худое слово, и все же с остальными было веселее. Можно было сколько угодно лет пасти себе коз и не узнать и десятой доли всего того, чего я наслушался за короткое время. Все мальчишки были покрупней и постарше меня — почти уже рослые детины, у которых пробудились все дурные наклонности. Что у них ни слово, то всяческая гадость, что ни песенка, то непристойность, так что я слушал эти песни, выпучив глаза и разинув рот, но часто при этом заливаясь краской стыда и не зная, куда глаза девать.
Над моим прежним времяпрепровождением хохотали они до упаду. Птенцы были для них все равно что сор, если только нельзя было выручить за них денежку; в противном случае они выбрасывали их вместе с гнездом. Сперва это меня огорчало, но скоро и я стал поступать точно так же. Одно им никак не удавалось — уговорить меня купаться нагишом, как это делали они.1
Один из них был в особенности редкий скабрезник; он обычно не затевал ссор и драк, но был тем опаснее. Другой готов был на все, на чем можно было заработать хоть бацен. Поэтому он больше остальных любил охотиться на птиц, особенно на тех, которых едят, а еще он выискивал разные целебные травы, древесные смолы, мох для трута2 и все в этом роде. От него я узнал о многих растениях, но также и о том, что такое скаредность. Еще один был несколько получше самых дурных; в проделках он участвовал, но всегда с робостью.
За каждым из них так и сохранились на всю жизнь их пристрастия. Якобле и теперь человек хороший. Второй из мальчишек навсегда остался похотливым болтуном и сделался в конце концов жалким хромцом. Третий все хитрил и ловчил и нажил-таки наконец кое-какое состояние, но при этом ни капли счастья. А четвертый подевался не знаю куда.
XX. Новое удивительное состояние души и конец пастушества
Дома нельзя было ни полслова обронить о том, что я видел и слышал от моих сотоварищей, но не чувствовал я уже больше ни прежней радости, ни душевного покоя. Эти парни разбудили во мне страсти, о каких я прежде знать не знал, — и все же я понимал, что здесь что-то неладно.
Осенью, когда дороги были еще хорошими, я пас коз по большей части в одиночестве; с собой была у меня книжица, которая по одному этому и до сих пор мне дорога и которую я часто почитывал.1 До сих пор помню наизусть разные примечательные места оттуда, которые трогали меня до слез. Тут как раз и представились мне дурные наклонности моей души во всем их безобразии и заставили меня содрогнуться от страха и ужаса. Я молился, ломая руки и обращая взоры к небу, пока не проливались из глаз моих чистые слезы; одна клятва сменялась другой, и я строил такие суровые планы своей будущей праведной жизни, что и белый свет становился мне не мил. Я готов был отказаться от всех житейских радостей и долго вел, к примеру, самую серьезную борьбу с самим собою из-за любимого щегла — отдавать ли его или оставить себе. Об одной этой птахе размышлял я немало и так и сяк. И праведность моя, какой я себе ее тогда воображал, представлялась мне то непреодолимой горою, то делом легче пуха. Моих братьев и сестер хотелось мне любить всем сердцем; однако чем сильнее я желал этого, тем больше находил в них неприятного. Очень скоро я совсем запутался, и не было никого, кто бы мне помог, так как своими пережи-ваниями я не делился ни с одной живой душою.
Я ставил себе в грех все — смех, пение песенок, свист per se.* Надлежало мне перестать злиться на моих коз — но тем сильнее они меня раздражали. Однажды я принес домой мертвую птицу, которую один человек застрелил и повесил на шесте посреди луга. Я снял ее, считая в то мгновение, что поступаю по совести; теперь-то я не сомневаюсь, что на самом деле мне очень понравилось ее редкостное оперение. Когда отец объяснил мне, что сие, между прочим, означает кражу, я горько разревелся — на этот раз искренне — и рано поутру отнес трупик на место. Несколько самых красивых перышек я себе, правда, оставил, но и это стоило мне некоторой внутренней борьбы. При этом я подумал: перья все равно уже выщипаны, и если приставить их обратно, то их унесет ветром, и тому человеку так или иначе не будет от них никакой пользы.
Между тем я опять стал петь и свистать и по-прежнему скитался беззаботно по своим горам. Я рассуждал сам с собою: отвергать сплошь все-все, даже моих самодельных деревянных коровушек — именно так, буквально, представлял я себе тогда истинное христианство — какое же это воистину печальное занятие!
Тем временем Угольный лес все больше и больше заполнялся козами. Мальчишки-козопасы нередко гнали прочь лошадей, что паслись на хорошей траве лесных прогалин, распутывали им ноги и проделывали многое другое. Как-то раз мальчишки прицепили им репья под хвосты, и несколько коней, скача по скалам, расшиблись на смерть.
После сурового разбирательства был наложен полный запрет на всякую пастьбу в лесу. Я продолжал еще некоторое время пасти коз на нашей земле, а затем меня сменил мой брат. Так пришел конец моему пастушеству.
XXI. Новые дела, новые заботы (1747 г.)
Ибо теперь было решено: запрячь его в общий воз вместе с братьями — вырос уже! И вправду отец взялся за меня как следует. В лесу и в поле пришлось мне трудиться как заправскому поденщику. Много раз бывало так, что он перегружал меня работой. Столько силы, сколько он во мне предполагал по моему возрасту, у меня еще не было, но мне хотелось выглядеть сильным, и я брался поднимать любые тяжести.
Вместе с отцом или в обществе поденщиков я трудился охотно. Но стоило отцу поручить мне работать одному, я становился ленивым и нерадивым, глазел по сторонам и давал волю своим мыслям и фантазиям. Свободное житье козопаса совсем меня избаловало. Теперь оно обернулось для меня изрядным количеством попреков, а то и тычков, — и подобные строгости были необходимы, хотя тогда я не умел этого понять.
Особенно в пору сенокоса приходилось иногда работать сверх всякой меры. Свалишься, бывало, от усталости ничком на землю, обливаясь потом, и думаешь: «Неужто на всем белом свете все так мучаются? Не задать ли деру отсюда прямо сейчас? Ведь найдется же для меня и в других местах кусок хлеба, не пропаду небось». Когда я пас коз на Крейцэгге, я встречал там таких парней, которые втолковывали мне, что им и в чужих краях очень неплохо жилось, и всякое такое. Но тут же приходила мысль: «Нет! Грех это — покидать мать и отца. А что если бы выкупить у них кусок земли, работать на ней, заработать денег, построить на доходы домик и жить себе да поживать?»
— Решено! — сказал я однажды сам себе. — Время пришло! А вдруг батюшка откажет? Эх, была-не была!
И вот, как следует набравшись духа, я в тот же вечер обратился к отцу и попросил его уступить мне такой-то кусочек земли. Конечно, он сразу увидел всю глупость моей затеи, однако вида не подал и только спросил, что же я с нею собираюсь делать.
— Как это — что? — отвечал я. — Ходить за ней, превратить ее в тучный луг и доход с нее копить.
Не тратя лишних слов, отец тогда сказал:
— Ну, так бери себе Дальний выпас; отдаю тебе его за пять гульденов.
Это было почти что даром. У нас в В.1 такой участок земли стоил больше сотни гульденов. Я подпрыгнул от радости чуть ли не до потолка и немедленно принялся за новое хозяйство. Днем я работал на отца, а едва вечером освобожусь — работаю на себя. Даже при лунном свете я выкладывал из нарубленного засветло леса и хвороста небольшие поленницы дров для продажи.
Однажды под вечер я стал размышлять о своем нынешнем положении и сообразил следующее: «Твой Дальний выпас достался тебе почти бесплатно! Отец может одуматься и забрать его обратно, если ты не выложишь ему наличные за покупку. Надо поискать денег, чтобы не остаться тебе ни с чем». И я отправился к соседу Гёргу, объяснил ему, в чем дело, и попросил в долг пять флоринов;2 до возврата долга, сказал я, отдаю ему свою землю в заклад. Он выложил деньги, не задумываясь. Совершенно счастливый, я прибежал к отцу, намереваясь тут же расплатиться. Но, о ужас! Как он оборвал меня!
— Откуда деньги?!
Еще немного — и к этому прибавилась бы пара оплеух. В первое мгновение я не понял, что же именно так сильно его рассердило. Но он сразу просветил меня, когда вскричал:
— Ах ты, бездельник! Закладывать мою землю!
Он вырвал у меня из рук те пять гульденов, помчался к Гёргу и возвратил их ему с настоятельной просьбой, чтобы он, упаси Боже, никогда больше не одалживал денег этому мальчишке; сколько ему нужно — он, отец, даст ему сам и т.п. На том моя короткая радость и кончилась.
Батюшка, несколько поостыв, долго внушал мне, что никакой платы за землю он от меня не требует; довольно будет и малого процента с дохода, ведь этот «остатний» выпас все равно погоды не делает, и я могу хозяйничать на нем как на своей собственной земле. Мне в это верилось с трудом, потому что отец при этом неизменно про себя посмеивался. И это было мне подозрительно. Но у отца имелись на то веские причины.
Наконец стал я, дурачок-простачок, понемногу успокаиваться. И опять взялся подсчитывать синиц в небе — сколько с моего пятачка извлеку я со временем пользы, пока в один прекрасный день не вторглось на мое полюшко стадо коров и не сожрало все зеленя, а на мои дрова так и не нашлось тогда покупателя, и почти все осталось лежать без пользы там, где было. Все эти несчастья, навалившись разом, совсем меня обескуражили. Свое разоренное владение я возвратил отцу и в утешение получил от него подарок — фланелевый шейный платок.
XXII. О, злополучная любознательность!
В детские свои годы я ходил в школу всего пару недель; однако дома не было у меня недостатка в старании учиться. Заучить что-нибудь наизусть не составляло для меня ровно никакого труда. Особенно прилежно я штудировал Библию, многие истории оттуда мог пересказать без запинки и вообще примечал все, что могло прибавить мне знаний.
Мой отец любил почитать что-нибудь историческое или мистическое. Как раз в это время вышла книга под заглавием «Беглый патер».1 Вместе с нашим соседом Гансом отец проводил над нею многие часы, и они оба верили, как в Евангелие, в предсказанное там явление Антихриста и в Страшный Суд, за которым должен последовать конец света.
И я также прочел в этой книжке многие страницы и долгими вечерами, бывало, проповедовал некоторым соседям из этого «Патера», прижимая ладонь ко лбу с выражением благоговейного ужаса и выдавая все за чистую монету, причем и сам я во все это свято верил.
Мне не могло и в голову прийти, что некий человек стал бы писать книгу, в которой не все было чистою правдой. А поскольку ни отец, ни Ганс не сомневались в ней, то и для меня это было так, а не иначе — и аминь.
Но именно это и навело меня на разные горестные размышления. Хотелось бы приуготовить себя надлежащим образом к предстоящему Страшному Суду, однако это оказалось неимоверно трудным делом — и не столько из-за моего дурного поведения и всяческого небрежения, сколько по причине моих дурных душевных наклонностей и мыслей. Желал бы я все это выбросить из головы, ан нет. Особенно если прочесть «Откровение» Иоанна или книгу пророка Даниила,2 то поверишь в справедливость и непогрешимость всего, что написал этот патер. Но хуже всего было то, что эта убежденность лишила меня всякой радости и бодрости. Видя, что батюшка и сосед стали, казалось бы, даже веселее, чем прежде, я вовсе утратил мужество, и не могу объяснить себе и по сей день, как это у них получилось. Догадываюсь, что оба они сидели в то время по уши в долгах и надеялись, вероятно, при конце света от них освободиться. Во всяком случае мне приходилось частенько слышать, как они рассуждают о каких-то Новом Фунденланде, Каролине, Пенсильвани и Виргини;3 а то и вовсе заговорят о бегстве, об исходе из Вавилона,4 о плате за дорогу и обо всем таком. Тут-то у меня и ушки на макушке, как у зайца.
Помню, однажды мне действительно попался в руки печатный листок, оставленный на столе кем-то из них, со сведениями о названных землях. Я перечитывал его, наверное, сотню раз, и сердце прыгало у меня в груди при мысли об этом прекрасном Ханаане,5 как я его себе воображал. «Ах! если бы всем нам очутиться там», — думалось мне тогда. Да ведь наши-то добрые люди, — как я теперь понимаю, не больше моего знали о путях-дорогах — как добраться туда и, по-видимому, еще меньше о том, где взять на это денег. И заманчивое предприятие застопорилось, а мысль о нем со временем сама по себе сошла на нет.
Между тем я прилежно читал Библию, а еще прилежнее — своего «Патера» и другие книги и среди них — так называемого Пантли Каррера,6 а также еще один светский песенник, заглавие которого я запамятовал. Впрочем, обыкновенно я не скоро забывал прочитанное. И мое беспокойство заметно возрастало от всего этого, как ни старался я разными способами рассеяться. И самым печальным было то, что ни разу не набрался я смелости открыть пастору или хотя бы отцу даже малую толику своих забот.
XXIII. Наставник (1752 г.)
Подчас меня весьма удивляло то, что думали мой отец или пастор о том или ином изречении Библии, о той или иной книжке. Пастор нередко навещал нас, даже в зимнее время, когда ему случалось порою и в снегу увязнуть.
Тут я с большим вниманием вслушивался в разговоры и заметил вскоре, что собеседники придерживались большей частью далеко не единого мнения. Сперва казалось мне немыслимым, как это мой батюшка осмеливается возражать пастору! Но, с другой стороны, думалось: ведь мой отец, да еще в компании с «Беглым патером», не могут быть глупцами, и доводы свои они черпают, как и пастор, из той же самой Библии. Так и металась моя душа во все стороны, пока я не забывался и не увлекался другими фантазиями.
Между тем в том же году меня отправили к этому пастору, Генриху Нефу1 из Цюриха, для наставления перед принятием святого причастия. Он обучал меня очень хорошо и основательно, и я от всей души полюбил его. Часто я долгими часами пересказывал отцу все то, о чем он беседовал со мною; мне казалось, что и отца это должно трогать так же, как трогало меня. Иногда, чтобы меня успокоить, он выражал нечто подобное. Но я хорошо видел, что это ему не совсем по сердцу, хотя и было заметно, что вообще-то ему нравятся мои чувства и мое прилежание. Потом этот Генрих Неф стал пастором в Хумбрехтиконе на Цюрихском озере,2 а впоследствии перебрался еще ближе к Цюриху. Но и по сей день моя любовь к нему не остыла. Сотни раз с трогательным чувством возвращаюсь я в душе к этому доброму человеку с его благомыслием и рвением, вспоминаю его полные любви наставления, которые лились из его благочестивых уст и которые сердце мое, тогда несомненно мягкое и доступное всему доброму, впитывало так жадно.
XXIV. Новые приятели
Собственно говоря, в маленьком Кринау, в вышеупомянутом 1752 году, у пастора в обучении был кроме меня еще только один мальчуган. Звали его Г.Б. и был он огненно-рыжим увальнем. Когда учитель задавал ему какой-нибудь вопрос, парень неизменно обращал ухо ко мне, чтобы я подсказал ему ответ. Хоть сто раз ему повторяй, он сто раз позабудет. В день святого причастия, когда нас представили общине, он и вовсе замолк. Поэтому пришлось мне одному отвечать почти на все вопросы, с двух до пяти часов.
Годом раньше состоял в обучении другой мальчик — И. В., который назубок знал Библию и Катехизис.1 С ним-то я и свел знакомство в это время. И хотя он был нехорош собой, — оспа потрудилась над ним как следует, — но, вообще-то, мальчик он был просто золото. Отец у него был любителем поговорить и много чего ему порассказал, однако не считался хорошим человеком и был известен как заведомый лгун. Он часами мог вам рассказывать о самых невероятных вещах, каких и на свете-то сроду не бывало. Имя его обратилось у нас в пословицу, и когда кто-то заявит что-нибудь невероятное, то говорили: «Вот так В. — враль!»
Малыш И. не унаследовал никаких грехов своего отца и менее всего — лживость. Все любили его. Для меня он был светом в окошке. Мы стали обмениваться записками о разных разностях, писали друг для друга загадки или стихи из Библии, не указывая, из какого места они взяты; каждому из нас надо было потом самому порыться в книге. Часто это было трудным, почти невыполнимым делом, в особенности — в «Псалмах» и «Пророках»,2 где стихи по большей части удивительно кратки, и многие звучат почти одинаково. Иногда мы описывали друг другу всех тех животных, которые нам больше всего нравились, а то и различные блюда, которые мы считали самыми вкусными, и еще — одежды, ткани и цвета их, которые были нам приятнее всего, и т.п. И каждый из нас старался превзойти другого в красоте выражений. Бывало, едва могу дождаться, пока придет от моего В. такое письмецо. По письмам он был мне еще милей, чем даже в своем живом обличье. Так продолжалось много времени и до тех пор, пока один бессовестный сосед не принялся болтать про него всякую дрянь. И хотя я в это не поверил, симпатия моя к нему убавилась (все-таки это — удивительное дело!) с того самого мгновения. Через пару лет после всего этого (и, может быть, к счастью для нас обоих) он тяжело заболел и умер.
У другого нашего соседа — Г. — тоже были дети моего возраста. Но с ними дело не сладилось; для меня они были слишком уж бойкими, обо всем выспрашивали и всюду совали свой нос.
Около этого времени мой сосед Иогли продал мне тайком за три крейцера3 курительную трубку и научил меня пускать дым. Долго был я вынужден заниматься этим скрытно, пока однажды зубная боль не дала мне повод продолжить это занятие в открытую. И — вот глупец! — я немало этим гордился.
XXV. Тогдашние семейные дела
Тем временем в нашем семействе стало восемь детей. Отец все глубже залезал в долги, так что порою не знал, на каком он свете. Мне ничего не говорилось, но с матушкой он часами держал тайный совет. Однажды донеслось и до меня несколько слов, и я кое-как уразумел наше положение.
Все это меня, впрочем, мало беспокоило; я легкомысленно витал в своем детском мире, предоставляя своим бедным родителям самим ломать голову над множеством несбыточных планов. Среди них один — путешествие в «землю обетованную»,1 к моему глубокому огорчению, развеялся в дым. В конце концов, отец решился предоставить все свое добро на милость кредиторов. И вот однажды он созвал их всех и, с тоскою, но чистосердечно обрисовав им свое положение, попросил их ради всего святого вступить во владение домом и подворьем, скотом, инвентарем и посудой и, если потребуется, снять с него, с его жены и детей последнюю рубаху; он скажет только спасибо, если они освободят его от непосильной ноши.
Большинство из них (и даже те, кто приступал к отцу с самыми жесткими требованиями) были поражены этими словами. Вникнув в расход и приход, они вывели итог, что дела обстоят далеко не так плохо, как они раньше полагали. И они ответили отцу в один голос, что ему не следует так убиваться, что надо набраться мужества, смело бороться с судьбой и вести свое хозяйство с прежним усердием, а они охотно подождут, да еще будут от души готовы поддержать его советом и иной помощью; у него-де полон дом здоровых ребятишек, которые растут день ото дня и скоро смогут стать ему подспорьем; иначе куда ему податься в этом мире со всею этой несчастною оравой и проч. и проч.
Однако отец мой все время перебивал их добрые и сострадательные речи:
— Нет, нет, ради Бога! Снимите с меня это проклятое бремя, а то жизнь мне совсем опостылела! Уж тринадцать лет как я все жду, что дела мои поправятся, — и все без толку. Словом, с этим хозяйством нет мне ни счастья, ни удачи. Соленым потом и бессонными ночами платил я лишь за то, чтобы все глубже залезать в долги. Чего я только ни затевал, но сколько ни мучил себя прикидками да урезками, голодом да нуждою, трудом до кровавых мозолей — ничего мне, как видите, не помогло. Особенно неудачлив я был в скотоводстве. Ежели продавал своих коров, для того чтобы можно было пустить с торгов и сено и так заплатить налоги, то вместе со всем семейством, которое, кроме как за труд по хозяйству, не могло заработать и крейцера, мы оставались без пропитания, пока не пущу тотчас же на еду половину выручки. С самого начала пришлось нанимать поденщиков, брать в долг и перебиваться из кулька в рогожку. Так и дошел до того, что руки опустились. И вот, Бога ради, перед вами все мое добро. Берите, что хотите, и отпустите меня с миром на все четыре стороны. С моими старшими авось удастся мне заработать для всех нас на кусок хлеба. И кто знает, какую будущность уготовил нам Господь наш милосердный!
После того как кредиторы убедились до конца, что ничего с моим отцом не поделаешь, они забрали Дрейшлатт со всем хозяйством в совместное владение, назначили управляющего и, сделав новый пересчет, снова пришли к выводу, что никаких особенно больших убытков не усматривается. Поэтому они не только вернули бедному моему батюшке все домашнее имущество, челнок и станок,2 но и попросили его оставаться во владении участком, пока не найдется покупатель, и обрабатывать его за более низкую аренду. Хозяйство же состояло из вместительного дома с достаточным запасом дров, из огороженного выгона на восемь коров, из огорода и поля для разных посевов в меру наших сил и возможностей.
И опять отец почувствовал себя на седьмом небе. Но что особенно радовало его, так это то, что прежние его заимодавцы были еще довольнее, чем он, и с этой самой минуты ни один из них при виде его уже больше ни разу не скорчил мрачной физиономии.
Год прошел довольно благополучно, и нам удалось кроме обычной работы по хозяйству выкроить еще часть времени для селитряного дела, которое и мне пришлось изучить, когда у отца однажды разболелась нога и он всерьез был вынужден слечь. В конце концов, господину доктору Мюллеру из Шоматтена3 удалось вылечить отца, что он сделал не только совсем бесплатно, но и сам еще подарил нам деньги. Небеса воздадут ему за это сторицей.
Тем временем объявился покупатель на Дрейшлатт. В сущности, мы все были рады покинуть эту глушь; а я — больше всех, потому что надеялся на то, что теперь и вовсе придет конец тяжкому труду. Как я обманулся — будет видно далее.
XXVI. Переселение в Штейг под Ваттвилем (1754 г.)
И вот, в середине марта этого года, двинулись мы со всеми пожитками прочь из Дрейшлатта, послав этому дикому месту наше последнее «Прощай навек!» Там лежал еще снег в клафтер глубиной. Не могло быть и речи о том, чтобы воспользоваться быком или лошадью. Пришлось нам самим тащить за собою сани с домашним скарбом и младшими детьми. Свои сани я волок, как конь, так что свалился наконец почти бездыханным. Но желание поменять место нашего жительства, пожить наконец-то в долине, в деревне, среди людей, скрашивало мне трудную дорогу.
Мы прибыли. Здесь и есть, должно быть, настоящий Ханаан, подумалось мне, так как из-под снега уже выглядывала трава. На маленьком клочке земли, сданном нам в аренду, росло много больших деревьев, а среди них бежал приятный ручеек. В саду я приметил сливу-мирабель.1 От дома открывался красивый вид на верхнюю часть долины. В остальном, однако, это была темная, вся черная от копоти, изъеденная жучком хижина! Полы и ступени всюду прогнили; во всех комнатках неимоверная грязь и вонь. Но это было бы еще ничего, если бы в доме не обитала живая его принадлежность — отвратительный нищий, который напивался, как только соберет у церкви гроши и купит на них вина. Напившись, он раздевался и в чем мать родила скакал по дому и свистел. Стоило нам сказать хоть слово ему в укор, он принимался ругаться и вопить, как одержимый. За это он, правда, получал, и не раз, ремнем из бычьей кожи, но делался от этого только еще злее. Это чудовище, помимо всего прочего, было очень неравнодушно к мальчишкам и пыталось — фу, меня еще и сейчас передергивает! — и меня схватить. Мне было это все внове, и я рассказал отцу, не упомянув, впрочем, о приставаниях. Отец и растолковал мне, где собака зарыта. И с этих пор я чувствовал к этому скоту такое отвращение, что каждая жилка у меня дрожит, едва я его завижу.
XXVII. Испытание Господне
Через несколько дней после нашего переселения напала на меня жестокая лихорадка. Явилась ли причиною несчастья внезапная смена свежего горного воздуха на воздух низины или же нечистота жилища, или болезнь угнездилась в моем теле еще раньше, или, наконец, она была вызвана чувством омерзения по отношению к гадкому страшилищу — не ведаю. Одно знаю, что до этого времени никакими немощами никогда не страдал, разве что голова слегка поболит или зубы.
Призвали славного доктора Мюллера; он распорядился пустить мне дважды кровь, но с первого же взгляда на меня высказал сомнение в том, что я выкарабкаюсь. На третий день мне показалось, что конец мой предрешен, ибо бедная моя голова грозила расколоться от боли. Я метался, стонал, извивался ужом и испытывал адский страх: смерть и вечность представлялись мне чем-то ужасающим. Перед отцом, который от меня почти не отходил и часто оставался один у моей постели, я покаялся в одно из таких мгновений во всем, что лежало у меня на душе; особенно это касалось упомянутого злодея, который меня изрядно перепугал. Добрый мой батюшка ужаснулся и стал выспрашивать у меня, не творил ли я с этим скотом чего-нибудь дурного.
— Нет, конечно, нет, отец! — отвечал я, всхлипывая. — Однако злодей все время меня уговаривал, а я тебе этого не сказал. Вот это, боюсь я, и есть великий грех.
— Успокойся, сынок! — заверил меня отец. — Положись в душе на Бога. Он милосерд и простит тебе твои прегрешения.
Одного этого слова утешения хватило, чтобы вдохнуть в меня новую жизнь. О, как горячо клялся я себе стать с этого момента совсем другим человеком, коль скоро мне суждено и далее пребывать на сей земле. Правда, болезнь не раз еще возвращалась: однажды я пролежал целые сутки без сознания, но это был уже кризис. Очнувшись, я снова почувствовал боль, но уже не такую сильную, а самое главное — тяжкие, пугающие мысли совершенно исчезли. Доктор начал обретать надежду, да и я — не менее того. Короче говоря, пошли дни постепенного выздоровления, пока я (вечное благодарение Господу Богу и мудрому моему доктору!), через несколько недель, не стал на ноги окончательно.
Однако тот скотоподобный человечишко, который обретался в нашем доме и которого мы были вынуждены терпеть, стал мне еще отвратительней, чем прежде. Меня и всех моих братьев и сестер он осыпал самыми мерзкими ругательствами. Во время моей болезни он нередко говорил мне прямо в лицо, что я выродок и притворщик, а вовсе не больной и что надо бы вместо лекарств прописать мне розог, и тому подобное.
Я изо всех сил умолял отца сбыть эту тварь с нашей шеи, иначе мне никогда в жизни не выздороветь. Однако это было невозможно: так просто никто не собирался освобождать нас от нее.1 Когда же нам и вовсе становилось невмоготу, мы отделывали ее, как я уже сказал, плетью. Но по прошествии времени никто уже не хотел браться за это дело, поскольку все опасались этой твари, как злого духа. Добрым словом еще как-то удавалось ее пронять. Но что мне казалось жесточайшим испытанием, так это субботние вечера, которые мне и моим сестрам и братьям приходилось проводить в обществе этого скота за чесанием или прядением хлопка. И как только наступило лето, я стал спасаться тем, что делал свою работу, если позволяла погода, на открытом воздухе.
XXVIII. Поденщик
— Возблагодари Создателя! — сказал мне отец однажды. — Он внял твоему гласу и одарил тебя жизнью заново. Хотя, должен признаться, я думал по-другому, чем ты, Ули, и не считал бы тебя несчастным, если бы ты покинул этот мир. Ибо, ах! — большие детки — большие бедки! Дом наш битком набит. И нет у меня никаких средств. И ни один из вас еще не умеет добывать себе хлеб насущный. Ты — самый старший. За что бы тебе приняться? Сидеть в комнате да возиться с хлопком ты, я вижу, никак не расположен. Придется тебе податься в поденщики.
— Как скажешь, батюшка! — отвечал я. — По мне так лишь бы не торчать за печкою!
Мы быстро пришли к соглашению. Тогдашний служитель при замке1 Вейбель К. взял меня в работники. После болезни я был еще довольно слаб. Но хозяин, человек рассудительный и неизменно благодушный, проявлял ко мне полное снисхождение, тем более что у него имелись и свои мальчишки такого же помола.
Большую часть времени он отсутствовал по делам своей должности; в это время, правда, все шло через пень-колоду. Платил он мне самую малость, а хозяйка его часто не давала нам роздыха почти до десяти часов вечера. Работали мы много, но и кормили нас самым наилучшим образом. По временам мы приносили в подарок хозяину дичь — птицу или рыбу. Это ему очень нравилось.
Как-то раз мы раздобыли целое гнездо с вороньим выводком. Супруга приготовила из воронят аппетитное блюдо для хозяина. С огромным удовольствием он уничтожил всех птичек до единой. Но вдруг у него в желудке разразилась буря. Вскочив со стула, бледный, как смерть, стал он бегать по комнате взад и вперед, а там валялись еще на полу ножки и перышки. Немного погодя он зарычал на нас, мальчишек, с комическим гневом:
— А ну-ка, уберите с глаз моих долой всю эту падаль, а не то я выблюю на вас, разрази меня гром, всю вашу дичь. Попробовал я этих черных выродков один раз, — и с меня хватит!
Затем этот весельчак улегся в постель, пропотел как следует, и все прошло.
Мой брат Якоб2 в это время также нанялся в работники. Младшие же, в часы свободные от школы, были вынуждены заниматься прядением. Из них один — Георг3 был особенным сорванцом. Бывало, думают, что он сидит за своей самопрялкой,4 а он — уже на дереве или на крыше и дразнится оттуда:
— Ку-ку!
— Ах, ты, лентяй ты этакий! — сердится на него матушка, увидев его снизу. А он в ответ:
— Спущусь, только если бить не станешь. А то заберусь от тебя на самое небо!
Что тут поделаешь! Так и заканчивается все веселым смехом.
XXIX. Как! Уже фантазии в голове?
А почему бы и нет! Уж если вступаешь в свой двадцатый год, то должен знать, что человеки подразделяются на два пола.
У Вейбеля была премиленькая дочка, пугливая, однако, как зайчик. Едва завижу ее, чувствую радость, но не могу понять — отчего. Через несколько лет она вышла замуж за какого-то проходимца, который наградил ее кучей ребятишек и в конце концов дал, подлец, тягу из наших краев. Бедняжка!
А еще у нашего соседа Ули была падчерица Анхен;1 я встречал ее каждое воскресенье. И всякий раз ныло у меня сердце. И опять не знал я — в чем дело. Наверное, думал я, потому, что она такая красавица. Ничего иного мне и в голову не могло прийти.
По воскресным дням, ближе к вечеру, мы устраивали — молодых парней было вдосталь — хороводы, цепочку, вари-овес, прятанье башмака и прочее.2 Я попал в какой-то новый для меня мир; не то, что в безлюдном Дрейшлатте. И вот я замечаю, что Анхен, пожалуй, ко мне благосклонна, но соображаю, что у нее, конечно же, имеются уже ухажеры. А тут как-то матушка моя не утерпела да и скажи мне, не без некоторой гордости, что я понравился Анхен. Эта новость пробежала огнем по всем моим жилочкам. До той поры я считал, что родители не позволят, чтобы я, такой еще недоросток, заводил знакомство с чужими девицами. Но теперь (как опасно вводить людей в заблуждение опрометчивым словом!) из матушкиных речей я ясно уразумел, что могу отважиться на нечто подобное. И хотя я ничего не предпринимал, но тем больше радовался в душе, что двери в веселый мир юности отныне мне открыты.
С этого времени, разумеется, при любой возможности я старался посылать Анхен самые красноречивые взгляды; однако на то, чтобы найти для нее какие-нибудь слова о любви, — на такое я, кажется, не отважился бы за все сокровища мира.
Однажды мне позволили сходить на масленичную ярмарку. Перед этим я долго ломал голову над тем, не позвать ли ее в кабачок при ратуше на стаканчик вина. Но это представлялось мне пределом отваги.
В кабачке я увидал ее среди танцующих. Думаю, что даже у Ирода так не билось сердце при виде пляшущей дочери Иродиады!3 Ах, какая красивая, тоненькая, славная девчоночка в своем очаровательном цюрхбитлерском наряде!4 Как мило золотые косы обрамляют ее личико!
Я пристроился в уголке, чтобы незаметно наслаждаться видом ее. Себе я говорил:
— Нет, никогда в жизни не видать тебе, недотепа, такого счастья, не станет твоим это создание! Слишком, слишком уж она для тебя хороша! Сто парней, да и получше тебя, уведут ее с собой — ты и оглянуться не успеешь.
Так продолжал я рассуждать, как вдруг Анхен, приметившая меня и мою робость, думаю, уже некоторое время назад, приблизилась ко мне, дружески взяла за руку и сказала:
— Ули, пройдись со мною разок по кругу!
Покраснев до ушей, я отвечал:
— Не могу, Анхен, никак не могу!
— Ну, тогда заплати хоть за стопочку, — проговорила она тогда в насмешку или серьезно — уж не знаю.
— Ты это не всерьез, вертушка,— сказал я в ответ.
А она:
— Клянусь душою, всерьез!
Я побледнел:
— Клянусь душою, Анхен, сегодня я не могу! В другой раз. Право же, я бы всем сердцем, да нельзя!
Этот ответ, наверное, ее слегка обидел; однако она не подала вида, равнодушно повернулась и занялась своими делами. И мне оставалось сделать то же самое, — послонявшись еще сколько-то времени по углам, я отправился наконец, как и все прочие, восвояси.
Не сомневаюсь — Анхен обратила на меня свое внимание. Однажды, неподалеку от деревни, она догнала меня.
— Ули, а Ули! Вот мы и одни. Пошли к Зеппу, закажи для меня стопочку!
— Как хочешь, — ответил я.
Несколько минут мы шли по дороге молча.
— Анхен, Анхен! — начал я говорить. — Должен откровенно признаться тебе, что денег у меня нету. Батюшка дает мне на расходы не больше, чем на кружку пива, да и те я уже потратил в городе. Поверь, я бы всем сердцем, а после проводил бы тебя до дома! Эх! Но от отца мне бы тогда все равно досталось. Право же, Анхен, все это для меня впервые. Никогда еще не осмеливался я пригласить девушку на стаканчик вина. А сейчас мне так хотелось бы этого — и как раз пригласить именно тебя, больше, чем какую-либо другую в целом свете. Но умоляю — поверь, — не могу я этого, нельзя мне. Потом смогу, право же. Погоди немножко, пока я смогу и пока деньги у меня будут.
— Брось, дурачок! — возразила Анхен. — Твой отец ни слова не скажет, а с матушкой я сама как-нибудь разберусь: уж я-то знаю, куда ветер дует. Деньги? Что мне деньги! Не в вине дело и не в деньгах! Погляди-ка (она сунула руку в свой кошелек), тебе тут с лихвой хватит, я думаю, заплатить, как по обычаю положено. Мне все равно — кто платит, я и сама заплатила бы за тебя, если бы это позволялось.
Так-то вот! Я стоял столбом и таял, словно масло на солнышке. Потом я протянул Анхен руку, млея и дрожа, и мы так и прошествовали по деревне к «Ангелу». Туман и тьма стояли у меня перед глазами, когда мы ступили на порог кабачка; народу за столами было много, и каждый, хотя бы на миг, скользнул по нам взглядом. А мне подумалось опять, что ни на небе, ни на земле нет того счастливее, с кем рядом идет такая красивая девушка.
Мы выпили нашу порцию ни быстро, ни медленно. Почти не поболтали друг с другом, — наверное, по моей вине. В восторге, опьяненный вином и влюбленностью, но притом и весь в страхе, проводил я красавицу до самых дверей ее дома. Не поцеловать ли ее? Не ступить ли через порог? Я дал себе клятву — нет! Побежал прямиком домой, тихонько забрался в постель и подумал: «Нынче твой сон будет глубже и слаще, чем когда-либо раньше в твоей жизни!»
Но как я обманулся! Сна не было и в помине. Тысячи причудливых образов проносились в моей голове и заставляли меня вертеться с боку на бок на моем ложе. Больше всего проклинал я, однако, свои детские глупость и страх. «О, небесное создание, милая девочка! — думал я тогда. — Надо было мне быть находчивее, а я...? Ах, до чего жжет меня огонь в груди — и я сам во всем виноват. Эх, я, заяц трусливый! И не поцеловать такую милашечку, не сжать ее в своих объятиях! Ну, может ли Анхен полюбить такого дурня, такого недотепу? Нет, нет! Вот вскочить бы теперь да помчаться к ее дому, да стукнуть в двери, да позвать: „Анхен, Анхен, миленькая Анхен! Пробудись, я хочу ответить тебе! Ах, я дубина, ах, осел! Прости меня, пожалуйста! Впредь я стану умней и, конечно, докажу тебе, как я тебя люблю! Душенька моя! Прошу тебя, люби меня и не покидай меня. Я исправлюсь, ведь я еще молод, — а если я чего-то не умею, то я выучусь” и т.п.». Так первая любовь лишила меня разума, как и многих других.
XXX. Как это бывает
Наутро, едва рассвело, я поспешил к дому Анхен... Да, надо было бы мне так поступить, но все дело-то в том, что этого как раз и не произошло. Ибо мне было перед нею так стыдно, что мое сердце разрывалось от боли, стыдно мне было до глубины души и перед этими стенами, и перед солнцем и месяцем, перед каждым кустом стыдно мне было, что я таким дураком вчера держался. Единственным моим оправданием могла быть только такая мысль: «Есть ведь особенные правила обхождения с девицами, а я правил этих не знаю. Никто мне их не объяснил, а у меня самого смелости не хватило расспросить о них кого-нибудь. А теперь (тут сердце у меня снова зашлось) никогда, никогда ты не осмелишься показаться Анхен на глаза; беги-ка ты лучше прочь от красотки или уж оставь себе одну только тайную радость видеть ее украдкою».
Тем временем я познакомился с несколькими соседскими парнями, у которых также имелись зазнобы, — все это с целью как-нибудь ненароком разузнать у них о том, как же надо обращаться с этими миловидными существами и что делать для того, чтобы им полюбиться. Как-то раз я крепко взял свое сердце в руки и решился спросить их об этом. Они подняли меня на смех и стали нести такую невероятную чушь, что у меня голова и вовсе кругом пошла.
К этому времени моя любовная история, которую мне хотелось бы скрыть даже от самого себя, сделалась известной всей округе. Все соседи, и женщины в особенности, пялили на меня глаза, где меня ни встретят, как на чудо какое-то.
— Ну и ну, Ули! — поговаривали они в том смысле, что вот, мол, «и у тебя износилась детская обувка».
Моим родителям все это тоже стало известно. Матушка только усмехалась, так как Анхен ей нравилась. Но отец стал глядеть на меня еще суровее, хотя и не проронил ни слова, как будто предвидя все мои грядущие прегрешения. Это меня обескуражило еще больше. Я бродил, как тень, и то и дело давал себе зарок никогда больше, ни краешком глаза не смотреть на Анхен. Мои крестьянские приятели быстро раскусили, откуда ветер дует, и высмеивали меня.
Однажды вечером Анхен загородила мне дорогу, да так, что и убежать было невозможно. Я остановился как вкопанный.
— Ули! — сказала она. — Загляни-ка сегодня попозже ко мне ненадолго, надо нам поговорить. Скажи, придешь?
— Не знаю, — пробормотал я.
— Да что уж там, приходи! Мне позарез нужно поговорить с тобою. Ну, скажи же, обещай!
— Ладно, ладно, обещаю, если удастся!
И мы расстались.
Со всех ног кинулся я домой. «Боже, думал я, что это значит? Неужто милая Анхен еще может относиться ко мне по-доброму? Можно ли мне, должен ли я...? Конечно, я могу, конечно, пойду». И тут, — сам не знаю, по простоте ли душевной или из осмотрительности, — пришло мне в голову посоветоваться с матушкой.
— Ну, что ж, иди, — сказала она. — После ужина я помогу тебе уйти потихоньку, так, чтобы не узнала ни одна душа.
А мне только того и надо было.
Сказано — сделано. Я отправился и нашел у них в доме Анхен, ее мать и ее отчима (они содержали кабачок), больше не было никого.
Я заказал себе чарку водки, чтобы чем-нибудь занять время, пока старики не уйдут спать, потому что я не знал, о чем с ними разговаривать. Из одного только страха я уселся подальше от Анхен и поэтому едва мог дождаться, чтобы ее родители отправились на покой. Наконец это произошло. И тут милочку мою словно прорвало, и было мне приятно и вместе с тем грустно слушать, как она сыплет упрек за упреком, обвиняя меня в том, что у меня холодное сердце, и высказывая мне прямо в глаза все, что она за это время услышала обо мне. Собравшись с духом, я стал защищаться, как только мог, и сам выложил ей напрямик все сплетни, какие о ней люди распускают и за кого ее принимают. О своих же размышлениях я не проронил ни слова.
— Ну, и что! — сказала она. — Какое мне дело до того, что болтают люди! Я сама лучше знаю, какая я, а от тебя я ожидала немножко больше ума. Да ладно, все это чушь и мне наплевать!
Пока шла эта наша перепалка, выпитая водочка слегка ударила мне в голову, и я отважился чуть-чуть придвинуться к девушке, ибо в душе моей зародились, пожалуй, не вполне благонамеренные, но очень привлекательные мысли. Я настолько осмелел, что попытался пустить в ход выученные мною неуклюжие приемы самой грубой ласки. Но она холодно отвела мои руки и сказала:
— Подождешь! И кто тебя только выучил этому! И т.п.
Потом она некоторое время молчала, задумчиво глядя на свечу, а я, сидя от нее на добрый клафтер, глядел на ее личико: ах, пара ее синих глазок, русые ее локоны, миленький носик, живые губки, нежно-розовые щечки, резные ушки, белоснежная шейка — в жизни своей не видел я ничего лучше, и никакому небесному живописцу не нарисовать ничего прекраснее. «Вот если бы, подумал я, поцеловать ее в сладкие губки хоть один-единственный раз. Но нет, сам же я опять и — ах! — теперь уж, конечно, навек лишил себя этого».
Словом, недолго думая, стал я прощаться. Совсем холодно она ответила:
— Прощай!
А я опять говорю:
— Всего доброго, Анхен!
А в сердце своем: «Всего доброго тебе навсегда, сердечко мое ненаглядное!» И позабыть ее все равно никак не мог. В церкви я смотрел больше на нее, чем на пастора, и как только встречу ее, сердце мое млеет.
Как-то, воскресным вечером, я заметил, что Анхен отправилась домой в сопровождении портновского подмастерья. Как бешено закипела вдруг моя кровь, какая буря поднялась во всех уголках души моей! Едва помня себя, я ринулся за ними вслед. Я был готов задушить этого портняжку, однако повелительный взгляд Анхен остановил меня. Зато потом я бросал ей горькие упреки в этом ее поступке и произносил целые речи о шелудивом портновском сословии и о его замашках. Но при всем этом понимал: что упало — то пропало. Однако Анна, как можно было бы легко догадаться, не была ни в чем передо мной виновата.
XXXI. Продолжение любовной истории, а также еще кое-что
Если вам угодно, дети мои, друзья, читатели — да кто бы вы ни были, — назовите меня глупцом! Но какое это блаженство, невыразимое блаженство — возвращаться в памяти к светлым дням невинности, видеть перед собой все эти события и вновь ощущать те прекрасные мгновения, в которые ты... жил. Мне кажется, что как только я начинаю думать об этих вещах, я снова становлюсь молодым. Все это предстает передо мной так живо, как это было тогда, как я это чувствовал тогда; я ощущаю каждый самый краткий сладкий миг, проведенный мною с Анхен, могу рассказать о каждом шаге, сделанном мной рядом с нею. Извините меня и переверните страницу, если вам противно это читать.
Отчим у Анхен был легкомысленным кабатчиком. Ему было все равно — кто к нему ходит и кто у него пьет. Так что в скором времени я был опять на хорошем счету за столом у его дочки, и мне то и дело удавалось посидеть с четверть часика с нею наедине. Моему же отцу это отнюдь не нравилось. Он сурово попрекал меня, но ничего не помогало — слишком уж Анхен мне приглянулась.
Отец подчас страшно ругал это проклятое пьяное гнездо, а Анну считал гулящей девкой. И все же — Бог свидетель! — она ею не была, — по крайней мере в те времена, это самая порядочная, самая сердечная девушка, какую мне когда-либо довелось обнимать, почти моего роста, стройная и ладная фигуркой, так что любо-дорого было на нее глядеть.
Правда, болтать любила она, как сорока. Голосок же ее пел флейтою. Всегда-то она была весела и бодра, бойка и подвижна, и, наверное, из-за этого какой-нибудь ворчун мог о ней плохо подумать. Если бы не матушкины уговоры, мой отец не раз постарался бы собственноручно проучить ее хворостиной.
Так миновало лето. Птицы, которых я слушал с восторгом каждое утро, никогда не пели для меня так звонко. Под осень мы перебрались на пороховую мельницу, поскольку господин амман1 X. нанял тогда моего отца в пороховщики. Мастер, К. Гассер, выписанный из Берна, стал обучать нас этому ремеслу с азов, так что через пару недель мы уразумели все до тонкости.
Кроме того, батюшка мой был доволен тем, что сумел удалить меня на изрядное расстояние от Анхен. Да и сам я долго старался преодолеть себя, — как вдруг эта милая девушка возьми да и появись в нашем жилище.
Я очень перепугался и все ждал, что вот-вот грянет гром. Пока она была у нас, отцовские брови оставались сурово насупленными. Он гневно сопел и не произносил ни слова. Легко было заметить, что он только и ждет от нее хоть какого-нибудь обидного слова. О, как жалко мне было бедную девушку! Если бы только отец познакомился с ней так же, как я, он, конечно же, принял бы ее совсем по-другому.
Под вечер я проводил ее домой. И по-прежнему оставался я юным простачком. А она дразнила меня еще лукавей, чем когда-либо, — да и как было ей не дразнить меня!
Зато наутро началась батюшкина проповедь: и это он заметил у Анхен дурное, и то, — или, может быть, хотелось ему заметить, — и то он услыхал от нее, и это, — или, может быть, ему послышалось, — все пригодилось для грозного нравственного поучения. Не поскупился он и на обидные прозвища. Короче говоря, было пущено в ход все per se,2*
Правду сказать, к чести Анхен, она никогда не тянула из меня деньги, и даже если я заплачу сам, бывало, за стаканчик вина для нее, она иногда потом незаметно сунет мне потраченное.
Как-то раз я сказал батюшке:
— Не стану больше ходить к Анне — обещаю тебе.
— Это меня радует, — отвечал он, — и ты не пожалеешь о том, что так поступил. Я ведь тебе, Ули, только добра желаю. Лишь бы ты уши не развешивал. Ты еще очень молод и успеешь еще вовремя поймать свое счастье. Дорога твоя идет теперь больше в гору, чем под гору. Таких девиц еще много встретишь, когда поедешь не на ярмарку, а с ярмарки. Соблюдай себя, молись и трудись да неси в дом, тогда и станешь бравым парнем и уважаемым человеком. И могу поручиться, что со временем найдешь деревенскую девушку себе под пару. А я тебя пока не оставлю своими заботами и т.д. и т.п.
Так прошла зима. Свое слово я держал плоховато и все старался повидать Анхен, как только появлялась возможность сделать это тайком.
Со дня святого Галла2 вплоть до марта мы порохом не занимались. И мне приходилось зарабатывать свой хлеб чесаньем хлопка, а остальным детям в семье — пряденьем. Отец трудился по дому, а вечерами читал нам вслух из Давида Голлатца, из Бёма и из «Почти-христианина» Мида3 самые назидательные места, объясняя то, что казалось ему непонятным для нас. Впрочем, делал он это не всегда наилучшим образом. Я читал и самостоятельно. Но мысли мои чаще всего обитали не в книге и витали далеко.
XXXII. Что еще тогда случилось (1755 г.)
Следующей весною пошли разговоры: куда пристроить всю эту ораву мальцов? Якоба и Иорга1 определили в пороховщики, а меня — варить селитру.
Для этого занятия отец дал мне в помощники Ули М., неотесанного, но чистосердечного и честного парня, который прежде служил в солдатах, а ремеслу выучился у своего отца, варившего селитру до самой смерти и закончившего жизнь довольно жалким образом, упав в котел с кипящею селитрой.
И вот мы, два Ули, принялись в марте 1755 года в Шаматтене за свое ремесло. За работой мы всегда вели разные разговоры, которые М. все время как-то ненароком и, как я потом узнал, — с умыслом и даже, может быть, по подсказке моего отца умудрялся сворачивать прямиком на жениховство и до того дошел, что подыскал мне в невесты некую весьма уже перезрелую девицу, каковая тотчас же весьма приглянулась моим родителям, в особенности батюшке, как раз по причине своего солидного возраста и такового же нрава.
Ради их спокойствия сводил я эту Урзель (так ее звали) пару раз в кабачок. Мой Ули не уставал нахваливать это Исавово личико,2 которое сам он, по его собственному заверению, целовал-миловал уже десять лет тому назад. Само собой разумеется, что я находил в ней мало привлекательного. Каждый час, проведенный с нею, казался мне сумерками, а попадалась она на моем пути часто — и чем чаще, тем было мне досаднее.
Вообще-то, одевалась она по-крестьянски чисто. Но если сравнивать Анхен с нею, то они были как день и ночь. И когда эта первая как-то застигла меня на улице, она проговорила с издевкой:
— Фу, Ули! Такая волосатая рожа, такая шершавая кожа, такая медвежья ножка! И на ружейный выстрел не подпущу я к себе того, кто вымажется в этой грязной луже! Ули, да от тебя воняет!
Это был удар в самое сердце. Я понимал, что Анхен права, но ее слова все-таки задели меня за живое. Тем не менее я проглотил обиду, деланно усмехнулся и ответил:
— Полно, полно, Анхен! Я тебе все потом объясню.
На том мы и разошлись.
Не прошло и суток, как я дал своей серенькой Урзель по всей форме решительную отставку. Она смотрела с тоской мне вслед и все восклицала за моей спиной:
— Неужели ничего нельзя поправить? Что же, разве я слишком стара для тебя или так уж некрасива? Подумай еще раз... (и прочее).
Однако — что решено, то решено.
В следующий праздник, когда Анхен была среди нас, она заметила, что я сижу над стопкою один. Она подошла ко мне с ласковым видом и пригласила вечером к себе. Полный восторга, побежал я к ней и скоро убедился, что мне опять очень рады, хотя лукавая девушка снова стала упрекать меня самым обидным образом в моем знакомстве с Урзель. Я рассказал ей во всех подробностях, как было дело. Казалось, она успокоилась. Это придало мне смелости. В первый раз я отважился на попытку прижать ее к своей груди и подарить ей поцелуй. Но тут — чтоб тебя! — я вдруг слышу:
— Так вот оно что! И кто тебя только научил такому! Наверняка — твоя старая метелка. Ступай, ступай, убирайся, да пойди окунись — сперва смой-ка с себя грязь.
А я на это:
— Ах, прошу тебя, радость моя, не сердись на меня. Я никогда не переставал любить тебя, и чем дольше тебя люблю, тем сильнее. Позволь мне поцеловать тебя, ну, хоть один разок!
А она:
— Ни за что! Ни за какие денежки! Прочь, прочь отправляйся к этой твоей дурехе, которая тебя наставляет!
Я:
— Ах, Анхен, золотко мое! Не упрямься! Ведь я уже давно люблю тебя всем сердцем и на всю жизнь, Господи Боже ты мой!
Она:
— Оставь меня, пожалуйста, в покое! Я сказала — нет! Ну, допустим, теперь — нет.
В конце концов, она все-таки милостиво улыбнулась и сказала:
— Тогда, когда опять придешь!
Однако я приходил к ней еще трижды, и всякий раз лукавая девчонка затевала со мною все ту же игру. Так вот и учат глупых парней уму-разуму эти хитрые создания. Наконец пробил и мой час:
— Анхен, Анхен! Дорогая моя Анхен! Ты не набралась еще решимости? Ведь я люблю тебя всей душою! Неужели мне нельзя ни разу поцеловать тебя в сладкие твои губки? Ведь ты позволишь мне это, не правда ли? Нет больше сил терпеть! Уж лучше мне совсем тебя не видеть.
Тут она нежно пожимает мне руку, но опять твердит:
— Обязательно — когда придешь в следующий раз!
Но терпение мое стало, видно, иссякать. Я повел себя грубо и дерзко. Она же, думаю, опасалась всяческих непристойностей; дразнить-то она меня дразнила, так, что любо-дорого поглядеть, но вдруг ее глазки наполнились слезами, и она вдруг стала тиха, словно голубка.
— Ну, вот, — произнесла она. — Право же, ты выдержал испытание. Надо было тебе искупить свой грех передо мною. Но наказывать тебя было мне еще тяжелей, чем тебе — терпеть, милый, славный мой Ухелин!3
Она сказала все это с такой нежностью, что голосок ее и посейчас звенит в моих ушах, как далекое эхо серебряного колокольчика. «Ага, — подумалось мне тогда на миг, — теперь я проучу тебя, болтунья!» Но тотчас же придумал я кое-что получше: сжал любовь свою в крепких объятиях и покрыл ее нежное личико не менее чем тысячей поцелуев, от ушка до ушка, и Анхен ни один не оставила без ответа, да еще и готов я поручиться, что с ее стороны было даже больше огня, чем с моей. Так и пошло дальше — с нежностями, шуточками и болтовней — до самого рассвета. Лишь тогда воротился я домой, и казалось мне, что нет на всем Божьем свете никого значительнее и счастливее меня.
Но при всем том я хорошо чувствовал, что чего-то мне все еще недостает, однако — чего? Скоро, мне кажется, я разобрался, в чем было дело. О, если бы, если бы удалось мне безраздельно обладать моей Анхен, славной этой девчоночкой, назвать ее совсем, совсем моею, чтобы и я стал для нее «золотком» и «миленьким».
Что бы я ни делал, куда бы ни шел, все мои мысли были о ней. Каждую неделю она позволяла просидеть у нее всю ночь. Эта ночь пролетала, как одна минута, а остальные шесть дней казались мне шестью годами. О, часы блаженства! Мы вели сотни, тысячи любовных разговоров, наперебой стараясь превзойти друг друга в нежных словах, и каждое старое ли, новое ли прозвище награждалось новым поцелуем. Не люблю клясться — и не клянусь, но это были и впрямь не только блаженнейшие, но и по-истине невиннейшие ночи в моей жизни!
И тем не менее — скрывать я этого не стану — слава об Анхен ходила не самая лучшая. Этим девушка была обязана несомненно своему вольному, болтливому язычку. Что до меня, то я всегда, и чем дальше, тем все больше, убеждался, что нашел в ней девушку самую честную, самую лучшую и самую благопристойную. Правду сказать, ни одной из разных тех хитростей, какими обычно соблазняют девиц, я не воспользовался, да и не знал я их, однако совершенно уверен, что против всех их она бы с честью устояла.
Так прошло незабвенное для меня лето 1755 года, словно неделя пролетела. И что ни день, я любил свою Анхен все сильнее. Все остальные девушки были мне противны, хотя по временам мне доводилось заводить знакомство с самыми завидными невестами нашего околотка. Между тем я усердно занимался варкой селитры — то в одиночку, то в компании с уже упоминавшимся вторым Ули, каковой не прекращал упорных усилий по навязыванью на мою голову самых невероятных невест. Однако — уф! — об этом теперь не могло быть и речи, тем более что ни о какой женитьбе мне еще и думать не позволялось.
XXXIII. Начались путешествия
Дело было осенью. Однажды отец с моей помощью спиливал в лесу стройный бук. Нам помогал в этом деле некий Лауренц Аллер из Швельбрунна,1 который изготовлял грабли и вилы; он и купил у нас потом лучшую часть дерева. Разговаривая о том о сем, добрались и до меня.
— Ай-ай-ай, Ганс! — сказал Лауренц. — Детишек у тебя куча-мала. Что ты собираешься с ними делать? Имения у тебя нету, а они ведь и ремесла-то никакого не знают. Жаль, что ты не посылаешь старших в люди. Там они наверняка нашли бы свою удачу. Глянь-ка, у Ганса Иоггели сынки каковы: они быстренько нашли себе заработок у французов в Бернском кантоне.2 И года не прошло, как они заявились домой себя показать, нарядные что твои господа, в шляпах с золотым галуном. И ни за какие деньги тут больше не останутся.
— Эх! — отвечал отец. — Да мои-то парни слишком уж лопоухие и неумелые для этого. У Ганса Иоггели ребята с головой и обучены славно. Они умеют читать, писать, петь, на скрипке пилить. Рядом с ними мои — настоящие дурни, станут столбом и стоят, разинув рот.
— Боже тебя упаси! — возразил Лауренц. — Не говори так, Ганс! Я уверен, что их можно к делу пристроить, особливо старшего, парень он рослый, да ведь и читать-писать умеет и, уж конечно, не лыком шит, — по нему видно. Если его, черт побери, погонять хорошенько, будет из него толк. Только глаза разинешь! Ганс, я готов поручиться, что ровно через год, день в день, явится он сюда в сапогах и при шпорах, и денег у него куры не станут клевать, так что тебе будет честь и радость.
Пока все это говорилось, я стоял, раскрыв глаза и рот, и глядел отцу в лицо, а он — мне. И говорит:
— Ну, что ты, Ули, об этом думаешь?
Но прежде чем я успел ответить, Лауренц пустился разглагольствовать дальше:
— Да разрази меня гром! Если бы я был в твоих летах и имел бы полон рот таких белых зубов, как у тебя, то целый Токкенбург не удержал бы меня здесь всеми своими веревками и канатами.3 Довелось и мне побродить по белу свету. Эх! Есть-таки земли обетованные, где деньги под ногами валяются, как сор. Всякое, знаешь ли, я там повидал, но был я дурак — дураком, а теперь поздно, старость все ближе, да еще и жена на шее. Хоть криком кричи, да что поделаешь!
— Все это хорошо, — вставил свое слово отец. — Однако не помешало бы ему какое-нибудь рекомендательное письмо или нашелся бы кто-нибудь, кто помог бы ему выплыть. Я ведь очень хотел бы пристроить получше всех своих детей, и чтобы каждому из них не упустить свое счастье. Но...
— Что еще за «но» ? — перебил его Лауренц. — Я все беру на себя. Тебе, Ганс, это не будет стоить ни геллера.4 И ручаюсь тебе, что пристрою твоего мальчишку так, что из него получится человек и даже господин. Я знаю уйму почтенных людей, которые могут осчастливить такого парня. Уж я подыщу для Ули самого наилучшего, так что он меня по гроб жизни будет благодарить.
Вопреки своему обыкновению, отец на этот раз поверил, не задумываясь, так как он вообще хорошо относился к этому Лауренцу. Что касается меня, то, — за исключением некоторых сердечных сомнений, о чем мы еще поговорим, — вопросов не было. Стоило только батюшке вслух произнести:
— Ну, как, Ули, хотелось бы тебе...?
Я тут же выпалил:
— Да!
Мой отец тем более был доволен, что таким способом он окончательно удалял меня от Анхен. Матушке, однако, все это совсем не нравилось. Но, как у нас говаривали, если уж этот Ганс из Небиса на что-нибудь решится, то его не остановят ни силы небесные, ни силы земные. Итак, мы условились о дне и часе, когда нам с Лауренцем пускаться в путь, причем больше ни одной душе не было сказано о том, чтобы не подымать ненужного шума, как пояснил мой провожатый.
XXXIV. Прощание с родиной
«Прощай, мир сей!1 Отправляюсь в Тироль»,2 так твердил я сам себе. С одной стороны, я был, конечно же, в полном восторге; мне казалось, что небеса сплошь увешаны скрипками и цимбалами3 и что стоит только завести в кошельке письмецо с печатью, счастье мне обеспечено. Но с другой стороны, очень сильно огорчало меня то, что приходится мне покидать — нет, не родные места, а места, где живет моя милая. «Ах, если бы я мог забрать с собою свою Анхен!» — думалось мне в тысячный раз. А потом снова: «Эти пять, ну, разве что шесть лет пролетят быстро. Зато как же обрадуется милочка моя, когда я вернусь домой с почетом и при деньгах, словно какой-нибудь господин, или вызову ее к себе в обетованные края».
Итак, было решено 27-го сентября субботним вечером отправиться с Божьей помощью в дорогу.
— Пойдем под покровом сумерек, — сказал Лауренц, — а то станут здесь болтать невесть что, да и нет у меня времени в рабочие дни. Значит, будь готов. Надень кафтан поприличней — и все дела.
Утром в субботу все было у меня готово. Стали прощаться. Матушка и сестры то и дело принимались плакать и уже с полудня твердили мне «храни тебя Господь!», «пусть Бог тебя не оставит!» Отец, который тоже сильно загрустил, снабдил меня на дорогу кроме нескольких баценов еще и следующим советом:
— Ули! — сказал он. — Ты покидаешь отчий дом. Не знаю, куда занесет тебя, Ули, и самому тебе это неизвестно. Но Лауренц — человек бывалый, я верю в его добропорядочность, где-нибудь он-то уж отыщет подходящее местечко и тебя пристроит. Что касается тебя, то будь только честен и веди себя достойно, а все остальное, Бог даст, приложится. Сейчас ты еще как сырой хлеб, будь начеку и набирайся ума, ты ведь умеешь учиться. Впрочем, как тебе известно, я тебя на это дело не толкал, да и против нее не сказал ни слова. Это была Лауренца придумка и собственная твоя задумка, и я иду на это, хотя и с довольно тяжелым сердцем. Ибо в конце концов кусок хлеба для тебя всегда у меня нашелся бы, если бы ты и дальше не стал чураться, как у нас водится, никакой работы, — ни тяжелой, ни легкой. Однако буду рад не меньше, ежели тебе удастся заработать себе на пропитание, да и сверх того более легким способом, и, может быть, добиться своего счастья. Что меня теперь особенно беспокоит, Ули, так это твоя молодость и твое легкомыслие. Поверь мне, ты отправляешься в соблазнительный мир, где полным-полно негодяев и мошенников, которые только того и ждут, чтобы можно было одурачить таких, как ты, простачков. Умоляю тебя, не доверяйся первому встречному, не поддавайся уговорам на то, что кажется тебе худым делом. Молись усердно, аки Даниил в Вавилоне,4 и никогда не забывай, что если даже не вижу и не слышу тебя я, то слышит и видит все, о чем бы ты ни помыслил и что бы ты ни сделал, твой вышний Отец на небеси, проницающий взором все уголки мира сего. Библию, которая есть слово Божие, ты ведь знаешь от корки до корки. Следуй мысленно ей и не забывай, какой благодати сподобились праведники, возлюбившие Господа. Подумай только! Авраам, Иосиф, Давид!5 И напротив — каково пришлось забывшим Бога нечестивцам, сколько бед претерпели они! Ради спасения своей души, ради земного счастья и вечного своего блаженства не забывай, Ули, Господа Бога твоего! Повсюду под сводом небесным Он пребудет всегда с тобою. Я же не могу сделать для тебя ничего лучшего, как препоручить тебя Его всемогущему заступничеству, что я и делаю без колебаний.
Так говорил отец еще некоторое время. Сердце мое размягчилось, как воск. Слезы позволяли повторять только: «Да, батюшка, да!» И в душе моей эхом отзывается до сих пор это мое «да, батюшка, да!» Наконец, помолчав немного, он произнес:
— Ну, ступай же с Богом!
Я:
— Да, пора идти!
И еще:
— Милая, милая матушка! Не надо так убиваться. Ну, не пропаду я! Храни вас Боже, милый батюшка, милая матушка! Храни Боже всех вас, милые мои братики и сестрички! Слушайтесь батюшку с матушкой! Стану и я поступать по их добрым советам в дальней-предальней стороне.
Тут каждый подал мне руку. Слезы катились по их покрасневшим щечкам. Рыдания душили меня. Матушка протянула мне дорожный узелок и пошла рядом. Отец проводил меня немного. Наступали вечерние сумерки. В Шоматтене поджидал меня Каспар Мюллер. Он дал мне в дорогу хорошую сумму и Божье благословение.
XXXV. Еще немного о милочке моей
А я побежал напоследок опять к своей Анхен, которую посвятил в свои планы за пару ночей до того. Она глубоко опечалилась, однако поначалу и вида не подала.
— Мне-то что, — произнесла она со своей неподражаемой горькой усмешкою. — Иди себе... Думаю, что если кто любит так, как ты, пусть убирается куда угодно.
— Ах, любовь моя! — стал я говорить. — Ты и вообразить себе не можешь, как мне несладко. Но, сама видишь, среди уважаемых хозяев нам долго уже не продержаться. А о женитьбе и думать мне сейчас нечего. Я еще не дорос, а ты — и подавно, и за нас обоих не дадут и крейцера. Родители не смогут помогать нам вить свое гнездышко. Нищета нам обеспечена. Но кто знает — ведь счастье, оно, как шар, круглое.1 Буду отныне жить надеждою.
— Если даже и так — мне-то какое дело! — прервала меня Анхен. — Ну, да ладно! Перед уходом не заглянешь ли еще разок ко мне?
— Конечно. Отчего не заглянуть? — ответил я. — Я и сам собирался это сделать!
И вот я отправился, как уже говорилось, сказать моему сердечку последнее «прости». Она стояла в дверях и едва взглянула на мой дорожный узелок, молча спрятала милое личико в фартук и стала всхлипывать. Сердце мое готово было разорваться. И в глубине души я стал, было, уже сомневаться в своем предприятии, пока не пришел опять более или менее в себя. Я подумал: «Помоги, Господи! Надо — значит надо, как бы ни было больно».
Анхен повела меня в свою комнатку, села на кровать, крепко прижала меня к своей груди и...ах! опускаю завесу перед этой сценой, хотя была она совсем чистой, и воспоминание о ней и сейчас для меня сладко, как мед. Кто никогда не любил, тому не надо об этом и знать, а тот, кто любил, тот сам сумеет все себе представить.
Одним словом, мы не успокоились, пока не обессилели от объятий и пока наши лица не опухли от поцелуев и не намокли от слез, — пока набожная монахиня по соседству не прозвонила полночь.2 Тут наконец я высвободился из мягких и нежных ручек Анхен.
— Неужто так и будет? — сказала она. — И ни силы небесные, ни земные не вступятся за меня? Нет, не отпущу тебя одного, пойду за тобой хоть на самый край света. Нет, ни за что не отпущу, единственный ты мой, единственный в целом мире!
Я:
— Успокойся, сердечко мое милое, дорогое! Подумай немножко о будущем. Сколько будет радости, когда мы опять встретимся, и как счастлив я буду!
А она:
— Ах, ах! Значит, ты меня бросаешь!
А я:
— О, ни за что на свете — пускай даже я сделаюсь важным господином и наживу уйму денег, ни за что на свете не изгоню я тебя из своего сердца! Пускай придется мне провести в скитаниях пять, шесть, десять лет, всегда-всегда я останусь верен тебе, клянусь! (Мы шли в это время по дороге к деревне, где ждал меня Лауренц, шли крепко обнявшись и без устали обмениваясь поцелуями). Это синее небо над нами со всеми своими мерцающими звездочками, эта тихая полночь, дорога эта да будут моими свидетелями!
А она:
— Да! Да! Вот тебе моя рука и вот тебе мое сердце — чувствуешь, как бьется оно в груди? Пусть небо и земля станут свидетелями того; что ты — мой, а я — твоя и что с нерушимой верностью в тишине и одиночестве буду я ждать тебя, даже если минует десять и двадцать лет и волосы наши совсем поседеют, — и что рука другого мужчины ни разу не коснется меня, и мое сердце будет всегда с тобою, и мои губы будут во сне целовать тебя, пока не...
Тут слезы прервали ее речь.
Наконец мы подошли к дому Лауренца. Я постучал. Мы присели перед домом на лавочку, ожидая, пока он выйдет. А когда он вышел, почти не обратили на него внимания. И Анхен снова повела свои речи. Присутствие постороннего словно прибавило нам сил. Оба мы стали красноречивыми, как ландфогты.3 Но милочка моя, право же, далеко превзошла меня и в этом искусстве, и в нежностях, и в клятвах, так что куда мне было до нее! И стало нас уже вовсе заносить в небеса. Тут Лауренц напомнил Анхен, что пора ей домой.
— Довольно, ребятки, делу время — потехе час! — сказал он. — Так мы далеко не уедем, Ухель! Ну, что вы липнете друг к другу, как смола! Полно нюни-то распускать! Пора бы тебе, девушка, назад в деревню идти, там ведь парней на всех хватит, да еще и останется!
Наконец (правда, прошло еще немало времени) и сам я стал упрашивать Анхен вернуться:
— Ну, что, что же тут поделаешь!
И вот еще один, самый последний поцелуй, но такой, что стал он первым и последним в жизни моей, — и сто рукопожатий — и «прощай, прощай и не забывай меня!» — и «никогда, ни за что и навеки!»
Мы пустились в путь. Она стояла, закрыв лицо головным платком и рыдая во весь голос, да и я — ненамного тише. И до тех пор пока мы могли еще видеть друг друга, махали мы платочками и посылали друг другу воздушные поцелуи.
И вот уже все позади. Мы скрылись из ее глаз. О, каково же было у меня на сердце! Лауренц взялся ободрять меня, заведя целую проповедь о том, что на чужбине такие красотки попадаются, перед которыми моя Анхен — сопливая девчонка, и тому подобное. Я злился на него, но не отвечал ни слова, а только брел следом, как завороженный, и с тоской глядел на семизвездие Большой медведицы над нами. Две звездочки на южном ее краю стояли так близко одна к другой, словно хотели поцеловаться, и все небо казалось мне полным любовной тоскою. Мы все шли и шли, и не знал я, не ведал — куда и не размышлял нимало о том, что ждет меня впереди — добро или зло. Лауренц разглагольствовал без умолку, я его едва слушал и почти все время молился в душе: «Сохрани, Боже, милую мою Анну! Благослови, Боже, дорогих родителей моих!»
Под утро добрались мы до Геризау.4 А я все вздыхал по милочке моей: «Анхен, Анхен, ненаглядная моя Анхен!» Я и теперь, — быть может, в последний раз и на вечные времена — пишу здесь большими буквами: АНХЕН.
XXXVI. Мало-помалу идем далее
Был воскресный день. Мы завернули в «Щуку»,1 да и остались там до вечера. Все пялили на меня глаза, как будто никогда не видели молодцов из Токкенбурга или из Аппенцелля,2 отправлявшихся в чужие края, не зная, правда, — куда и еще меньше ведая — зачем. У каждого стола наслушался я о сладкой жизни и о веселых деньках. То и дело подносили нам вино. Пить я не привык и потому быстро развеселился и позабыл все заботы.
Только с наступлением сумерек мы снова пустились в путь. С нами отправился некий огненнорыжий житель Геризау, мельник, как и Лауренц. Путь наш лежал на Госсау и Фловейль.3 В этом последнем селении нам довелось проходить мимо источника, возле которого несколько девушек при свете фонаря трепали лен.
— Постойте-ка, — сказал я. — Хочется взглянуть, нет ли среди них похожей на мою милую.
Я подсел к ним и перебросился с ними парой шуточек. Но нечего было и сравнивать! Мои спутники принялись меня торопить, твердя, что этого добра я еще навидаюсь, и отпуская разные сальные замечания, так что я краснел до ушей.
Потом мы прошли через Риккенбах, Фрауэнфельд, Нюнфорн.4 Тут меня внезапно охватила страшная усталость. Ведь впервые в жизни (не говоря уже о долгой ходьбе и винопитии) мне пришлось не спать две ночи кряду. Однако парни и слышать не хотели ни о каком отдыхе, изо всех сил поспешая в Шафгаузен.5 И только когда я поклялся, что не могу больше сделать ни шага, они достали для меня лошадь, и это было весьма кстати.
По дороге я получал наставления, как вести себя в Шафгаузене, что надо, мол, держаться молодцом, бойко отвечать на вопросы и т.п. Затем они стали между собой шептаться (стараясь, однако, чтобы я все слышал) о благородных господах, которые им известны и чьим слугам живется не хуже, чем самым большим богачам в Токкенбурге.
— Особливо же, — говорил Лауренц, — знаю я одного немца, который живет тут инкогнито, весьма знатного господина из дворян, имеющего нужду в разного рода слугах, из которых самому последнему живется получше, чем какому-нибудь кантональному амману.
— Ах! — посетовал я. — Только бы не наговорить глупостей, беседуя с таким господином!
— Говори с ним запросто, как умеешь, — посоветовали они. — Таким важным господам это больше всего нравится.
XXXVII. Совсем новая жизнь
В Шафгаузен мы пришли еще засветло и остановились в «Корабле».1 Я не столько слез с лошади, сколько свалился с нее, едва мог пошевелиться и стоял, как будто в штаны наделал. Спутники мои принялись меня оглядывать, что привело меня в ярость, потому что я не мог понять, что все это может значить.
Когда мы взошли на крыльцо, они велели мне подождать немного под навесом, а сами прошли в дом, и через пару минут меня позвали в комнату. Там я увидал статного красивого человека, который дружески мне улыбнулся. Мне велели разуться, поставили к столбу под мерку и осмотрели меня с головы до пят. Затем они стали шептаться между собой. И тут только появилось у меня, у бедняги, первое подозрение, что оба мои провожатые затеяли со мною что-то недоброе. И эта тревога усилилась после того, как я явственно расслышал слова:
— Здесь дело не выгорело, придется идти дальше.
«Нынче не сделаю ни шагу из этого дома, — сказал я себе. — Деньги у меня еще остались».
Мои провожатые вышли. Я сидел у стола. Господин расхаживал по комнате взад и вперед, то и дело поглядывая на меня. Подле меня на скамье храпел здоровенный детина, который, напившись, обмочил, наверное, штаны, потому что вонь стояла почти невыносимая. Когда господин ненадолго покинул комнату, я воспользовался этим, чтобы спросить у трактирной служанки, кто этот парень.
— Так — один бездельник! — ответила она. — Только сегодня этот господин нанял его в слуги, а Г. нализался уже в стельку и так воняет, что только тьфу!
— Эх! — проговорил я, как только господин вернулся. — Таким слугою и мне хотелось бы стать.
Он это услыхал, обернулся ко мне и спрашивает:
— Тебе и вправду хотелось бы заняться этим делом?
— Вроде того, — отвечаю.
— Девять баценов в день, — заявляет он, — и все, что понадобится, из одежды.
— А делать-то что нужно будет? — говорю я.
— Мне прислуживать.
Я:
— Согласен. Да только справлюсь ли я?
Он:
— А я тебя научу. Ты мне нравишься, парень. Давай сделаем пробу на две недели.
Я:
— Договорились!
Так и совершилась сделка. Я назвал ему свое имя. Он заказал для меня еду и питье и продолжал меня добродушно расспрашивать.
Между тем мои спутники (как я потом узнал) ходили к другим прусским офицерам-вербовщикам (таких обреталось тогда в Шафгаузене пятеро), а воротившись, выпучили глаза, когда увидели, как я пирую за столом.
— В чем дело? — спросил Лауренц. — Ну-ка, пошевеливайся и пойдем! Теперь-то мы нашли для тебя господина.
— У меня он уже есть, — сказал я.
А тот:
— Как! Что! Никаких разговоров...
И они собрались уже тащить меня силой.
— Так не пойдет, друзья! — сказал мой хозяин. — Парень останется у меня!
— Никак нельзя! — возразил Лауренц. — Его родители доверили его нам.
— Лирум-ларум!2 — ответил им хозяин. — Он уже ко мне нанялся — и все тут, и гоп-ля-ля!
После довольно громких препирательств все вместе они удалились в соседнюю комнату, где Лауренц и человек из Геризау, как я впоследствии узнал, удовлетворились тремя дукатами,3 один из которых предназначался моему отцу, но которого тому, правда, так и не довелось никогда увидеть. После чего оба они с мрачным видом отправились в обратный путь, ни сказав мне ни словечка на прощанье. Поначалу они, говорят, запросили за меня чуть ли не двадцать луидоров.4
На другой день мой хозяин позвал портного, и тот снял с меня мерку для форменной одежды. Вскоре последовал и весь остальной приклад.
И вот я стою в сапогах и при шпорах, во всем новом с иголочки, от пят до макушки: красивая шляпа с галуном, бархатный шейный платок, зеленый камзол, жилет и штаны белого сукна, новые сапоги и при них еще башмаков две пары — все как раз впору, сплошное загляденье! Тут уж каждому видно, что я не какая-нибудь там деревенщина. А хозяин мой еще и подзадоривает меня погордиться.
— Ольрих!5 — говорит он. — Когда выйдешь в город, выступай степенно, голову держи высоко, шляпу сдвинь слегка на одно ухо.
Собственноручно прицепил он мне к поясу палаш.6 Когда я впервые пошел по улице, мне казалось, что весь Шафгаузен теперь у моих ног. Встречные приподнимали свои шляпы. Люди в доме обходились со мной, как с благородным.
В гостинице были у нас хорошо обставленные комнаты, и у меня имелась своя, вполне уютная. Из моего окна можно было в любой час дня наблюдать веселую суматоху снующих туда и сюда через Корабельные ворота7 пешеходов, всадников, тележек, колясок и бричек. И что мне было весьма приятно, — и меня также видели и замечали.
Хозяин мой, который скоро стал относиться ко мне так, как если бы я был ему родным сыном, стал учить меня бритью. Он сам сперва меня побрил и умело заплел мне косицу. От меня ничего не требовалось, как только прислуживать ему за столом, выбивать пыль из его платья, сопровождать его во время выездов на прогулку и ходить с ним охотиться на птиц и т. п. Да! Такое житье было по мне!
Большую часть времени я мог бродить совсем один, где вздумается. Целыми днями я разгуливал по всем переулкам симпатичного Шафгаузена, ибо до той поры не видал я вообще городов, кроме Лихтенштейга, а самой большой рекой был для меня Тур.8 Скоро я каждый вечер стал выходить к Рейну и все не мог досыта наглядеться на эту могучую реку. Когда у Лауфена я в первый раз увидал и услыхал Рейнский водопад,9 у меня даже в глазах потемнело. Как и многие, я воображал его себе совсем по-другому и никак не думал, что он так грозен и величав. Каким крошечным созданием показался я теперь сам себе! Я глазел на него часами и брел затем домой с чувством какой-то пристыженности. Иногда я подымался на гору Боненберг10, чтобы полюбоваться оттуда прекрасным видом. На пристани я помогал матросам и скоро сам стал с удовольствием плавать на судах взад и вперед по Рейну.
XXXVIII. Нежданный гость
Так все и шло, и я чувствовал себя на седьмом небе, в то время как, без сомнения, стараниями моих бравых провожатых дома у нас разнесся слух, что меня продали в матросы, и даже якобы рассказывал это человек, видевший своими собственными глазами, как меня, в оковах, повезли вниз по Рейну.
Меня стали уже упоминать в назидание всем сыновьям, чтобы сидели дома и не пускались бы напропалую в этот нечестивый мир. И хотя отец мой не верил в этих слухах ни единому слову, однако, поскольку матушка денно и нощно не переставала осыпать его горькими упреками, в конце концов решился сам отправиться в Шафгаузен и лично удостовериться, есть ли основания у этой басни или же их нет.
Словом, однажды вечером — какая радость для нас обоих! — в мою комнату совершенно неожиданно вступил мой горячо любимый батюшка, так что я едва глазам своим поверил. Он рассказал о том, что привело его сюда, а я ему — о том, как славно мне живется. Я показал ему свой сундучок с отличным платьем и каждую его часть вплоть до пуговиц на сорочках. Потом я представил его доброму моему господину, который принял его весьма любезно и распорядился, чтобы его накормили наилучшим образом и все прочее.
Но затем случилось так, что как раз в тот вечер, после ужина, устроились в нашей гостинице танцы, и мой господин, любитель развлечений всякого рода, не отказал себе в удовольствии поглядеть на это, а мы с отцом — в удовольствии отведать жаркого за столиком в углу трактирного зала.
Вдруг он неожиданно направляется ко мне:
— Ольрих! А ну-ка, пойди да попляши немного с молодым народом!
Напрасно я отговаривался, а батюшка мой доказывал, что я-де ни разу в жизни не танцевал. Ничего не помогло. Он вытащил меня из-за стола и сунул мне руку нашей гостиничной кухарки, ладной швабской девушки. Пот лился с меня градом от стыда, что приходится выплясывать в присутствии отца. А девица эта принялась так бешено меня крутить, что скоро я потерял всякое соображение и начал шататься от стенки к стенке, чем немало позабавил зрителей. Милый мой батюшка при виде этой сцены не проронил ни слова, но время от времени он бросал на меня грустные взгляды, которые пронизывали насквозь мою душу.
Мы улеглись спать все-таки довольно рано. Без устали продолжал я убеждать отца в том, как отлично мне живется, какой добрый у меня хозяин, как дружески и отечески он относится ко мне, и все прочее. Отец отвечал лишь краткими словами «да, да», «так», «ну, хорошо» и вскоре заснул беспокойным сном, да и я — также.
Наутро отец стал прощаться, едва только мой господин проснулся. Тот возместил его путевые расходы, подарил ему еще и талер на дорогу и торжественно заверил его, что мне у него будет хорошо и что я буду всем обеспечен, если и впредь останусь надежным и честным.
Мой честный батюшка, к которому вернулись бодрость и вера, учтиво поблагодарил его и пожелал мне всего наилучшего. Я проводил отца до самой Райской обители.1 По пути мы так сердечно разговаривали друг с другом, как не случалось еще нам говорить ни разу после той моей болезни в юности. Он напомнил мне о полезных истинах:
— Не забывай долг свой, родителей и родину — и тогда отеческая рука Господа нашего укажет тебе путь, неведомый пока ни мне, ни тебе.
Расставаясь, мы чуть не задушили друг друга в объятиях. Сквозь рыдания я мог только выговорить:
— Храни, храни тебя Господь!
И думал при этом: «О, если бы мог я наслаждаться нынешним моим счастьем вместе с добрым моим батюшкой, делить с ним каждый кусок хлеба и т. д.
XXXIX. Что было дальше
К службе своей я скоро привык. Мой хозяин, не предупредив меня, пару раз подвергал испытанию мою честность — оставлял там и сям в комнате деньги. После того как слуга одного из прусских офицеров-вербовщиков дал тягу, прихватив с собою более восьмидесяти флоринов, хозяин меня спросил:
— А ты, Ольрих, не собираешься ли проделать со мною то же самое?
Я отвечал с улыбкой, что если он допускает, что я на это способен, то пусть лучше прогонит меня. Я и вправду заслужил у него такую доверенность, что целую зиму он позволял мне отворять его ключами двери его комнаты и кладовой, когда он, бывало, отправлялся без слуг в краткие поездки. Со своей стороны, я почитал и любил его, как отца родного. Да и он относился ко мне дружелюбно и по-доброму.
У меня было много, даже слишком много времени для прогулок и досуга. Часто переправлялся я, особенно осенью, через Рейн в Фейртален1 (поскольку старый мост незадолго до того обвалился, а о постройке нового велись в нашей гостинице переговоры с Г. Грубенманом)2 на сбор винограда. Там я помогал парням и девушкам... уплетать виноградные гроздья до отвала. Однажды, во время такой переправы, кто-то спросил меня:
— Как поживаешь, Ульрих? А знаешь ли ты, что твой хозяин — прусский офицер?
Я:
— Знаю. Да мне-то что за дело, а хозяин он — добрейший.
— Так-то оно так, — заметил тот человек, — однако смотри, как бы тебе не оказаться в Пруссии, и не пришлось бы тебе стать солдатом, вот уж тогда отполируют тебе спину досиня. Не хотел бы я и за тысячу талеров очутиться тогда в твоей шкуре.
Я вытаращился на парня и подумал, что бездельник болтает такое по злобе или из зависти. Быстро добравшись до дому, я все досконально пересказал своему хозяину, на что тот отвечал:
— Ольрих, Ольрих! Не надо развешивать уши перед всяким дураком и бездельником. Да, верно, я — прусский офицер — ну, и что из того? По рождению, я — польский дворянин, и чтобы ты уж знал всю мою подноготную, зовут меня Иоганн Маркони.3 До сих пор ты называл меня господином лейтенантом. Однако именно из-за этих неучей обращайся-ка теперь ко мне «ваша милость»! А впрочем, не горюй и приободрись: слово дворянина — будет у тебя все в порядке, если ты и впредь останешься честным малым. Сделать тебя солдатом? Нет, клянусь душою, нет! Ведь я мог бы уже тебя заполучить! Твои дорогие земляки собирались тебя продать за пару жалких луидоров. Но для такого дела ты оказался немного недомерком. С таким ростом мы в солдаты еще не берем, и я выбрал для тебя кое-что получше.
«Ну, — подумал я, — в таком случае ни мне, ни моему карману ничто не грозит. Ах, мой добрый хозяин! Он вполне мог бы уже меня заграбастать... Но каковы пройдохи! Меня? Продать? Чума на них! Теперь попадись только мне кто-нибудь из них, — я живо заткну ему глотку! Каково! И какой же благородный человек этот господин Маркони! И к тому же такой добрый!»
Короче говоря, с той минуты я верил каждому его слову, как Евангелию.
XL. О, матери, матери!
Вскоре Маркони отправился в Роттвейль на Неккаре,1 что в полусутках езды от Шафгаузена. Я должен был сопровождать его в крытой бричке.
В жизни своей не сиживал я в таком экипаже. Кучер помчался по городу в гору, к Швабским воротам, да так, что только грохот стоял. Мне казалось, что еще миг — и мы опрокинемся, и мне хотелось схватиться за любую стенку. Маркони помирал от хохота:
— Да не выпадешь ты, Ольрих! Будь смелее!
Я, однако, быстро обвыкся и получил и от езды в экипаже, и вообще от всего этого путешествия немалое удовольствие.
А между тем именно в это самое время случилось одно неприятное для меня происшествие. Через несколько дней после нашего отъезда, приехала в Шафгаузен моя матушка, и поскольку хозяин гостиницы не мог сказать ей, ни когда мы воротимся, ни куда и по какой дороге мы поехали, она была вынуждена отправиться домой, так и не повидав свое милое дитя. Она привезла мне мой Новый Завет и несколько сорочек и поручила хозяину гостиницы переслать их мне, если, паче чаяния, я больше не вернусь в Шафгаузен.
О, добрая моя матушка! Это была маленькая расплата за ее неверие; она не верила, что отец меня повидал, и хотела своими глазами взглянуть на меня, чтобы убедиться в этом. Совершенно безутешная, обливаясь слезами, пустилась она из Шафгаузена в обратный путь.
Об этом мне написал вскоре, по ее просьбе, господин школьный учитель Амбюль из Ваттвиля,2 прибавив, что она, матушка, лишившись надежды увидеть меня когда-либо, посылает мне свое последнее «прости» и свое материнское благословение. Это было прекрасное письмо, и оно глубоко меня тронуло. Среди прочего там сообщалось, что когда до моих родных мест дошел слух, будто меня увозят за море,3 мои младшие сестрички готовы были продать все свои бедные платьица, чтобы выкупить меня, да и матушка — вместе с ними.
Всех их, сестер и братьев, было в доме девятеро.4 Можно было бы решить, что этого вполне достаточно. Однако настоящая мать не захочет терять ни единого дитяти, потому что все они — свои. И действительно, всего за три недели до этого она лежала в родах и, едва поднявшись, отправилась ко мне в Шафгаузен. О, матери, матери!
XLI. Туда-сюда, сюда-туда
Как только мы, прибыв в Роттвейль, остановились в гостинице «Под арбалетом», мой хозяин сообщил в Шафгаузен о своем местонахождении, с тем чтобы его вахмистры,1 если они наберут рекрутов, посылали бы их сюда. Вскоре пришел ответ. При нем находился подарок моей матушки, письмо господина Амбюля и — я так и подпрыгнул — конвертик от Анхен. Он был уже вскрыт, потому что в нем должен был лежать цюрихский гульден2 в виде привета мне, и оный теперь отсутствовал. Да что за печаль! Нежности плутовки в письмеце меня с лихвой за все вознаградили. Сразу же составленные обстоятельные мои ответы на эти письма теперь уже не припомнить. К тому же письмо к Анхен было длинным, как водяной волос.3
В Роттвейле на этот раз мы задержались ненадолго и, возвратившись в милый Шафгаузен, стали делать время от времени короткие выезды в Диссенгофен, Штейн-на-Рейне,4 Фрауэнфельд и т. д. Каждую неделю спускались к нам погонщики вьючных лошадей5 из Токкенбурга. Мне было приятно видеть их уже просто потому, что это были мои земляки. И я всегда радовался, как только заслышу бубенцы их лошадок. Я постарался познакомиться с ними поближе и передавал через них пару раз письма и маленькие презенты для своей милой и для своих братьев и сестер, но ответа не получил ни разу. Я не знал, что и думать. В третий раз попросил я одного малого постараться доставить все по назначению. Он уставился на сверток, наморщил лоб и не говорил ни «да», ни «нет». Тогда я дал ему бацен.
— Ладно, ладно — произнес тут мой славный земляк. — Доставлю, так уж и быть, куда надо.
И вправду, довольно скоро пришли, как положено, уведомления о вручении. Прежние же мои письма и посылки наверняка, как говорится, уплыли в Голландию.6
В Шафгаузене стояли тогда по разным гостиницам пятеро прусских офицеров-вербовщиков. Каждый день один из них устраивал для остальных стол. Через каждые пять дней наступала и наша очередь. Это обходилось нам в один луидор, на который можно было, впрочем, попить и бургундского, и шампанского7 вдоволь. Но спустя недолгое время пришлось вербовку бросить. Пронесся слух, что якобы какому-то молодцу родом из Шафгаузена, отслужившему в Пруссии все положенные годы, никак не удается получить отставку. Словом, всем офицерам пришлось собирать вещички и искать пристанище в других местах.
Моему хозяину и без того не везло здесь с уловом, если не считать трех отпетых мошенников, которым из-за их преступлений хотелось дать отсюда тягу. Мы опять отправились в Роттвейль. За несколько недель нам удалось там заполучить одного-единственного парня, дезертира из Пьемонта.8 Впрочем, Маркони был очень ему рад, так как это оказался его соотечественник, с которым можно было поболтать по-польски.
А впрочем, в Роттвейле жить было весело. Особенно часто отправлялись мы вместе с еще одним офицером-вербовщиком, с нашим бравым хозяином гостиницы, а также с парой священников в окрестные места на охоту. В горнунге-месяце9 1756 г. мы предприняли поездку в Страсбург. По пути мы заночевали в Гаслахе, что в Канцингенской долине.10 В эту самую ночь произошло ужасное землетрясение,11 которое чувствовалось по всей Европе. Я же ровно ничего не заметил, так как накануне целый день проскакал верхом на ломовой лошади и устал до смерти. Поутру, однако, увидел, что все проулки засыпаны кирпичом от дымовых труб, а лесная дорога так была завалена упавшими крест-накрест деревьями, что пришлось много раз делать объезды.
В Страсбурге я только разинул рот и глаза, ибо увидал: 1) первый раз в жизни большой город, 2) первый раз в жизни крепость, 3) первый раз в жизни военный гарнизон, 4) в тамошнем монастыре первый раз в жизни собор, при виде которого мне не хотелось усмехаться, когда его называли храмом.12
На это путешествие мы потратили восемь дней. Мой хозяин и здесь был щедр ко мне и не задерживал оплату. Я мог бы накопить кучу денег, если бы не был таким никудышним растяпой. Да и сам он вел хозяйство немногим лучше.
Воротившись в Роттвейль, мы устраивали ежевечерние пирушки то в одном кабачке, то в другом. Едва ли не все свадьбы праздновались в нашей гостинице, чтобы угодить Маркони. Он одаривал всех невест и веселился потом с ними напропалую.
Я и сам стал находить во всем этом все больше вкуса. Правда, я дал себе твердый зарок хранить верность своей Анхен и искренне придерживался его. Но при всем этом нисколько не стеснялся заводить шашни то с одной, то с другой милашкою, тем более что относились они ко мне с немалой благосклонностью.
Что касается моего хозяина, то уж тот был любителем прекрасного пола до ужаса, и попадись ему хоть кухарка — и та сгодится. «Боже меня сохрани от этого! — нередко думалось мне. — Осрамить бедную честную девушку, а потом, не сегодня-завтра уехать прочь и попросту бросить ее!»
Одна из двух кухарок нашей гостиницы, Мариана, была мне очень по сердцу. Она влюбилась в меня по уши и старалась угадать по глазам всякое мое желание. Я же всегда держался привередливо, но это ее не огорчало и чувств ее ко мне не меняло. Красоткою она не была, но отличалась сердечною добротой. Другая кухарка, Ханна, доставляла мне больше забот. Эта-то была очень миловидна, и я, потому наверное, был некоторое время смертельно в нее влюблен. Ответь она охотнее на мои ухаживанья, я мог бы и вправду потерять от нее голову. Однако вскоре я убедился, что она благосклонна к Маркони. Я приметил, что она каждое утро проскальзывает в его комнату. Тем самым она оказала мне двойную услугу. Во-первых, моя любовь обратилась в ненависть, а, во-вторых, мой хозяин перестал подыматься с постели в такую рань, как прежде, и, значит, я получил возможность подольше поспать.
Иногда явится он в полной амуниции в мою комнату, а я все еще сплю. Но он ничего не говорит, так как и сам заметил, что мне известно, где собака зарыта.
Тем не менее, как это водится у подобных господ, он с большой важностью предостерегал меня от своих собственных грехов.
— Ольрих! — говаривал он. — Послушай меня, не заходи, общаясь с девицами, слишком далеко, не то наживешь себе тяжкие заботы!
А в общем-то, жилось мне при нем точно так же, как и поначалу. Развлечений много, дел мало, и хозяин — душа-человек, и так почти всегда, исключая лишь пару случаев. Один раз, когда я не сумел сразу найти ключик от ошейника хозяйского пуделя, и другой случай, — когда хозяин счел, что это я разбил зеркало. Оба раза никакой вины за мною не было, но это мало помогло. Одно только покорное молчание в связи с ключом избавило меня от занесенного уже надо мной фухтеля.13
Обо всех историях подобного рода и вообще обо всем, что со мною приключалось, как о хорошем, так и о дурном (кроме, конечно, любовных моих затей), я прилежно сообщал в письмах домой и всякий раз сочинял для сестер моих и братьев целые проповеди — о том, что-де нельзя ни в коем случае перечить батюшке, матушке и другим взрослым, а если поступают с тобою, как тебе кажется, несправедливо, то надлежит покорствовать и держать язык за зубами, чтобы не пришлось потом учиться этому у чужих людей, да поздно будет.
Все свои письма я показывал хозяину. Нередко, читая их, он похлопывал меня по плечу.
— Браво, браво! — заключал он, запечатывая их своей печаткой, и позволял мне получать все адресованные мне депеши порто-франко.14
ХLII. Еще кое-что в этом же роде
Мне так приятно вспоминать об этих счастливых днях! Еще и сегодня я пишу о них с большой радостью сердечной и даже и ныне полностью доволен я собой таким, каким я тогда был, и готов найти оправдание всему — и тому, что я тогда делал, и тому, что упустил. Правда, увы, не пред тобою, Всеведущий, но перед людьми могу я все-таки сказать: в те времена был я хорошим парнем, без фальши, — может быть, слишком даже порядочным для мира сего, что лежит во зле. В беззлобии и беззаботности проводил я свои дни — сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь придется жить совсем иначе.
Во всех письмах я писал родителям, чтобы они молились за меня, но оставили бы заботы обо мне, ибо Небо и мой добрый хозяин обо мне позаботятся. Поверите ли вы мне или нет, но единственной печалью, тревожившей меня иногда, было то, что вот станет мне уж слишком хорошо, и я Бога позабуду. «Так нет же (тут же успокаивал я себя)! Не бывать этому! Разве не Он путями, устроенными ради моего блага лишь Его премудростью, привел меня к нынешнему моему желанному жребию? Мой первый шаг в широкий мир был так удачен благодаря Его благому попечению. Отчего же и далее не шагать мне еще удачнее? Где-нибудь в Божьем мире доведется же и мне устроить свое счастье! Тогда я перевезу к себе Анхен, родителей, сестер и братьев и одарю всех поровну». Но как это сделается, — об этом я никогда себя не спрашивал, а если бы и задумался, то без труда нашел бы ответ, ибо в те дни все казалось мне легким делом. К тому же мой хозяин что ни день раззадоривал меня всяческими примерами — о мужиках, которые становились господами, и о разных других любимчиках Фортуны1 (о том, что и господа, бывает, делаются нищими, он умалчивал) и обещал мне самолично порадеть о моих будущих успехах не хуже отца родного и т. п.
Чего мне было еще бояться, — или лучше сказать, — зачем мне было стеснять себя в своих надеждах? «Ведь у меня такой хозяин, как Маркони, такой важный господин, — рассуждал я, осёл, — второе, ну, или, возможно, третье лицо после короля, раздающее в дар земли и города, сколько ему вздумается, не говоря уже о деньгах. Если уж он сейчас так добр ко мне, чего только не сделает он для меня в будущем! Разве стал бы он так тратиться на меня, грубого, неотесанного мужлана, когда бы не строил великих планов на мой счет? Ведь мог же он отправить меня сразу прямым путем в Берлин, как всех прочих рекрутов, если бы когда-либо намеревался сдать меня в солдаты, что мне пытались прежде втолковать разные злые языки! Нет! Этого никогда не произойдет, готов поручиться жизнью и смертью!» Так думал я, когда среди сплошного блаженства выпадала мне минутка для размышления.
Здоров я был, как бычок. Пропитание я выбирал себе по вкусу, да и Мариана не забывала мне per se3*
Но, вообще-то, поездки ко всем этим по большей части голоштанным графам приносили весьма мало пользы его кошельку. Да еще и партии в тарок2 с попами и мирянами стоили ему немало полновесных баценов. Однажды он заставил меня изорвать на его глазах карты на мелкие кусочки и принести их в жертву Вулкану.3 А на утро я должен был раздобыть для него новую колоду. В другой раз он проиграл изрядную сумму и явился домой к девяти часам вечера в сильном подпитии и полном расстройстве чувств.
— Ступай, Ольрих! — говорит. — Отыщи мне карточных партнеров, во что б это ни стало!
— Слушаю, ваша милость! — отвечаю. — Знать бы только, где их взять, да и время уж позднее, ночь на дворе.
— Пшел, шельмец! — прервал он меня. — А иначе...
И состроил свирепую гримасу.
Пришлось тут же отправиться в поход и скитаться в темноте по улицам, навострив уши, — не послышатся ли где-нибудь звуки скрипки. Когда, забредя в верхний город,4 я проходил мимо кабачка «У мельников и хлебников», то приметил, что там вот-вот закончится вечеринка с танцами. Я проскользнул внутрь и попросил вызвать кого-нибудь из музыкантов.
В зале сидели парни, уплетая жаркое. Кое-кто их них последовал за музыкантом по пятам и — раз! — с кулаками на меня. Спасибо хозяину кабачка, иначе они прибили бы меня до смерти. Сын Аполлона5 успел, впрочем, шепнуть мне на ухо: извольте, мол, немного обождать. Я не мог быть уверен, что он сдержит свое слово, но у меня хватило глупости, чтобы, вернувшись домой, войти в комнату с такими словами:
— Ваша милость, не пройдет и четверти часа, как они будут здесь!
Побудил меня к этому страх перед новыми колотушками, когда еще и прежние не забылись. Я чувствовал настоящий ужас, боясь угодить из огня да в полымя.
Я постарался объяснить Маркони, сколько пришлось мне вытерпеть ради него, — чтобы per avanzo4* вызвать его сострадание, если дело не сладится. Однако не успели мы оглянуться, как эти добрые люди, спасители мои, явились. Наш хозяин созвал за это время нескольких веселых гуляк и парочку девиц. Маркони велел принести всю еду и питье, какие только нашлись на кухне и в погребе, бросил музыкантам дукат для почина и прошелся в менуэте и польском. Но вскоре, присев на стул, стал похрапывать, а пробудившись, воскликнул:
— Как паршиво мне, Ольрих!
Пришлось отвести его в постель, и в тот же миг он заснул, как убитый. Нам же, оставшимся, только того и надо было. Тут пошло у нас веселье, как у пташек в конополе, дым коромыслом, не разберешь — где господа, а где слуги. И так до четырех часов утра.
Хозяин мой проснулся в пятом часу, и первые слова его были:
— Не верь, Ольрих, никогда и никому на свете. Все врут, как черти. Ежели заявится сюда этот Кюйон фон Р..., скажи, что меня дома нет.
ХLIII. Еще немного, а потом: «Адью,1 Роттвейль! Адью навеки!»
Этот самый фон Р... был одним из нерадивых должников Маркони, каких у него имелось немало. И, конечно, Маркони боялся не того, что он ему деньги вернет, а как бы он еще у него не занял, поскольку мой хозяин не мог никому ни в чем отказать. Но сам он время от времени прибегал к моей помощи, чтобы вытребовать возвращение долга, хотя я для этого совершенно не годился. Должники давали мне слово чести, и я, довольный, отправлялся восвояси. Долго это, однако, продолжаться не могло. К сему добавились самые серьезные опасения Маркони, что все это может для него плохо кончиться, если иметь в виду, как мало новобранцев он поставил своему королю, просадив такие большие деньги. Ибо, как ему было хорошо известно, великий Фридрих2 умел считать, как никто другой из его современников. Поэтому он заставлял меня, хозяина гостиницы и всех своих приятелей посматривать, не удастся ли заманить в его тенета еще парочку парней. Напрасный труд. Оба его вахмистра Гевель и Крюгер3 в это время вернулись в Роттвейль — и тоже с пустыми руками.
Пришла пора нам всем собирать пожитки. Но до отъезда было устроено еще несколько веселых застолий. Гевель ловко играл на цитре,4 а Крюгер хорошо управлялся со скрипкою; оба они, покуда занимались вербовкой, держали себя как важные господа, хотя в своем полку были захудалыми капралами.5 Был еще и третий, Лаброт, крупный, могучий человек. Как и остальные, он стал теперь опять отращивать усы, которые должен был брить, будучи вербовщиком.
Эти трое молодцов повеселили напоследок своими выходками весь Роттвейль. Дело было как раз на масленицу, когда так называемый «цех дураков» (узаконенное в городе сообщество, в которое записано более двухсот персон всех сословий)6 устраивал и без того свои потехи, стоившие моему хозяину и другим господам немалых денежек.
Короче говоря, самое время было убираться из города. Стали прощаться. Мариана приготовила для меня прелестный букетик из дорогих искусственных цветов и подарила его мне со слезами, а я принял его, прослезившись не менее. И вот — прощай, Роттвейль, приятный, мирный городок! Вы, любезные, веротерпимые католические патеры и вы горожане! Как вольготно чувствовал я себя на ваших задушевных, братских пирушках! Прощайте же и вы, добрые крестьяне, чьим беседам о повседневных делах я с такой охотой внимал в нашей гостинице по базарным дням и чей разъезд на осликах по домам наблюдал с таким удовольствием! Как вкусны были молоко и яйца, которыми вы потчевали меня под вашей соломенной кровлею! Как весело было мне на ваших прекрасных лугах, над которыми Маркони дюжинами подстреливал поющих жаворонков, к моей самой искренней жалости! Как я радовался всякий раз, когда хозяин мой давал мне возможность побродить по вашим глинистым лесам, вдоль прелестных берегов Неккара, вверх и вниз по течению реки, причем мне было велено высматривать зайцев, а я охотнее слушал птиц и шелест ветра в верхушках елей! И еще раз прощай, Роттвейль, милое, дорогое мне гнездышко! Ах, вероятно, навеки!
Много видел я с той поры городов, обширнее в десять раз и в двадцать раз опрятнее и красивее тебя! Однако пусть ты был мал и по уши в навозе, для меня ты был в десять и двадцать раз милее их всех! Адью, Марианхен! Сердечное тебе спасибо за твою искреннюю, хотя и не заслуженную мною любовь! Адью, Себастиан Ципфель, милый, добрый хозяин «Арбалета» и уютной мельницы при нем! Будьте благополучны все, все!
XLIV. Путешествие в Берлин
Итак, 15 марта 1756 года отправились мы с Божьей помощью — вахмистры Гевель, Крюгер, Лаброт, я и Камински — со всеми пожитками и, исключая последнего, с полной выкладкой прочь из Роттвейля. Марианхен пришила свой букетик мне на шляпу и всплакнула. Я сунул ей в ладонь монету в девять баценов и сам чуть не заплакал от тоски. Потому что, хотя я и решился на это путешествие и не ждал от него большого зла, на сердце у меня было как-то необычно тяжело, а отчего — непонятно. Виноват ли был в этом Роттвейль или виновата Марианхен, или то, что путешествовал я без моего хозяина, или же то, что расстояние, отделяющее меня от родины и от Анхен, все росло и росло, — я написал своим домашним последнее «прости», — или же, как я полагаю, все это вместе взятое? Маркони дал мне на дорогу двадцать флоринов. Если понадобится еще, сказал он, Гевель мне одолжит. Он похлопал меня по плечу:
— Храни тебя Бог, сынок, милый, милый мой Ольрих, на всех путях твоих! Скоро увидимся в Берлине.
Слова эти он произнес с глубокой грустью: сердце у него было несомненно доброе.
В первый день мы провели в пути семь часов, добираясь до городка Эбингена1 по большей части плохими дорогами, по грязи и снегу. На второй день шли до Обермаркта2 девять часов. В первом из городков сделали привал в кабачке «У серны», во втором — теперь уж не припомню — у какого зверя.3 Там и там ели только всухомятку, а пили невесть что. На третий вечер, пройдя опять девять часов, пришли в Ульм.
На третий день дали себя знать дорожные невзгоды. На ногах появились волдыри, и самочувствие было прескверное.
От городка Эгны мы проехали кусок пути на крестьянском возу, и всем известная жестокая тряска этой фуры подействовала, особенно на меня, самым отвратительным образом. Когда мы слезли с воза неподалеку от Ульма, перед глазами у меня плыли черно-синие круги. Я опустился наземь.
— Ради всего святого, — говорю, — не могу больше! Лучше оставьте меня здесь, на дороге.
Некий милосердный самаритянин4 посадил меня на свою неоседланную клячу, на которой я и доехал до самого города, но так уморился, что не мог ни стоять, ни шагу ступить.
В Ульме мы остановились в «Орле» и провели там наш первый день отдыха. Спутники мои обновили свои старые сердечные привязанности, а я предпочел побездельничать. В этом городе я видел похоронную процессию, которая очень мне понравилась. Толпа женщин была одета во все белое с головы до ног.
На пятый день мы прошагали до Генгена семь часов. В день шестой — до Нёрдлингена5 опять семь часов, и там устроили второй привал.
У Гевеля имелась в тамошнем кабачке «У дикого человека» милашка Лизель. Она хорошо играла на цитре, а он под цитру распевал песенки. Ничего другого ни об этом месте, ни об остальных, через которые мы прошли, рассказать не могу. Обычно приходили мы в сумерках, усталые и полусонные, а рано поутру пускались в дальнейший путь. Как тут что-нибудь заметишь или разглядишь!
«Боже правый! — думалось мне часто. — Скорее бы добраться до места! В жизни своей никогда больше не отважусь на такое долгое путешествие!»
Камински — это был, как я уже мимоходом отметил, веселый поляк, могучий, как дуб, ноги — что два столпа, и шагал он мощно, как слон. Лаброт тоже был отличный ходок. Зато Крюгер, Гевель и я были на ноги слабоваты, и вскоре нам раз в неделю непременно потребовалось чинить обувь и менять подошвы.
На восьмой день добрались мы за восемь часов ходьбы до Гонценгаузена.6 А около полудня увидали, что по полю семенит к нам Гевелева Лизель. Бедняжка все время поспешала за ним разными дорогами, ни за что не соглашаясь повернуть обратно и желая оставаться при нем хотя бы до очередного нашего ночлега.
Девятый день — до Швальбаха восемь часов; десятый — через Нюрнберг до Байерсдорфа девять часов; одиннадцатый — до Тропаха7 десять часов; двенадцатый — через Барейт до Бернига8 семь часов; тринадцатый — до Гофа восемь часов; четырнадцатый — до Шлеца9 семь часов.
Здесь мы снова остановились на отдых и как раз вовремя. После Гонценгаузена мы ни разу не спали в нормальной постели, а только лишь на жалкой соломе, если еще и повезет. И вообще, хоть мы и просаживали уйму золотых, жизнь была незавидной: почти все время — скверная погода и чаще всего — ужасные дороги. Крюгер и Лаброт все дни напролет не скупились на ругань и проклятия. Гевель, напротив, человек воспитанный и мягкий, неустанно подбадривал нас и призывал к терпению.
На шестнадцатый день мы шли двенадцать часов до Кистрица.10 Там денек передохнули. На восемнадцатый день шли до Вейсенфельда11 семь часов. На девятнадцатый, переправившись через Эльбу, шли до Галле. После переправы через эту широкую реку наши сержанты12 сильно повеселели, так как отныне мы ступали по земле Бранденбурга.13
В Галле мы остановились у брата нашего Гевеля, который был священником, но тем не менее играл с нами в карты и бражничал весь вечер, так что мне показалось, что его братец сержант был, пожалуй, благочестивее. Между тем деньги у меня все вышли, и пришлось Гевелю выдать мне еще десять флоринов.
С двадцатого по двадцать четвертый день мы шли через Цербст, Дессау, Герц, Устермарк,14 Шпандау, Шарлоттенбург и т.д. до Берлина15 в общей сложности сорок четыре часа. Последние три городка в особенности кишели военными мундирами всех родов и цветов, так что глаза разбегались, а на башни Берлина нам показали еще тогда, когда мы и до Шпандау не добрались. Я думал — мы будем там через час, и каково же было мое изумление, когда мне объяснили, что мы попадем туда только наутро.
И вот наконец, к большой моей радости, мы достигли этого огромного, великолепного города. Мы прошли через Шпандауские ворота, потом по меланхолически приятной Липовой улице16 и еще по нескольким переулкам. И захотелось мне, простаку, век тут прожить, никуда не отлучаясь. «Здесь ты добудешь свое счастье! А после этого пошлешь нарочного с письмами в Токкенбург, чтобы этот малый доставил к тебе твоих родителей вместе с Анхен. То-то они глаза вытаращат» и т. п.!
Я попросил моих провожатых отвести меня к моему хозяину.
— Что ты! — возразил Крюгер. — Мы не знаем даже, прибыл ли он, и еще меньше представляем, где он остановится!
— Разрази меня гром! — удивился я. — Разве у него здесь нет собственного дома?
От этого вопроса они принялись хохотать до упада. «Смейтесь, смейтесь, — думал я. — Будет у Маркони, даст Бог, собственный дом!»
ХLV. Ветер переменился!
Было 8-е апреля, когда мы вступили в Берлин. Напрасно заводил я расспросы о своем хозяине, который, как мне стало потом известно, прибыл сюда еще за неделю до нашего прихода. В это время Лаброт (остальные постепенно разбрелись, — я и не заметил, куда именно) отвел меня на улицу Краузенштрассе во Фридрихштадте,1 показал дом, где мне жить, и тут же покинул меня со словами:
— Ну, мусью, тебе надлежит оставаться здесь до дальнейших распоряжений!
«Вот так штука! — подумал я. — Что же это значит? Ведь это вовсе никакая не гостиница».
Пока я стоял в недоумении, вышел солдат, Христиан Циттеман, и провел меня в свою комнату, где находились еще двое сынов Марса.2 Все стали удивляться и расспрашивать, кто я да откуда и т.п. Речь их я тогда еще плохо понимал.3 Отвечал я коротко, что пришел из Швейцарии и служу лакеем у его превосходительства господина лейтенанта Маркони, что сюда меня привели капралы и что больше всего мне хотелось бы знать, в Берлине ли мой хозяин и где именно он живет. Тут эти молодцы разразились таким хохотом, что мне впору было заплакать. Ни о каком таком «превосходительстве» никто из них и слыхом не слыхал.
Между тем принесли гороховую кашу, такую крутую, что ложка стояла. Я поел без большого аппетита. Не успели мы насытиться, как в комнату вошел пожилой костлявый человек, по виду которого я скоро догадался, что это не простой солдат." Это был фельдфебель.4 Он принес перекинутую через руку солдатскую униформу и, расправив ее на столе, положил поверх нее монету в шесть грошей5 и сказал:
— Это тебе, сынок! Сейчас принесу еще твою порцию хлеба.
— Что значит — «мне»? — удивился я. — От кого, зачем?
— Эй, паренек! Вот тебе амуниция и довольствие. Что еще за вопросы? Ты ведь рекрут.
— Как это так? Почему рекрут? — возразил я. — Помилуй Бог! У меня и в мыслях такого не было. Нет уж! Ни за что на свете! Я — слуга Маркони, вот и все! Такой был уговор, и ничего больше. Да вы у любого спросите!
— А я тебе говорю, парень, что ты — солдат. Уж ты поверь мне. Ничего теперь не попишешь.
Я:
— Ах, если бы здесь был господин Маркони!
Он:
— Не видать тебе его, как своих ушей! Уж лучше быть слугой самого короля, чем какого-то королевского лейтенантика.
С этими словами он удалился.
— Ради Бога, господин Циттеман! — продолжал я. — Что же теперь будет?
— А ничего, сударь, — отвечал тот, — кроме того, что и ты, так же точно как и я, и все эти вот господа, — теперь солдат и, следовательно, все мы братья. И возражать тебе никак не приходится, поскольку иначе угодишь ты на гауптвахту, на хлеб и воду, и закуют тебя там в цепи крест-на-крест, а потом так отделают фухтелями, что только ребрышки затрещат в полное твое удовольствие.
Я:
— Но ведь это бессовестно, безбожно, разрази меня гром!
Он:
— Да уж поверь — иначе не бывает и быть не может.
Я:
— Тогда я пожалуюсь самому королю!
Тут все расхохотались.
Он:
— Ну, до него-то ты ни в жизнь не доберешься.
Я:
— Тогда к кому же мне обратиться?
Он:
— Если тебе так хочется, то — к нашему майору. Только я тебя уверяю, что из этого ровно никакого, никакого проку не будет.
Я:
— И все-таки я попробую, — а вдруг, вдруг да получится?
Солдаты опять стали смеяться. Я же и вправду решил наутро отправиться к майору и расспросить его о моем вероломном хозяине.
Едва дождавшись утра, я попросил показать мне, где он квартирует. Вот это да! Мне показалось, что передо мной королевский дворец, а майор — это король собственной персоной — такой имел он величественный вид. Это был человек огромного роста, с воинственным выражением лица и глазами, горящими, как угли. Меня пробрала дрожь, и я пролепетал, заикаясь:
— Го...господин...м...майор! Я...я с...слуга господина лейтенанта Маркони. Ра...ради эт...того он ме... ме...меня на...нанял и больше ни д...для че...чего. М...можете с...сами его с...спросить. Н...не знаю, г...где он те...теперь. М...мне сказали, что я те...теперь с...со...олдат, хо...хочу я то... то...того или не. ..нет.
— Так-так! — прервал он меня. — А ты, я вижу, парень не промах! Твой благородный хозяин попотчевал нас преотлично, да и тебе наверняка перепало в карман изрядно. Короче, послужи-ка теперь королю. Решено — и никаких разговоров.
Я:
— Но, господин майор...
Он:
— Молчать, парень! А не то пожалеешь!
Я:
— Но ведь я не получил ни письменного расчета, ни наличных денег! Ах, если бы только поговорить мне с хозяином!
Он:
— Теперь тебе его долго не видать. А денег на тебя пошло больше, чем на десятерых. У твоего лейтенанта заведен подробный счетец, и ты там стоишь на первом месте. А бумажку свою ты получишь.
Я:
— Однако же...
Он:
— Пошел вон, недомерок, не то...!
Я:
— Про... про...прошу вас...
Он:
— Убирайся ко всем чертям, каналья!
Тут он как выхватит шпагу, и я опрометью — вон из дома, точно застигнутый тать, и — к себе на квартиру, которую едва нашел от страха и отчаяния.
Всю свою беду я выложил Циттеману в полнейшем отчаянии. Этот добрый человек постарался подбодрить меня:
—Терпение, сынок! Все образуется. А пока придется тебе помучиться. Сотни бравых ребят из хороших семей претерпевают то же самое. Ведь если бы, положим, Маркони мог и хотел держать тебя при себе, то непременно пристроил бы тебя в своем полку, как только вышел бы приказ «в поход шагом марш!» Однако навряд ли в нынешнее время он способен прокормить слугу, потому что просадил он на вербовке кучу денег, а рекрутов набрал всего ничего, как я понял из жалоб нашего полковника и майора. Не скоро дадут ему теперь заниматься этим промыслом.
Так утешал меня Циттеман, и пришлось мне волей-неволей довольствоваться этими утешениями за неимением лучших. И пришел я тогда к такой мысли: заваривают кашу большие люди, а расхлебывать ее приходится малым сим.
ХLVI. Неужели я и впрямь солдат?
К вечеру фельдфебель принес мне мою хлебную порцию, а также положенное оружие и т.д. и поинтересовался, не образумился ли я.
— А почему бы и нет? — ответил за меня Циттеман. — Ведь он славный парень, каких мало.
Меня повели на воинский склад и подобрали мне там штаны, башмаки и штифелетты;1 выдали шапку, галстук, чулки и т.д. Затем отправили меня и еще человек двадцать рекрут к господину полковнику Латорфу.
Нас привели в помещение, обширное, словно церковь, вынесли несколько дырявых знамен и приказали каждому из нас взяться за их бахрому. Какой-то адъютант или кто он там был, зачитал нам вслух целую уйму статей воинского устава и произнес еще несколько слов, которые большинство из нас пробормотало вслед за ним. Я же и рта не раскрыл — думал вместо этого о том, чего мне особенно хотелось, — что верую в Анхен. Потом он помахал знаменем над нашими головами и отпустил нас.
Я тотчас же отправился в кухмистерскую и заказал себе обед с кружкою пива. Это обошлось мне в два гроша. Значит, от прежних шести оставалось мне еще четыре. На них надо было прожить четыре дня, — а хватить их могло всего-то на два. Подсчитав это, я в ужасе пожаловался своим товарищам. Но один из них, Кран, ответил мне со смехом:
— Туго тебе придется! Но ничего, — у тебя ведь есть еще что продать. К примеру — твою лакейскую одежду, а то выходит, что у тебя две униформы. Все это следует превратить в серебро.2 И вот еще что — молодые солдаты получают, бывает, доплату, надо только доложить о себе полковнику.
— О, нет, ни за что! В жизни своей больше туда не сунусь, — сказал я.
— Тьфу ты, пропасть! — ответил Кран. — Придется рано или поздно привыкнуть к грому и молнии. Ради приварка надо ой как приглядываться к тому, что в этом случае делают другие. Трое или четверо, а то и впятером сговариваются между собой, покупают полбы,3 гороха, земляных груш4 и т.п. и сами себе варят. По утрам — на три пфеннига сивухи да кус солдатского хлеба; на обед берут в кухмистерской супу еще на три пфеннига да опять краюшку хлеба; а на ужин — за пару пфеннигов «ковент», то есть монастырское слабое пивко, и все тот же хлеб.
— Но ведь это же, чтоб мне провалиться, собачья жизнь! — воскликнул я.
А он в ответ:
— Да уж! Иначе не выкрутишься. Это — солдатская наука, потому как требуется еще немало других вещей, как то: мел, пудра, сапожный приклад, масло, смазка, мыло и тысяча разных мелочей.
Я:
— И на все про все те же шесть грошей?
Он:
— Именно! Но и на этом дело не кончается. Надо еще платить, к примеру, за стирку белья, за чистку ружья и т.п., если сам не умеешь этого делать.
С этим и возвратились мы на нашу квартиру. И я постарался, как умел, наладить свое хозяйство. Первую неделю, впрочем, я считался еще «на вакациях»;5 бродил по городу и по всем воинским плацам; глядел, как офицеры муштруют и колотят своих солдат, так что меня заранее прошибал холодный пот. Поэтому я стал дома упрашивать Циттемана показать мне ружейные приемы.
— Научишься еще! — сказал он. — Все дело в быстроте. Надо действовать, как молния!
И все-таки он, по доброте своей, мне и вправду все показал — как содержать ружье в чистоте, как подогнать плотно амуницию, как бриться по-солдатски и т.п. По совету Крана, я продал сапоги и на вырученные деньги купил деревянный сундучок для белья.
На нашей квартире я не уставал заниматься экзерцициями,6 читал псалмы из «Галлеского сборника духовных песнопений»7 или молился. Потом отправлялся, например, пройтись вдоль Шпрее,8 где наблюдал, как сотни солдатских рук занимались выгрузкой и погрузкой купеческих товаров. Или бывал у строящихся зданий — военного люда, занятого работой, было полно и там. Иной раз я заходил в казармы и т.п. И всюду видел я таких же солдат, занимающихся сотнями самых разных ремесел, — от живописи до прядения.
Если заглянуть в Главную караульню, то там одни дуются в карты, выпивают и веселятся, другие мирно дымят трубками и болтают между собой, а кто-нибудь даже читает душеспасительную книжку, толкуя окружающим ее смысл. В кухмистерских и пивоварнях происходит то же самое. Словом, в Берлине, среди военного народа, — я думаю, как и во всяком большом городе, — собрались выходцы со всех концов света, люди всех наций и религий, всех характеров и любой профессии, что помогает подзаработать на кусок хлеба.
Хотелось бы и мне что-нибудь заработать, как только обучусь экзерцициям, как следует. Поработать, что ли, на Шпрее? Но нет, там стоит слишком уж сильный грохот. Не лучше ли, например, податься на строительство — ведь в плотницком деле я кое-что смыслю. И я опять был готов строить новые планы, несмотря на то что все прежние столь постыдно проваливались. Ведь есть же тут (так я сам себе заговаривал зубы) даже среди простых солдат немало таких, кто составил себе неплохой капиталец, кто завел кабачок, торговлю и т.п. Но я не брал в расчет того, что раньше в армии получали на руки иную плату, чем нынче, и что такие парни иногда выгодно женились и проч. Особенно же того, что они хорошо умели распоряжаться своими шиллингами, превращая их в гульдены. А что до меня, то ни с шиллингом, ни с гульденом мне сладить не удавалось. И когда уже становилось вовсе невмоготу, я находил некоторое слабое утешение в такой мысли: вот дойдет дело до сражения, и свинец пощадит счастливчиков столь же мало, как и тебя, бедолагу! Стало быть, и ты не хуже других.
ХLVII. Вот и начались пляски
На второй неделе меня заставили ежедневно являться на плац-парад, где я неожиданно повстречал троих земляков — Шерера, Бахмана и Гестли, которые все попали, оказывается, в один со мною полк (Иценблицкий), а двое первых — даже в одну со мною роту (Людерицкую).1
Первым делом пришлось учиться маршировать под командой ворчуна-капрала с кривым носом (звали его Менгке). Этот субъект опротивел мне до смерти. Когда он бил меня по ногам, кровь бросалась мне в голову. Такое его учение рукоприкладством никогда ничему меня бы не научило. Это однажды заметил Гевель, который учил своих людей на том же плацу. Он обменял меня на другого новобранца и взял меня в свой «плутон».2
Я радовался этому от всего сердца. Теперь за какой-нибудь час я усваивал больше, нежели прежде за десять дней. От этого доброго человека я скоро узнал, где живет Маркони, но только он заклинал меня всеми святыми не выдавать его.
На другой же день, едва закончились экзерциции, я поспешил к тому дому, который описал мне Гевель, бормоча себе под нос:
— Ну-ну, Маркони, погоди только, я уж суну тебе в нос всю твою учиненную со мною гнусность, все твое подлое предательство, — обо всем ты еще пожалеешь! Теперь-то я знаю, что ты здесь всего лишь лейтенантик, а никакая не «ваша милость»!
Не понадобилось много расспрашивать, чтобы отыскать нужный мне дом. Это было одно из самых жалких жилищ во всем Берлине. Я постучал. Мне отворил двери низенький, тощий, яркорыжий малый, который провел меня вверх по лестнице в комнату моего хозяина. Тот, как только меня завидел, шагнул навстречу, пожал руку и заговорил со мною с таким ангельски добродушным видом, что вся моя злость мгновенно улетучилась, и даже слезы навернулись на глаза:
— Ольрих! Мой Ольрих! Не суди меня строго. Я тебя любил, люблю по-прежнему и буду любить всегда. Обстоятельства вынудили меня поступить так. Будь доволен: теперь и я, и ты — мы служим одному господину.
— Да, ваша милость.
— Да нет же, не «ваша милость»! — возразил он. — В полку надо говорить только «господин лейтенант»!
Подробнейшим образом описал я ему изрядные тяготы нынешней своей жизни. Он выразил мне самое искреннее сочувствие.
— И все же, — продолжал он, — у тебя еще немало вещей, которые можно обратить в серебро. Например, охотничье ружье, что я тебе подарил, дорожную шапку, полученную в Оффенбурге от лейтенанта Гофмана, и т.п. Приноси их мне, я дам за них настоящую цену. Да ведь ты еще можешь, как все рекруты, обратиться к майору с просьбой о повышении оплаты.
— Разрази меня гром! — прервал я его речь. — Нет уж! Хватит с меня и одной с ним встречи!
И я рассказал ему о том, как именно разговаривал со мной этот знатный господин.
— Проклятие! — воскликнул он. — Эти болваны воображают, будто вербовщик способен питаться духом святым, да при этом еще и рекрутов отлавливать!
— Да если б я знал, — ответил я, — то в Роттвейле придержал хотя бы деньги на черный день.
— Всему свое время, Ольрих! — бодро сказал он. — Держись молодцом! Когда закончатся экзерциции, можно будет кое-что заработать. И кто знает, — может, скоро и в поход, а уж там...
Больше Маркони ничего не прибавил, но я отлично понял, что он имеет в виду, и отправился восвояси такой довольный, словно поговорил с родным отцом.
Через несколько дней я принес ему, как он просил, ружье, палаш и свою бархатную шапку. Он заплатил за них какую-то мелочь, но все равно я был доволен, — ведь это исходило от Маркони! Вскоре я продал и свою шляпу с галуном, зеленый камзол и т.д. и т.п. и накупил взамен всего, что только смог достать.
Шерер был таким же бедняком, как и я, но получал пару грошей доплаты и двойную порцию хлеба. Майор ценил его выше, чем меня. Но мы с ним стали добрыми друзьями, и если одному из нас было что жевать, то и второму перепадал кусочек. Бахман же, который жил с нами, был, наоборот, большой скаред, и нам было трудно иметь с ним дело. И все-таки нам казались бесконечными часы, когда не удавалось побыть вместе. А что касается Г.,3 то если он был нам нужен, приходилось его разыскивать в б...ских домах. Через недолгое время он угодил в лазарет.
Мы с Шерером в полном согласии решили между собой, что берлинские бабенки отвратительны и ужасны. И я мог бы поручиться за него, а он — за меня, что мы и пальцем не коснулись ни одной из них. Едва заканчивались экзерциции, мы с ним бежали в Шоттерманов погребок,4 выпивали по кружке руинского или готвицкого пива,5 выкуривали по трубочке и заводили швейцарскую песенку с трелями. Нас всегда с удовольствием слушали все эти бранденбуржцы и померанцы.6 А некоторые господа, бывало, зазывали нас настоятельно в какую-нибудь кухмистерскую, прося исполнить для них альпийскую пастушью песню. Чаще всего наш гонорар состоял всего лишь из миски дурного супа, но в нашем положении мы были рады и этому.
ХLVIII. Помимо прочего, мое описание Берлина
Берлин — это самый большой на свете город, какой я только видел. И все же мне так и не удалось обойти все его концы. Мы, трое швейцарцев, не раз собирались совершить такой обход, но то не хватало нам времени, то денег, а то нас так доймет наша солдатская лямка, что в пору лечь и лежать в лежку.
Город Берлин, как многие говорят, состоит из семи городов. Но нам назвали всего три: сам Берлин, Нейштадт и Фридрихштадт.1 Все они отличаются друг от друга видом своих построек. В Берлине — иначе его называют Кёль2 — дома высокие, как в имперских городах,3 но улицы не столь широки, как в Ней- и Фридрихштадте, в которых, однако же, дома пониже и больше похожи один на другой. Притом в этих городах, будь это даже самые маленькие домики, где обитают бедняки, все строения выглядят опрятно и красиво. Во многих местах попадаются обширнейшие пустыри, которые служат частью для экзерциций и парадов, а частью вообще ни для чего. Встречаются также хлебные поля, сады, аллеи — и все это в пределах города.
Больше всего любили мы ходить на Длинный мост, на середине которого сидит на коне старый маркграф Бранденбургский, отлитый из бронзы в натуральную величину, а у его ног приковано несколько курчавых сынов Енаковых.4
Потом мы шли вдоль берега Шпрее на Вейдендамм,5 где всегда очень весело, потом — в лазарет к Г...и к Б...,6 чтобы лицезреть печальнейшую на свете картину, от которой у любого, кто еще не спятил, должно исчезнуть всякое желание разгульной жизни.
В палатах, огромных, как церковь, тесными рядами стоят койки, и на каждой — бедный сын человеческий ждет уготованного ему рода смерти, и только редкий из них — выздоровления. Вот дюжина их издает жалобные стенания под руками фельдшеров; а там другие корчатся под одеялами, подобно полураздавленным червякам; многие — с гниющими или вовсе сгнившими конечностями и т.п.
Обычно мы выдерживали там всего несколько минут и устремлялись прочь, на свежий воздух. Расположимся где-нибудь на зеленой травке, и, как всегда, воображение невольно уносит нас на нашу швейцарскую родину, и мы принимаемся рассказывать друг другу, как мы жили дома, как было там хорошо, как привольно, а здесь, ну что за проклятое житье и т.п. Потом начинаем строить планы своего освобождения. То появляется надежда: не сегодня-завтра какой-нибудь из планов нам непременно удастся, то, наоборот, нам кажется, будто все они упираются в непреодолимую гору, но больше всего страшила нас мысль о последствиях всякого подобного предприятия, если оно кончится неудачей. Не проходило почти ни одной недели, чтобы мы не выслушивали новую страшную историю о пойманных дезертирах, которых вылавливали, несмотря ни на какие их хитрости — переодевание в корабельщиков и в разных других мастеровых, даже в женское платье, прятанье в бочках и чанах и прочих местах. Нам доводилось видеть, как водят их туда и сюда по восемь раз сквозь длинный строй в двести человек со шпицрутенами,7 пока они не падают замертво. А назавтра — опять все сызнова. Срывают одежду с измочаленной спины и хлещут шпицрутенами с новой силой, пока с пояса не повиснут окровавленные клочья. Взглянем мы с Шерером тогда друг на друга, дрожащие и бледные, как смерть, и пробормочем:
— У, варвары проклятые!
Подобное чувство испытывали мы и тогда, когда оказывались на учебном плацу. И здесь никогда не прекращались ругань и работа тростями молодых офицериков, охочих до рукоприкладства, а также жалобные вопли наказуемых. Правда, мы-то сами были в строю одни из первых и старались-вышагивали. Но от этого не легче было нам видеть, как отделывают других за малейший промах без всякого милосердия, и каково было знать, что и нам придется вот так, из года в год, держать строй, простаивать нередко по пять часов кряду накрепко затянутыми, словно завинченными, в амуницию, маршировать вдоль и поперек по плацу, словно палку проглотив, и безостановочно выделывать стремительные ружейные приемы. И все это — по команде офицера, торчащего перед нами со зверским выражением лица и с поднятой наготове тростью и способного в любой миг сечь нас в капусту. При таком обращении даже у самого крепкого человека руки-ноги откажут и у самого покорного терпение лопнет.
А когда мы возвращались на свою квартиру, еле живые от усталости, опять начиналась бешеная гонка, — надлежало привести в порядок одежду, удалить с нее каждое пятнышко, ибо вся наша военная форма, исключая синий мундир, была белого цвета. Ружье, патронташ, кивер, каждую бляшку на ремнях — все положено было начищать до зеркального блеска. Стоит только на всем этом обнаружиться хоть малейшему изъяну, или если хоть один волосок в парике будет уложен не по правилам, — первым же «приветствием» на плацу станет изрядная порция тумаков.
Так продолжалось весь май и июнь. Даже по воскресным дням нам не давали передышки, поскольку в честь воскресной церковной службы устраивался особо торжественный парад. Так что для наших прогулок выпадали лишь редкие случайные часы, а в общем, ни на что не хватало времени, кроме как на страдания от голода.
На самом деле именно в то время наши офицеры получили строжайший приказ муштровать нас на все корки, однако мы, рекруты, об этом не ведали ни сном ни духом, просто считая, что в армии всегда так делается. Старые же солдаты чуяли что-то, но до времени помалкивали.
Между тем Шерер и я начисто издержались. Все, что можно было от себя оторвать, — все было продано. Приходилось довольствоваться хлебом и водою (или «ковентом», который был немногим лучше воды). Иногда я перебирался от Циттемана на квартиру к Вольфраму и Мевису, из которых первый был плотником, а второй башмачником, и оба имели хороший заработок. Поначалу я присоединился к их хозяйству. Они столовались по-крестьянски: похлебка и мясо, земляные яблоки и горох. Каждый участник вкладывал в такой обед по две трехпфенниговые монеты; ужинал и завтракал каждый сам по себе. Мне были особенно по вкусу бычья нога, селедка или трехпфенниговый сыр.8 Но долго участвовать в их хозяйстве я не смог: продавать было уже нечего, а мои солдатские деньги уходили почти все целиком на белье, пудру, обувь, мел, ружейную смазку, масло и прочую чепуху.
Вот и пришлось мне теперь по-настоящему класть зубы на полку, и ни единой душе на свете не мог я поплакаться от всего сердца на свою печальную участь. Днем я бродил тени подобно. Ночью ложился на подоконник и в слезах глядел на луну, исповедывая ей горькое свое горе:
«О, ты, которая висишь теперь и над Токкенбургом, передай милым моим домашним, как приходится мне тяжко, — родителям моим и всем братьям и сестрам. Поведай моей Анхен, как я по ней тоскую, верность ей храня. И попроси их всех молиться за меня Богу. Но ты все молчишь и мне не отвечаешь, путь свой продолжая так безмятежно! Ах, зачем я не птица, чтобы полететь за тобою следом в мою отчизну! Бедный, неразумный я человек! Боже, смилуйся надо мною! Собрался я добыть себе счастье, а добыл себе одно горе! Что мне толку от сего града великолепного, если в нем я обречен на погибель!
О, если б со мною были здесь близкие мои и был бы у меня такой вот славный домик, как тот, что стоит как раз напротив, — и не был бы я солдатом, то жилось бы мне тогда здесь лучше некуда. Стал бы я трудиться, завел бы торговлю или кабачок и навсегда забыл бы тоску по родине! Но нет! Тогда пришлось бы мне видеть ежедневно собственными глазами горе столь многих несчастных! Нет, дорогой мой, милый Токкенбург! Вечно останешься ты для меня лучшим на свете местом! Но ах! Быть может, никогда в жизни я тебя больше не увижу и лишусь даже и того утешения, чтобы писать время от времени милым своим, живущим под твоим небом! Ибо тут все говорят, что если уж отправишься в поход, то оттуда невозможно будет написать ни строчки, где можно было бы высказать все, что наболело на сердце.
Но кто знает! Ведь есть же Отец мой небесный, а уж ему-то известно, что эту свою рабскую судьбу избрал я не по своей воле и не из низости душевной, а что обманули меня злые люди. Эх, если ничего мне больше не останется... Однако нет! Дезертировать я не стану. Лучше смерть, чем попасть под шпицрутены. Да и что-нибудь все-таки да переменится. Шесть лет можно, пожалуй, и выдержать. Хотя это долго, ох, как долго, и к тому же, если люди не врут, кажется, об отставке и думать нечего! Только как же это! Почему не будет отставки? Ведь имеется же у меня договор, хоть и насильно мне навязанный! Да пусть лучше они убьют меня! Я до самого короля дойду! Побегу за его каретой, повисну на ней, лишь бы он соблаговолил выслушать меня. И тут я выскажу ему все начистоту. И справедливый Фридрих не будет несправедлив именно ко мне» и т.д.
Таковы были тогда мои разговоры с самим собою...