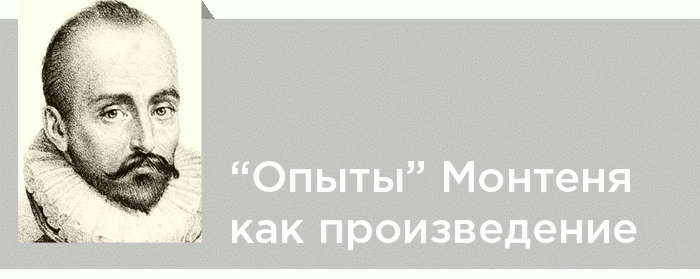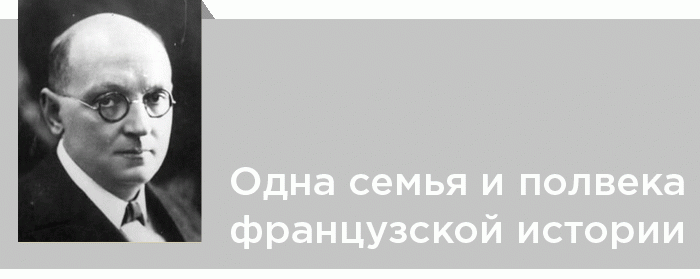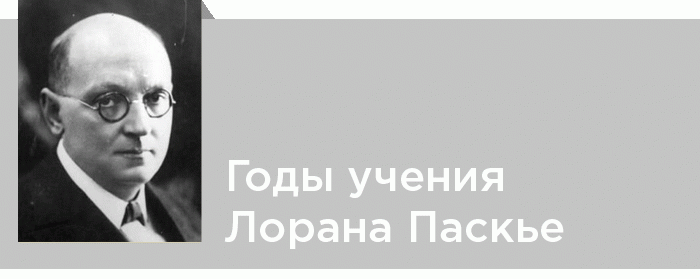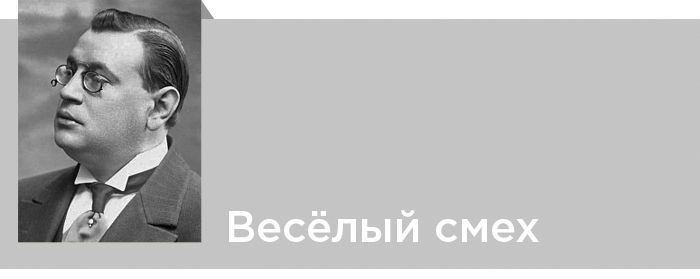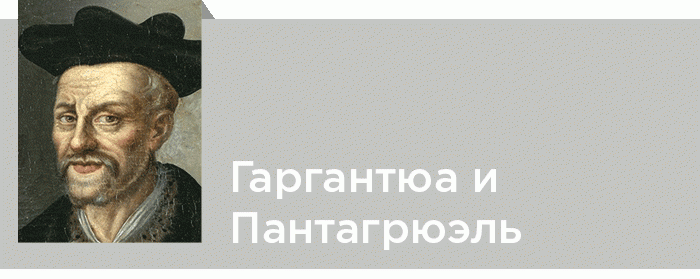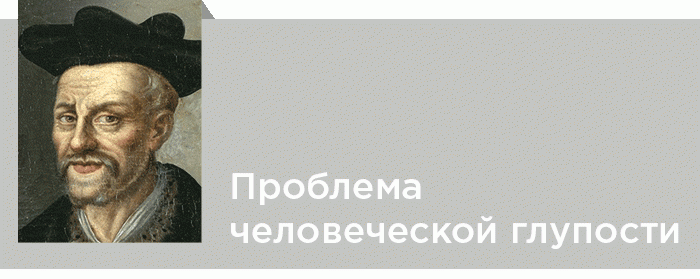Итальянский дневник Монтеня
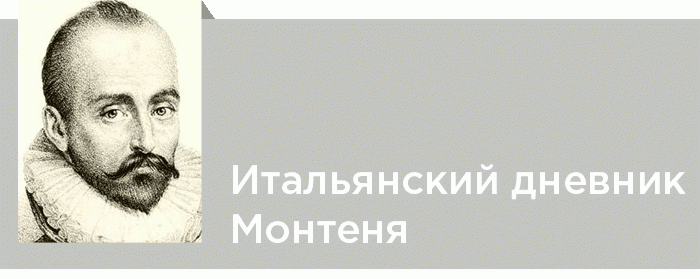
Артамонов С.Д.
В 1770 году некий аббат Прюни, перигорский каноник, обследовал архивы области, собираясь написать историю города. Аббат заглянул в старый замок Монтень, тогда уже принадлежавший графу Сегюру де ля Рокетт, потомку в шестом колене дочери Монтеня Элеоноры. Ему показали старый сундук, в котором хранились полуистлевшие рукописи, никого не интересовавшие в семье и содержание которых вряд ли кому из них было ведомо.
Разбирая рукописи, аббат обнаружил тетрадь, первая страница которой была оторвана, очевидно, уже давно и потеряна. Мелким неразборчивым почерком исписано около двухсот страниц, причем вторая половина из них на итальянском языке. Это был дневник путешествия Монтеня в Италию, содержащий скупые, но драгоценные для нас записи великого мыслителя. Издание дневника в 1774 году, осуществленное Мёнье де Керлоном (Meunier de Querlon), сотрудником королевской библиотеки, привлекло к запискам Монтеня интерес европейской общественности. Правда, Дидро и Гримм в «Литературной корреспонденции» (рукописном журнале, рассчитанном на заграничного читателя, узкого круга венценосных особ тогдашней Европы), в майском номере 1774 года, сообщали: «Эти заметки — лишь сухой и холодный перечень пунктов путешествия и вряд ли имеют какое-либо иное достоинство, кроме того, что сообщают нам о самочувствии нашего философа на водах в Италии и Германии и при приеме различных лекарств».
Рукопись, найденная аббатом Прюни в архивах замка Монтень, была передана в королевскую библиотеку и там затеряна. Издание Мёнье де Керлона, содержащее, очевидно, немало ошибок, стало единственным источником для всех последующих перепечаток.
Заключение, которое сделали издатели «Литературной корреспонденции», было весьма сурово: «Дневник Монтеня представляет интерес чисто антикварный, как старая лампа Эпиктета». Тем не менее интерес к путевым заметкам Монтеня с годами не ослабевал. Книга переиздавалась не однажды. Ее читали. «Дневник... не содержит ничего любопытного в литературном отношении, но с точки зрения нравственной, с точки зрения познания человека — он полон значения», — признавался Сент-Бев, один из классиков французской литературной критики.
Многие из французов вспоминали об этом дневнике, находясь в Италии и созерцая бессмертные памятники, жалея при этом, что их прославленный соотечественник не оставил восторженных отзывов об итальянском искусстве. «Увидев столько великих произведений, Монтень ни об одном из них не вспомнил, память не подсказала ему имен ни Рафаэля, ни Микеланджело, умершего едва лишь шестнадцать лет до того», — сетовал Шатобриан.
Стендаль, влюбленный в Италию, в ее народ, в ее искусство, не способный говорить спокойно о ней, был озадачен тем, что его соотечественник, обожаемый им Монтень, ничего не сказал в своем дневнике ни о Рафаэле, ни о Микеланджело (а мог бы сказать, и как сказать!). «Монтень, — остроумный, любознательный Монтень, путешествовал по Италии, — ради развлечения и здоровья. В 1580 году, когда Монтень был в Риме, прошло едва семнадцать лет после смерти Микеланджело, все звучало от громкой славы его творений, божественные фрески Андре дель Сарто, Рафаэля и Корреджо блистали первозданной свежестью. И что же? Монтень, ум столь пытливый, столь жадный, не сказал о них ни слова».
Стендаль решил, что «Монтень, как и Вольтер и почти все люди, блещущие истинно французским умом, ничего не понимают ни в Рафаэле, ни в Микеланджело».
Действительно, Монтень о многом не сказал в своем дневнике, о чем хотели бы мы услышать из его уст. Менее всего он говорил об искусстве. Шатобриан заявил, что «автор «Опытов» искал в Риме лишь Рим античный». Шатобриан не понял своего великого соотечественника.
Антикварные интересы всегда были чужды Монтеню, хотя он любил и любил страстно античность, ибо она служила его современности. Он смеялся над праздными путешественниками, которые ехали в Италию с тем, чтобы досконально узнать, сколько пядей во лбу Нерона, насколько отличаются изображения его лица на старых медалях от его скульптурных портретов, дошедших до нас от античности, и т. п.
Монтень не остался чужд итальянскому искусству. Мы увидим, как часто взор его останавливается на великолепных творениях итальянских мастеров. Он говорит о них скупо, не развивая своих мнений, но ого путевые заметки не предназначались им для печати, это своеобразные записные книжки писателя. Кое-что было потом перенесено им в «Опыты», заняв свое место в системе его философской аргументации.
Известная сдержанность в суждениях Монтеня о художественных шедеврах современной ему Италии вызвана, пожалуй, еще и тем обстоятельством, что он видел в них эстетическое возвеличение церкви. Одна мысль об этом снижала их обаяние в его глазах. Католическая церковь была в то время главным заказчиком, она содержала художников, оплачивая их труд, и они творили для нее. «Великолепие Рима, его величие в манифестации благочестия», — бросает он многозначительную фразу.
Монтень много говорит в дневнике о себе и своей болезни, перед нами обнажены человеческие слабости его натуры. Жан Рлаттар, написавший о нем прекрасную книгу, остроумно замечает, что перед нами «Монтень в туфлях и халате».
И тем не менее путевые записки великого мыслителя Франции продолжают возбуждать интерес читателей отнюдь не узкого круга специалистов. Европа, люди, нравы второй половины XVI столетия встают перед нами в скупом отчете дневника.
Монтень, почувствовав первые симптомы начинающейся болезни, которая потом сведет его в могилу (камни в мочевом пузыре), отправляется в далекое путешествие на воды Германии и Италии. 22 июня 1580 года он покидает свой замок. Философа сопровождают Бертран де Монтень Сеньер де Маттекулон, его двадцатилетний брат, пожелавший поупражняться в Риме в искусстве фехтования, его второй родственник — муж Марии Монтень Бернар де Казели, молодой аристократ Шарль д’Эстиссак, с матерью которого был дружен философ, и товарищ Шарля д’Эстиссака перигорский дворянин Сеньер д’Отуа.
Шарль д’Эстиссак вез с собой письмо короля Генриха III к герцогу Феррарскому.
Ехали на конях. Это был для Монтеня любимый вид передвижения.
Дороги были плохие. Во Франции ими стали заниматься позднее, со времен Кольбера. Движение по дорогам не всегда было спокойно, пошаливали разбойники.
Монтень заезжает в Париж, чтобы приподнести Генриху III первый том только что вышедших из печати «Опытов». «Государь, — моя книга будет приятна вашему величеству, ибо в ней нет ничего, кроме рассказа о моей жизни и моих поступках», — писал он в посвящении королю. Генрих III понял намек перигорского дворянина: в книге нет «политики», нет религиозных споров, которые отравляли тогда жизнь двора.
Время было смутное. Не так давно произошли трагические события Варфоломеевской ночи, потрясшие всю Европу неслыханной жестокостью сторонников папы.
Голод, эпидемии, хозяйственный упадок сопутствуют начавшейся гражданской войне во Франции. Отдельные населенные пункты и целые области переходят из рук в руки, подвергаясь разбою, пожарам, грабежам. Войска перигорского сенешаля Андре де Бурдейя разбегаются, не получая жалованья. Протестанты усиливают свои позиции. Многие сеньоры области, где находился замок Монтень, переходят в партию гугенотов (виконт де Тюренн и др.). В 1576 году Генрих Наваррский совершает побег из Парижа и появляется в Гиени. Ценя ум и авторитет Монтеня в местных кругах, он стремится заручиться его поддержкой, назначает его камер-юнкером своего двора. Ни та, ни другая сторона не забывают Монтеня, ни та, ни другая партия не видят в нем политического противника, и обе надеются склонить его на свою сторону. Монтень отчетливо различает личные качества Генриха Наваррского и Генриха III, политический ум первого и ничтожество второго, но Генрих III — законный король, бороться же с властью, закрепленной определенными, принятыми в народе юридическими нормами, он не считал возможным. Так мыслила в то время основная масса народа, авторитет королевского титула еще был свят в глазах масс.
Потому, с одной стороны, дружба с Генрихом Наваррским, которого Монтень, бесспорно, уважал, как человека талантливого, способного возглавить крепкое правительство, столь необходимое в борьбе с феодальной анархией тех дней, с другой — верноподданнические чувства к Генриху III.
Генрих III рассыпался в комплиментах по адресу писателя и пожелал путешественникам доброго пути.
Путевые наблюдения французского философа, занесенные на страницы его дневника в эпоху, столь удаленную от нашего времени и столь значительную для истории народов Европы, не могут не интересовать нас. Мы расскажем о некоторых страницах этого дневника, важных для уяснения событий времен Монтеня, важных для понимания личности и системы взглядов великого мыслителя, каждая строка которого для нас драгоценна.
Первая часть дневника записана кем-то другим, очевидно секретарем писателя, вторая часть (на итальянском языке) — рукою самого Монтеня. Как первая, так и вторая часть представляют для нас одинаковый интерес. Секретарь писателя был, по всей видимости, человеком умным, может быть из тех молодых людей, которые богаты умом, но бедны деньгами («Riche de sens, pauvre d’avoir»).
Он записывает от себя, но все, сказанное Монтенем, подхватывает и заносит на страницы дневника, изредка лишь позволяя себе собственные суждения.
В скупых заметках открываются перед нами Франция, Германия, Швейцария, Италия такими, какими они были около четырехсот лет назад.
Посетив войска, осаждавшие Ля Фер, Монтень принял участие в торжественном кортеже, сопровождавшем тело только что умершего от тяжелых ран Грамона в Суассон, и потом 5 сентября 1580 года отправился вместе с сопровождавшими его лицами в Германию. Секретарь аккуратно заносил в путевой дневник все пункты, где останавливались, ночевали или принимали пищу путешественники.
Здесь когда-то были высокие, крепкие городские стены и башни, но теперь они разрушены «во время нашей второй гугенотской смуты», замечает секретарь. Монтень посетил здесь казначея городского собора Жюста Терреля, «известного среди ученых Франции, маленького старичка шестидесяти лет», который объездил Египет и Иерусалим, прожил семь лет в Константинополе. Он показал свою библиотеку и редкостные растения своего сада.
Искусство прививок и скрещивания, очевидно, еще не было известно, но декоративное подрезание деревьев уже входило в практику. Путешественники, как записывает секретарь, очень подивились в саду церковного казначея самшитовому дереву, которое, искусно подрезанное, походило на огромный, в рост человека, шар.
В Эпернее Монтень вместе с юным д’Эстиссаком прослушали мессу («это их обычай») в церкви Богоматери. Богослужение вел епископ Ренский Генекен (Hennequin) — один из вождей католической Лиги, в будущем архиепископ Реймский.
Секретарь, отмечавший в дневнике все исторические достопримечательности, связанные с местами пребывания путешественников, сообщает, что в церкви, где слушал мессу г-н Монтень, был погребен маршал Строцци, убитый в 1568 году выстрелом из мушкета при осаде Тионвиля. Он умер, «богохульствуя», отказавшись от причастия, и похоронен без почестей и церемонии («Такова была воля самого маршала»). Ни надгробной плиты, ни эпитафии не было над могилой «безбожника».
Фигура маршала Пьера Строцци, итальянского аристократа, сбросившего монашескую сутану, как только ему было отказано в кардинальской шапке, и ставшего солдатом, к тому же во французской армии, и показавшего чудеса храбрости и полководческого мастерства, бесспорно, привлекала к себе любопытство современников. Мы видим, что путешественники останавливаются у его могилы, обмениваются мнениями о нем. Он был «безбожник». Ни мраморного саркафага, ни надгробной плиты! Но останки «безбожника» — здесь, в церкви... Монтень, конечно, ничего не сказал противного католической вере, но удержался ли великий скептик от насмешливой улыбки?
К Монтеню явился иезуит Мальдонат, который был известен как большой эрудит в богословии и философии, сообщает секретарь. Монтень любезно выслушал этого бывшего профессора университета в Саламанке, рассказавшего ему о слишком холодных водах Спа. Как видим, имя Монтеня широко известно, повсюду к нему спешат представители самых различных религиозных и философских партий, ища поддержки, одобрения или в надежде приобрести себе нового прозелита, столь прославленного.
Маленький город Витри ле Франсуа напомнил путешественникам осаду 1544 года, когда город был сожжен войсками Карла Пятого. Здесь узнали они, что вдовствующая герцогиня Лотарингская Антуанетта Бурбон, жена Клода де Гиз, жива и бодро передвигается, хотя ей уже восемьдесят семь лет. Можно понять интерес Монтеня и его спутников к этой особе: Антуанетта Бурбон, мать Марии, королевы шотландской и, следовательно, бабушка Марии Стюарт, родоначальница Гизов, которые сыграли в истории Франции столь значительную роль, Гизов — кардиналов Лотарингских. Неудивительно, что секретарь Монтеня заносит это имя на страницы путевого дневника.
Здесь внимание Монтеня привлек рассказ о биологических отклонениях некой девицы Жермен (гермафродитки), о которой сообщал знаменитый медик той поры Амбруаз Паре в своей книге по хирургии. Монтень использовал этот рассказ жителей города в «Опытах», как и Анри Этьен в «Апологии Геродота».
В нескольких лье от Вокулера путешественники свернули в сторону и посетили маленькую деревушку Домреми, на берегу реки Мезы. Сто пятьдесят лет прошло со дня трагической гибели народной героини («этой знаменитой Орлеанской девственницы») Жанны д’Арк, но память о ней свежа. Монтеню и его спутникам показали оружие, подаренное братьям Жанны Карлом VII (секретарь подробно описывает роскошно орнаментированную шпагу), и рисунок с изображенным на нем домиком, в котором родилась народная героиня. Показали также дерево, названное в честь Жанны д’Арк «деревом девственницы».
В Невшателе Монтень посетил библиотеку церкви ордена кордельеров, в которой оказалось «много книг, но ничего редкостного». Секретарь счел нужным подробно описать механическую подачу воды из колодца в Невшателе, что было в те времена, очевидно, чудом рационализаторской мысли.
Монтень любознателен. Он читал Амбруаза Паре, теперь же не упускает случая познакомиться с теми живыми документами, которые были использованы ученым, его современником. Он знает лучшие французские книжные собрания. Замечание о том, что в библиотеке монастыря кордельеров не оказалось ничего редкостного, принадлежит, конечно, не секретарю, а Монтеню. Философ в своих «Опытах» постоянно говорит о недостаточной своей учености. Однако он легко разобрался в книжном собрании известной тогда невшательской библиотеки. Даже скупое перечисление в дневнике того, что видел Монтень, чрезвычайно важно как для его биографа, так и для характеристики французского гуманизма. Куда бросает свой взгляд мыслитель-гуманист, что привлекает его внимание, как собираются жизненные наблюдения, как создаются из них мысли и суждения, остающиеся в веках — обо всем этом говорят скупые строки дневника.
16 сентября 1580 года путешественники переехали границу и вступили на территорию Германии. В Эпиней их не пустили, боясь, что они внесут в город заразу: незадолго до того в Невшателе, откуда они ехали, была чума.
Сколько указаний для историка в этих коротких пометках дневника: средневековая Европа предстает в них во всей скудости своей жизни.
На водах в Пломьере Монтень сдружается с сеньором д’Андело (contracta amitié et familiarité), одним из генералов армии Дона-Хуана Австрийского, побочного сына Карла V. Д’Андело, указав ему на свою седую бороду и брови, рассказал, что поседел мгновенно, узнав о смерти брата, которого герцог Альба казнил как соучастника заговора графа Эгмонта.
Эгмонт, прославленный Гёте и Бетховеном! Дон-Хуан Австрийский, победитель турецких войск при Лепанте, давший отличившемуся в бою Сервантесу столь лестное и столь роковое для писателя письмо!
О чем беседовал Монтень с д’Андело? О Сервантесе? — Тот еще томился в плену, никому не известный, и только в 1604 году французский посол в Мадриде сообщит о невероятном успехе знаменитого «Дон Кихота» во Франции. О Сервантесе говорить не могли, но об Эгмонте, жестоком режиме герцога Альба в Нидерландах, о свободе народов, столь необходимой и столь священной, вероятно.
Секретарь Монтеня записывает мнение путешественников о жителях Пломьера. «Хороший народ, свободный, чувствительный, услужливый». Что же ценится в людях? — Умение быть свободными, держаться независимо, с чувством достоинства, с той благородной человеческой гордостью, которая составляет отличительный признак мыслящего существа. Умение быть свободным — значит утверждать права, данные человеку природой. Так мыслят гуманисты Ренессанса.
Ценится в человеке и чувствительность, отзывчивость сердца, ценится услужливость — доброе расположение к другому человеку. Все это — святая святых гуманиста Возрождения.
Пробыв около десяти дней на водах, путешественники отправляются дальше. Вскоре они прибывают в Швейцарию по горной дороге, которую живо описал автор дневника. Маленький швейцарский городок Мюльхауз. Что понравилось здесь Монтеню? — «Ему принесло бесконечную радость видеть свободу и хороший общественный порядок этого народа», — сообщает секретарь писателя. Представим себе на минуту, что подобное путешествие совершал не Монтень, а кто-нибудь другой из его современников. Какой-нибудь Монморанси. Вряд ли «свобода» швейцарцев смогла бы вызвать его восторги. Как видим, итальянский дневник Монтеня не есть только «сухой и холодный перечень» дорожных пунктов, как заключили некогда Дидро и Гримм.
Мы не знаем, достаточно ли прав Монтень, так высоко отозвавшийся о «свободе» швейцарцев, но перед нами снова священное слово «свобода», священное для Монтеня, священное для гуманистов.
Путешественники прибыли в Базель, равный по величине французскому городу Блуа. Рейн разделяет город на две части. Через реку перекинут деревянный мост. Имя города не от греческого слова Basilee, но от Bas — Pass—Basel—Passel, passage «проход в Германию», — отмечает секретарь, очевидно, пояснения Монтеня.
Здесь путешественники посещают врача Феликса Платера и наблюдают сеансы анатомирования трупов. В те дни это было очень редкое зрелище. Их внимание привлекает и публичная библиотека. Монтень встречается с учеными Базеля Теодором Цвингером, профессором греческого языка и теоретической медицины, Самоэлем Гринейсом, профессором красноречия и юриспруденции, и Франсуа Отманном. Последний чудом спасся во время Варфоломеевской ночи и бежал из Франции. Франсуа Отманн — автор памфлета «Франко — Галлия», в котором был использован трактат ла Боэси «Добровольное рабство». Монтень давно поддерживал дружеские связи с Отманном и теперь пригласил его и Феликса Платера к себе на обед.
В беседах, очевидно, обсуждались религиозные вопросы, и Монтень остался недоволен базельскими протестантами. Цвинглианцы, кальвинисты, мартинисты! Сколько разногласий! А в сущности все таят в сердце своем основу римской религии.
Путешественники посещают ряд швейцарских городов. В дневник заносятся наблюдения над обычаями, нравами, привычками людей, описываются жилища, манера принимать пищу, перечисляется подробно вся домашняя утварь и пр. Монтень с уважением относится к нравам чужих народов и потом в «Опытах» он запишет следующую мысль: «Самый лучший образ жизни — жить как все. Мне кажется, что нужно избегать всего того, что отличается от принятого всеми. Пусть немец пьет вино, разбавленное водой, пусть француз пьет его чистым. Общественный обычай предписывает законы подобным вещам» (III, XII).
Монтень старается жить в чужой стране так же, как живут аборигены, и это записывает в дневнике его секретарь: «Г-н де Монтень, полностью подчиняясь различным нравам и обычаям, приказывал повсюду обслуживать его по обычаям каждой страны, какие бы неудобства это для него ни представляло».
Пересекая швейцарские кантоны, секретарь Монтеня заносит на страницы дневника описание взволновавших путешественников картин жизни чужеземных народов. Их волнуют великолепные швейцарские ландшафты, богатая растительность, озера, реки. Рейн, широко разлившийся (en une merveilleuse largeur), напоминает им родную Гарону. Иногда мрачные картины предстают перед ними.
В одном из кантонов по дорогам бродили толпы прокаженных. В одном маленьком городке путешественники поднялись на высокую колокольню, но глазам их предстал не прекрасный вид на окрестности, как ожидал бы читатель, а жалкая фигура человека, навеки заключенного в стенах звонницы. «Мы поднялись на очень высокую колокольню и там нашли человека, приданного ей в качестве часового, он заточен в ней и никогда ни при каких обстоятельствах не покидает ее».
Мы видим, что Квазимодо «Собора Парижской Богоматери» — не плод романтической фантазии Виктора Гюго, а вполне реальный человек для времен средневековья. Кто знает, не сошел ли он с дневника Монтеня на страницы романа XIX столетия.
Всюду, где только представляется возможность, Монтень беседует с церковниками самых различных направлений. Его, бесспорно, волнует религиозный вопрос не потому, конечно, что он ищет религиозную «истину», к ней он был абсолютно равнодушен, а потому, что религиозный вопрос был в его время важнейшим политическим вопросом, вопросом жизни и смерти нации. Монтень искал возможности примирения разногласий, умиротворения бушующих страстей.
Неудивительно, что его секретарь заносит в дневник следующую весьма важную для нас запись: «Господин де Монтень говорил также с католическими священниками, от которых он узнал немного, кроме их обычной ненависти к Цвингли и Кальвину».
Монтень, как всегда, разочарован. Ничего нового. Одна лишь ненависть к религиозным противникам, слепая, безрассудная. А ведь это представители той церкви, к которой официально принадлежит и он.
В городах Германии, куда снова попали путешественники, проехав часть территории Швейцарии, Монтень также ищет бесед с церковниками и богословами. С одним из них он обсуждает евхаристию, находит ряд несообразностей и противоречий в теориях Лютера и Цвингли. Теперь перед ним не католик, а протестант. Монтень говорит ему, что некий кальвинист, с которым он беседовал в пути, доказывал присутствие тела господня в хлебе при евхаристии следующими аргументами: раз божественное неотделимо от тела и раз божественное повсюду, то, следовательно, и тело повсюду. Доктор богословия отверг эти рассуждения как клеветнические по отношению к протестантской церкви. Секретарь занес в дневник ироническую фразу: «Г-ну Монтеню показалось, что тот отнюдь не хорошо защищался». В другом городе Монтень идет в лютеранскую церковь и присутствует на богослужении, беседует со священником, спрашивает, почему в церкви имеется изображение Христа, тогда как, по протестантским правам, этого не должно было бы быть. Лютеранин прибегает к неубедительным доводам, обвиняет в чрезмерном варварстве цвинглианцев, а на обеде заявляет, что предпочел бы прослушать сто месс, чем присутствовать на тайном вечере Кальвина. — Всюду религиозные страсти, вражда, даже между протестантами. Религиозный индифферентизм Монтеня усиливается при знакомстве со всеми этими сектами.
Секретарь, описывая города и деревни, через которые проезжают путешественники, бросает мимоходом любопытнейшие замечания, которые раскрывают нам характер, взгляды, вкусы Монтеня. Там писатель с восторгом смотрит на живописную долину и говорит, что никогда не видел ничего подобного, здесь он жалеет, что не может повидать Дуная, хотя до него рукой подать.
Монтень с почтением относится к властям областей, на территорию которых ступает его нога. В Тироле он наносит визит эрцгерцогу Фердинанду Австрийскому, чтобы «поцеловать его руки».
Как бы странны и необычны ни были порядки и нравы этих областей, Монтень не позволяет себе критиковать их. На то у него выработана давно уже своя точка зрения, своя философия, которую он развивает перед своими спутниками:
«Г-н де Монтень говорил, — пишет его секретарь, — что всегда относился с недоверием к суждениям посторонних об удобствах жизни в иностранных государствах, у каждого вкусы подчинены влияниям обычаев и порядков своей деревни».
Переехав итало-германскую границу, Монтень отправляет письмо в Базель к Франсуа Отманну, в котором пишет ему, что с удовольствием побывал в Германии и с сожалением покидает ее.
Далее начинаются итальянские впечатления. В одной из церквей путешественники с восхищением осматривают великолепную роспись потолков. Картина, изображающая ночное шествие с факелами, вызвала особый энтузиазм. «Г-н де Монтень очень восхищался», — записывает секретарь. Эта заметка любопытна. Монтень, как видим, отнюдь не был равнодушен к искусству, как это казалось Стендалю.
Во Флоренции путешественники осматривают достопримечательности города. В церкви святого Лоренцо они видят великолепные статуи Микеланджело. Как и некогда Рабле (книга IV, глава XI «Гаргантюа и Пантагрюэля»), они дивятся зверинцу герцога, огромной полосатой кошке (тигр), львам, медведям и прочим «afriquanes» (так выразился когда-то Рабле). Они осмотрели дворец, в котором родилась Екатерина Медичи.
В Падуе Монтень восхищенно осматривает архитектуру и скульптурные произведения в церкви святого Антония. С теплым чувством он останавливается перед портретом кардинала Бембо, знаменитого итальянского гуманиста, автора диалогов о любви, которые французский писатель так высоко ценил.
«Он глядел добрыми глазами в лицо кардинала Бембо, которое выражало мягкость натуры и какую-то тонкость ума», — записал секретарь. Кому принадлежит эта оценка, Монтеню или секретарю?
В том я другом случае она соответствует взглядам Монтеня, ибо он не вычеркнул фразу, не поправил своего секретаря. Очевидно, Монтень высказал свои мысли, глядя на портрет итальянского гуманиста, и их подхватил умный секретарь. «Мягкость нравов», терпимость к мнениям и убеждениям людей и «тонкость ума» — вот что ценил в Бембо Монтень, и это чрезвычайно знаменательно для самого автора «Опытов». Любопытна в этой связи запись, касающаяся дю Феррье, тогдашнего французского посла в одном из итальянских городов. Монтень приписал своей рукой на полях дневника: «Его манеры и речь имеют в себе что-то схоластическое, мало живости, остроты. В наших делах он явно клонится к кальвинистским новшествам».
Монтень не ошибся. Арно дю Феррье в 1582 году действительно перешел в лагерь гугенотов. Но дело не только в том, что тот обратился к «кальвинистским новшествам» (кстати, слово весьма примечательное, далекое от религии и близкое к политике), дело в том, что он педант и схоластик, а это — самое противное в человеке для гуманиста Монтеня.
Он идет в еврейскую синагогу и присутствует при совершении религиозного ритуала. Позднее в Риме он будет присутствовать при обряде обрезания. «Он хотел видеть наиболее древний религиозный церемониал, какой когда-либо существовал среди людей, и наблюдал очень внимательно и с величайшей скромностью: это — обряд обрезания у евреев.» Секретарь подробно во всех деталях описал этот обряд.
В Риме Монтень наблюдал казнь знаменитого бандита Катена, совершившего 54 убийства, державшего в страхе всю Италию. Описание казни великолепно и делает честь литературному дарованию секретаря писателя.
Говоря о бандите, секретарь не преминул упомянуть (и не без доли иронии), что тот заставил двух капуцинов под страхом смерти отречься от бога. Монтеня взволновала психологическая и моральная сторона виденного. Он не любил подобных зрелищ и в данном случае был привлечен к нему всеобщим ажиотажем в городе. На площадь собралось около тридцати тысяч зрителей. Монтень писал в «Опытах»: «Мертвых мне не жалко, я им скорее завидую, но мне жалко умирающих. Меня не так возмущают дикари, которые жарят и съедают тела скончавшихся, как те, что мучают и преследуют живущих. Даже исполнение судебного приговора, как бы справедлив он ни был, я не могу видеть спокойно» (II, XI).
Присутствуя на казни бандита, Монтень наблюдает за реакцией толпы. Это важно для него с точки зрения психологической. Толпа сдержанна и молчалива, когда совершается казнь, но взволнованна и смущена, когда на ее глазах начинается издевательство над безжизненным телом, — четвертование трупа. При каждом ударе топора по мертвым членам казненного она издает глухой стон.
Сердце и ум Монтеня не приемлют этой дикости средневековья, как глухо, бессознательно противится ей и народ, в котором всегда жили и живут чувства гуманности, справедливости и здравый взгляд на вещи.
Рим вызвал в писателе противоречивые чувства, он долго и внимательно изучал город и его развалины, так много говорившие сердцу гуманистов.
Политический режим современного Рима был ему глубоко антипатичен. Он горячо спорил с теми, кто пытался говорить о каких-то политических свободах Рима. Их не было. Это была теократическая деспотия. В качестве примера Монтень приводил случай с главой духовного ордена кордельеров, который был снят с поста и заключен в тюрьму за то, что в присутствии папы и кардиналов лишь весьма туманно намекнул на недопустимость поведения служителей церкви, на их праздную и роскошную жизнь.
Монтень с возмущением говорил также о том, что его чемоданы подверглись грубому обыску, в них все было осмотрено до мельчайшего листка, все книги были отобраны для изучения. Даже книги ритуальные вызвали подозрения (часослов Собора Парижской богоматери потому, что он издан в Париже, а не в Риме).
Его постоянно влекут к себе живые люди.
Италия славилась своими красавицами. Эту славу упрочили итальянские мастера, изображавшие их в образе Мадонны. Монтень искал эту совершенную красоту среди живых женщин Италии, и вот его суждения на этот счет, как записал их его секретарь:
«Ему казалось, что нет ничего особенного в красоте женщин, что они вовсе не заслуживают своей славы, того, чтобы их превозносили над женщинами всех других городов мира, к тому же, как и в Париже, исключительная красота встречалась среди тех, кто ею торговал».
Французский посол в Риме Луи Шастенье, «прекрасный и ученый человек, старый друг г-на де Монтеня», добился у папы аудиенции для своих соотечественников, представив Монтеня в качестве переводчика «Естественной теологии» Раймонда Себундского, в которой «показана истинность христианской и католической веры».
Дневник содержит подробное описание этой аудиенции. Мы не можем без улыбки представить себе насмешливого писателя, в комической позе целующего папскую туфлю.
Папа Григорий XIII был в возрасте 79 лет, однако держался бодро и еще разъезжал, сопровождаемый пышным эскортом, по улицам Рима.
В залу, где восседал папа, первый вошел юный д’Эстиссак (так положено было по сословной иерархии), затем знаменитый писатель и за ними — сопровождавшие их лица.
Вошедшие сделали несколько шагов и встали на колени, ожидая благословения папы. Тот из своего угла послал им это благословение. Еще несколько шагов, и опять на колени, и снова новое благословение. Наконец, они у ковра, на котором восседает папа. Посол, сидя по левую руку папы, поднимает край его одежды и открывает его правую ногу, одетую в красную туфлю, поверх которой белый крест. Алчущие папского благословения подползают к туфле и целуют ее. Насмешливый писатель заметил, что папа поднял кончик ноги навстречу его губам, проявив, очевидно, «особую любезность. Затем Григорий XIII пожелал д’Эстиссаку лучше учиться и быть добродетельным, а Монтеню — проявлять то же усердие, какое «он проявлял всегда в служении церкви и христианейшему королю». На том кончилась аудиенция. Вошедшие не промолвили ни слова. Обратное шествие было такое же: пятились назад, вставали на колени, получали благословение, и так до двери.
В Риме Монтень распрощался со своим секретарем. «Отпустив из своих людей того, кто ведал сей благой обязанностью, и видя, что многое уже сделано, я решил по необходимости писать продолжение сам, несмотря на докуку, какую мне это доставит», — писал Монтень, не назвав ни имени своего секретаря и ничего не сказав о нем, а между тем это был человек, бесспорно, умный. Эпоха и среда кладут свою печать даже на лучших людей времени, и гуманный Монтень, человек новых взглядов, ничего не увидел в своем секретаре, кроме того, что тот был «одним из его людей».
Дневник под рукой Монтеня приобретает уже другой характер. Стиль более свободный, несколько небрежный.
Монтень встретился в Риме с бывшим своим учителем Марком Антуаном Мюретом, бежавшим из Франции и теперь ставшим профессором философии и красноречия в Риме. На обеде, на котором присутствовали французский посол, Мюрет и другие ученые страны, шла речь о переводе биографии Плутарха на французский язык. Монтень горячо защищал переводчика и вместе с тем делал тонкие замечания по существу отдельных мест, обнаруживая при этом великолепное знание материальной и духовной культуры древней Греции.
Нельзя пройти мимо тех страниц дневника, которые посвящены описанию ватиканской библиотеки, куда был допущен Монтень, каким-то чудом снискавший симпатии библиотекаря, сурового ригориста, некоего кардинала Гийома Сирлето, отказавшегося показать одну книгу даже Антуану Мюрету, мотивируя свой отказ тем, что книга преступна и безбожна по содержанию.
Монтеню было открыто все. Библиотека содержалась в семи или шести залах, наиболее редкие книги и рукописи хранились в специальных сундуках.
Писателя привлекала к себе в библиотеке Ватикана статуя Элия Аристида, «доброго Аристида», как он называет его, «с прекрасной лысой головой, густой бородой, большим лбом и взглядом, полным мягкости и величия».
Монтень никак не равнодушен к искусству. Здесь, конечно, не только любование прекрасным произведением, но восхищение личностью древнего оратора, так много сделавшего своей родной Смирне. Мы привели эту деталь из дневника Монтеня, ибо она ярко характеризует нравственный и политический облик писателя.
Монтеню были показаны древние манускрипты, папирусы, он подержал в руках книгу Фомы Аквинского с собственноручными пометками автора, «который писал дурно». Ему показали рукописные книги Сенеки и Плутарха. «Я там видел Вергилия, написанного от руки», — с восторгом пишет Монтень, добавляя при этом, что первые четыре стиха «Энеиды», которые он не считал принадлежавшими автору, отсутствовали в рукописи, что доказывало правоту его литературного чутья.
Говоря о том, что французский посол в Риме, как ни старался быть допущенным к книжным сокровищам ватиканской библиотеки, не смог добиться этой чести, Монтень насмешливо философствует: «Случай и своевременность имеют свои привилегии и дают подчас простым смертным то, что отказывают королям».
18 марта 1581 года Монтеню были возвращены «Опыты», отобранные у него для цензуры около четырех месяцев до того. Министр папского двора Maestro del sacro palasso, как называет его писатель, некий Систо Фабри рассыпался в извинениях перед почетным иностранцем. Он не владел французским языком и потому мог судить о книге лишь по докладу французского монаха (frater francois).
Монтень ничего не изменил в своей книге, не принял ни одного замечания цензуры, он даже, как мы уже говорили, усилил отдельные места, подвергшиеся критике монашеской клики. Правда, осторожный писатель принял смиренную позу в Риме в беседе с папским мажордомом, ничего не оспаривая, со всем соглашаясь и всю вину возлагая на свою неопытность, неискушенность, наивность. Более того, в начале пятьдесят шестой главы первой книги «Опытов» он включил при переиздании следующую смиренную фразу: «Равно приемлемо и суд и одобрение. Пусть будет названо гнусным все сказанное мною по неведению и неопытности против священных предписаний католической, апостолической и римской церкви, в лоне которой я умираю и в которой я рожден».
«Священные предписания церкви», однако, не заставили его пересмотреть свое отношение ни к Юлиану Отступнику, ни к системе воспитания, ни к «еретическим» поэтам. Сто лет спустя, 12 июня 1676 года, «Опыты» были занесены папой в индекс запрещенных книг.
Монтень впоследствии, в третьей книге, объяснил весьма прозрачно свою тактику. Зачем спорить, зачем посягать на твердыни, пока несокрушимые, пытаться поколебать в открытом бою догмы, охраняемые огнем и мечом? Идите своим путем.
Люди действуют так: пусть законы и предписания идут своей дорогой, мы же пойдем своей не потому, что наши нравы развращены, а потому, что придерживаемся иных мнений, противоположных суждений.
Пребывание в Риме затянулось. Писатель с интересом наблюдает жизнь города. Всюду слышится разноречивый голос иностранцев, пестрая толпа заполняет улицы, римские красавицы, сидя у открытых окон, привлекают взоры пылких юношей и смущают даже его, давно позабывшего суету любовных приключений. И каждый камень хранит в себе далекие преданья старины, светлой античности.
Чудесные статуи, извлеченные из земли, волнуют воображение. Там Адонис, здесь группа Лаокоона, Антиной, Аполлон, бронзовая волчица. Страницы дневника полны взволнованных, восторженных, часто живописных, иногда только лиричных описаний. «Рим заслуживает того, чтобы его любили, единственный в мире, открытый для всех», — пишет он в «Опытах».
И Монтень решил добиться права называть себя гражданином Рима. Чувства писателя понятны. В слове «Рим», в его развалинах, в его преданиях так много магической силы, так много обаяния для сердца гуманиста.
«Я использовал все пять чувств, данные мне природой, чтобы добиться звания римского гражданина, и это ради древней чести, ради религиозной памяти о его величии».
Это было сделать трудно. Но Монтень добился своего. Ему помог Александр Музотти (Монтень в дневнике называет его Филиппом), проникшийся глубокой симпатией к французскому философу. Музотти занимал важный пост при папе и впоследствии стал папским нунцием в Венеции.
5 апреля 1581 года титул римского гражданина был дан Монтеню - «Сократу Франции».
Французский текст дневника Монтеня прерывается примерно на середине следующей фразой: «Попытаемся поговорить теперь немного на другом языке», и Монтень перешел на итальянский язык, «которым я пользуюсь довольно легко, но, конечно, весьма дурно», — скромно признавался он.
Обращение писателя к итальянскому языку не случайно. В этом опять следует искать свидетельство его философии жизни. Живи так, как живут другие, окружающие тебя, уважай установленный порядок, общепринятые законы, обычаи, нравы. Находясь в Италии, говоря по-итальянски, он и дневник свой теперь вел на итальянском языке.
Физические недуги усилились, дневник все чаще и чаще заполняется жалобами на болезнь, рези в желудке, на постоянные недомогания. Записи приобретают форму короткого отчета почти без каких-либо комментариев со стороны автора. Изредка лишь прорываются сквозь холодный перечень явлений и географических названий мысли и чувства писателя. Вот одна из таких записей: «Я видел завещание Боккаччо, напечатанное вместе с некоторыми статьями о Декамероне. По завещанию видно, к какой потрясающей бедности, к какой нищете был низведен этот великий человек. Он ничего не оставляет своим родственникам, своим сестрам, кроме простыней и каких-то постельных принадлежностей, свои книги — некоему церковнику, с условием передать их какому-нибудь нуждающемуся в них лицу. Он перечисляет домашнюю утварь и самый жалкий скарб, наконец, он дает распоряжения о мессе и своем погребении.
Завещание было напечатано таким, каким оно было найдено на старом, сильно пострадавшем пергаменте».
В другом месте Монтень заносит бесценное для историка литературы свидетельство о широкой популярности Ариосто в Италии в XVI столетии.
«Я был поражен... зрелищем крестьян с лютней в руках и пастушек с Ариостом на устах; это можно увидеть по всей Италии», — добавляет Монтень.
На одном из домов в Пизе он увидел изображение французского короля Карла VIII и надпись, что король обедал в этом доме, когда случайно ему пришло на ум даровать пизанцам свободу, чем он превзошел величие Александра. Монтень замечает при этом, что слово «свобода» было кем-то нарочно зачеркнуто, выскоблено, что его почти невозможно различить.
7 сентября 1581 года Монтень получил письмо из Бордо (от 2 августа), в котором ему сообщалось, что он единодушно избран мэром города, и выражалась надежда, что он примет этот пост «из любви к родине».
Монтень медлит. Он возвращается опять в Рим, продолжает ту же жизнь странствующего туриста, но вот в октябре он получает новое письмо от членов парламента из Бордо с настоятельной просьбой вернуться домой и приступить к своим обязанностям.
Монтень решился. 15 октября, в воскресенье, он выехал из Рима. Его спутники, с которыми он провел более года, проводили его до первой заставы и далее он продолжал путь один, торопясь на родину.
Переступив границу Франции, он записал в дневнике: «Здесь говорят по-французски, здесь я покидаю иностранный язык». 30 ноября 1581 года он прибыл в замок Монтень, проведя в путешествии 17 месяцев.
Дневник служит ему справочным материалом, кое-что будет занесено потом в «Опыты». Не придавая запискам серьезного значения, писатель забросит их затем в сундук с другими малозначащими для него материалами, где они пролежат двести лет.
Л-ра: Писатель и жизнь: сборник статей. – Москва, 1961. – С. 215-232.
Произведения
Критика