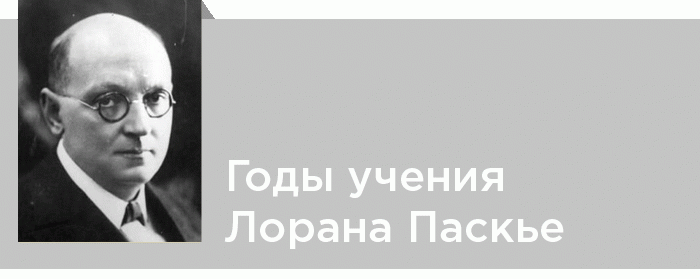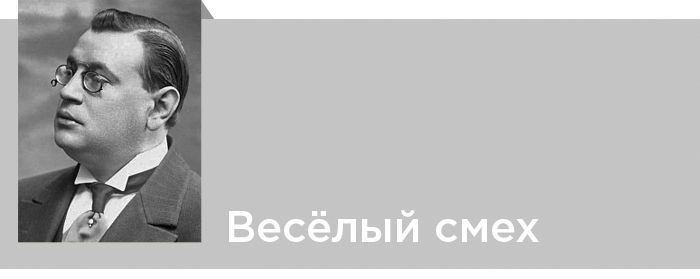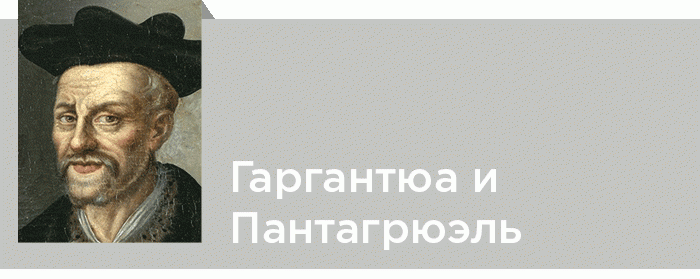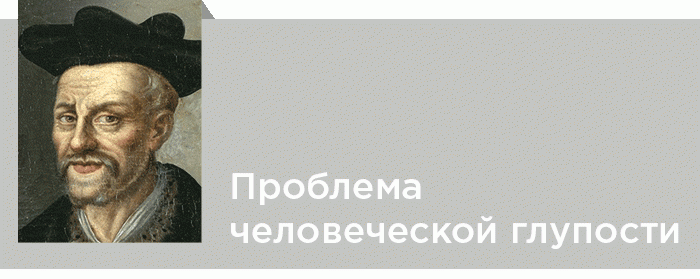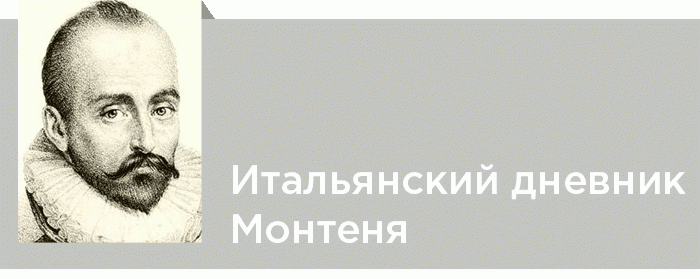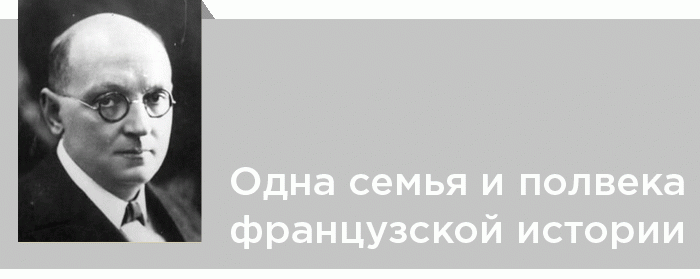«Опыты» Монтеня как литературное произведение
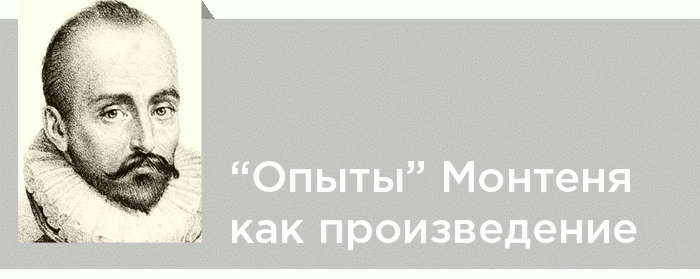
С.Д. Артамонов
Вы спрашиваете, какие книги читать. Читайте Монтеня, читайте медленно, не торопясь!.. Создайте для своей души такую интеллектуальную атмосферу, которая будет насыщена мыслью величайших умов... Но сперва я рекомендую вам прочесть Монтеня. Прочтите его от начала до конца и, когда окончите, начните снова.
Г. Флобер
Философы не приняли Монтеня в свою среду. Они не нашли в нем строгой дисциплины мышления, логически построенной системы. Их шокировала его разбросанная, хаотическая, импрессионистическая манера письма. Историки литературы часто отказывают ему в праве именоваться писателем, ибо не находят в нем основного элемента художественного мышления — вымысла.
Кто же он? Пожалуй, и то и другое — глубочайший мыслитель и великий писатель. По глубине и широте охвата проблем бытия личности и общества равных ему в эпоху Ренессанса нет. Идейное наследие Ренессанса предстает в его «Опытах» в предельно сконцентрированном виде. Это квинтэссенция идей Ренессанса. В них все, о чем размышляли гуманисты, что хотели заповедовать человечеству, и не в форме бесспорных, раз и навсегда обретенных аксиом, а в парадоксах диалектической мысли, в сложности противоречий познания.
В центре книги бордоского автора — Человек. От внимания автора «Опытов», кажется, не ускользнула ни одна деталь в жизнедеятельности человека. Видимо, поэтому по силе влияния на литературу нового времени, на ее главнейших представителей, пожалуй, не найдется равного Монтеню.
У колыбели великих писателей мира почти всегда раздавался голос Монтеня или отзвуки его речей. Его книга — школа мышления, школа познания, школа незамутненного видения мира.
«...Я провел два года на шестом этаже улицы д’Анживилье с прекрасным видом на колоннаду Лувра, читая Лабрюйера, Монтеня и Ж.-Ж. Руссо... Так сложился мой характер», — писал Стендаль, рассказывая о годах своего писательского становления.
Вольтер, великий скептик и насмешник, нашел в Монтене своего собрата. Симпатии к нему он выразил стихами:
Монтень, сей милый гений, Вдали от катаклизм,
В тиши уединенья Питал свой скептицизм.
То мудрый, то фривольный, Свободный от оков,
Он потешался вольно Над немощью умов.
Осенью 1835 года, приехав на короткое время в свое родное Михайловское, Пушкин вдруг ощутил желание перечитать Монтеня. Он писал жене в Петербург: «Кстати, пришли мне, если можно, «Essais de Montaigne», и синих книг на длинных моих полках. Отыщи».
Почему поэт вспомнил о бордоском авторе? Среди полей, холмов и озер родного края он грустил, как бы предчувствуя скорую свою гибель. В эти дни он уже посылал свой привет грядущим поколениям («Здравствуй, племя младое, незнакомое!»).
Лев Толстой, покидая навсегда Ясную Поляну, взял с собой томик Монтеня. Ныне этот томик лежит на его письменном столе.
Что-то Монтень давал для души, и в минуты раздумий о самых важных (вечных!) проблемах жизни невольно вспоминались страницы его книги, где мудрость преподносилась просто, без помпы и менторства, в форме непритязательной, задушевной беседы.
Не было, пожалуй, ни одного крупного писателя за последние четыреста лет, который бы прошел мимо «Опытов» Монтеня. Однако самым верным его последователем, собратом, единомышленником был его младший современник Шекспир. В своей последней пьесе «Буря», прощаясь с театром, великий драматург вложил в уста своего благородного Гонзало целый абзац из книги Монтеня — полностью, разве что переменив несколько слов. В нем содержался рассказ об идеальном общественном устройстве. Оба они, Монтень и Шекспир, мечтали об одном — обществе без насилия и принуждения.
Кропотливые исследования показали, что Шекспир не раз обращался к французскому автору, — нашлось 750 заимствований из его книги.
* * *
Монтень — натура артистическая. Это проявлялось во всем. Он испытывал душевный трепет, входя в католический храм. Его охватывало чувство какого-то особого восторга, волновала величавая и «мрачная обширность» внутренних церковных помещений. Это был восторг художника. Он не мог слушать без волнения стихи Горация или Катулла, особенно когда их пели.
Влечение к поэзии он наблюдал в себе с ранних лет. Его пленяло искусство непритязательное, свободное, доставляющее изысканное наслаждение уму и сердцу, поэзия, легко переходящая от шутки к лирической интимности. «Я люблю поэтический бег с прыжками и скачками. Это искусство, как говорит Платон, легкое, крылатое, колдовское». Он пишет об этом с восторгом художника. «Боже, сколько прелести в этих шаловливых вольностях, в этих отступлениях и переходах, и чем непринужденнее они, чем неожиданнее, тем восхитительнее» (III, IX).
Он любит радостную; искусную плавность Овидия («fluidité gaie et ingénieuse»), беззаботную веселость, шаловливую поэзию чувства, поэзию в дымке легкого эротизма, о чем он писал «прекрасной Коризанде», графине де Грамон, возлюбленной Генриха Наваррского: «Я из тех, кто ценит поэзию с сюжетом игривым» (I, XXIX).
Монтень не лишен и некоторого литературного гурманства, ему нравится «утонченность» в поэзии. Ее он находит у Лукана (В «Опытах» около 40 цитат из Лукана). И наконец — «сила зрелая и устойчивая» в поэзии Вергилия (I, XXXVII).
Мир его эстетических интересов светел. Он любит книги «просто веселые» («simplëment plaisans»). К ним он относит «Декамерон» Боккаччо и роман Рабле. «Гептамерон» Маргариты Наваррской для него «книга прелестная по содержанию» (II, XI).
Историки были его «слабостью». В истории он ищет не событий, а свидетельств, характеризующих людей, «человека вообще» («L’homme en général de qui je cherche la connaissance»). Причем историческое повествование рассматривает как род искусства. В восторге от Плутарха. Других знает мало, — недостаточно владел греческим языком.
Плутарх был переведен на французский язык Амио («Жизнеописания», 1556; «Моральные сочинения», 1572). Перевод Амио, обладавший великолепными литературными достоинствами, сыграл большую роль в формировании французского литературного языка. Чтение Плутарха стало излюбленным во Франции. Впоследствии, когда французский язык стал обязательным для образованных людей Европы, Амио читали и за пределами Франции (молодой Гёте).
Монтень по достоинству оценил труд Амио. Его восхитила простота, «непосредственность и чистота языка». «Это лучший писатель Франции» (II, IV).
Артистическая натура Монтеня проявилась во всей своей полноте в его книге «Опыты». Здесь на каждой странице печать художественного мышления. Здесь вдохновение, свободное парение ума, здесь нет голой мысли, она всегда окрашена чувством, здесь пластические образы, художественно выполненные портреты, детали, живописующие целое, — и все это выражает и утверждает главенствующий тезис его философии: Que sais-je? (Почем я знаю? что я знаю?) А именно — его всеохватывающее сомнение.
Все отличие Монтеня от пирронистов, от античных скептиков заключается в том, что он и отрицает и утверждает, воспользовавшись удобной формой сомнения, тогда как античные скептики и не отрицают и не утверждают, они где-то посередине этих двух ипостасей. Монтень отрицает и утверждает, однако, артистическими средствами, как бы интуицией («так мне кажется»), часто апеллируя к чувству читателя, иногда как бы самоустраняясь, между тем крепко держит читателя и уверенно ведет его к намеченной цели.
В научной литературе Монтеня часто называют философом-моралистом. Между тем читатели видят в нем прежде всего великолепного мастера-стилиста. Французский исследователь Пьер Виллей писал: «До девятнадцатого века во всей нашей литературе не было, пожалуй, более великого поэта, чем этот философ».
Среди французов, кажется, никто не оспаривал за Монтенем право на звание писателя. Отзывы о его литературном мастерстве самые высокие и самые восторженные. «Ему не хватает только рифмы, чтобы быть поэтом», — писал Г. Гизо. Образы Монтеня «философичны по содержанию и поэтичны по своей природе», — заключал Грэй.
Брюнетьер сообщает, что не только французы, но и иностранцы, которые не искушены в тонкостях чужого языка и не способны ощущать всего его очарования, все-таки признают в авторе «Опытов» писателя и восхищаются им как таковым.
Автор предисловия к лондонскому изданию «Опытов» 1724 года Жан Нурс (J. Nourse) сетовал на то, что Монтень своими привнесениями в книгу в 1588 году нарушил ее стилистическую стройность. Раньше она походила на жемчужное ожерелье, жемчуг был одинаковой величины, потом же автор добавил жемчужины более крупные и этим испортил общую картину.
Как видим, главное внимание обращалось не на идеи автора, а на его стиль, с его «наивностью», «живостью», «грацией».
Только недавно появились работы, пытающиеся вскрыть художественную сущность прозы Монтеня. Грэй в интересной книге «Стиль Монтеня» видит эту сущность в поэтической, образной, эмоциональной форме самого метода мышления Монтеня.
Монтень назвал свою книгу «Essais». Для его времени это слово в применении к литературному произведению было ново. Еще никто так не называл своего сочинения.
Первые читатели Монтеня усмотрели в самом наименовании произведения чрезвычайную скромность и даже самоуничижение автора. Они же увидели в наименовании и скрытую насмешку над гордыней других авторов, которые выступают перед своими читателями чуть ли не с откровениями.
Название книги Монтеня связано с его философией. В нем и скептическая насмешка над чванным догматизмом, несущим истину в последней инстанции, и застенчивая непритязательность, как бы предупреждающая читателя не строить больших иллюзий относительно авторского труда.
После Монтеня слово «эссе» (Essais) вошло в литературу как наименование жанра. Первоначально авторы брали его для своих произведений из чувства особой скромности. Это слово хорошо укладывалось в русские «попытка», «проба».
Эссе понимается нами теперь как наименование жанра, включающего в себя литературные качества первообразца, то есть книги Монтеня. Ныне эссе — это небольшое прозаическое произведение, в котором синтезируются элементы художественной и научной прозы. Это не претендующее на большую докторальность рассуждение, без четкого плана и строгой логики, серьезное и вместе с тем непринужденное по форме, с элементами иронии, а иногда и лирической исповеди, — произведение легкое, изящное, непритязательное. Теперь это уже не «проба» и не «попытка». Это жанр — для больших мастеров и для искушенных читателей. Слово «эссе» уже несет в себе гордое представление о виртуозности и легкости пера. С жанром эссе связано представление о свободном, иногда прихотливом движении мысли. В этом вся его прелесть для автора, ибо ничто не мешает ему переходить от одного предмета к другому, не заботясь о строгой системе изложения. В этом вся его прелесть и для читателя, ибо и он, читатель, хочет вместе с автором наслаждаться свободным полетом мысли. «Бросать перо на ветер», как образно охарактеризовал Монтень эту манеру письма.
Монтень начал «Опыты» в 1572 году. Писал их дома в минуты праздности и стараясь не менять написанное, что ему не всегда удавалось. «Опыты» были первоначально как бы дневником, в который заносились на бумагу не события его жизни, а мысли. Монтеню хотелось потом по своим записям проследить свою духовную эволюцию («àeconnaitre le train de mes mutations» — X, XXXVII). Видимо, первоначальный план не был выдержан, хотя об этом своем намерении он записал уже по прошествии 7-8 лет, перед самым выпуском в свет двух первых книг. Иногда он писал сам, иногда диктовал. Надо полагать, что уже в рукописи его записки казались посторонним чрезвычайно занимательными, если его секретарь похитил некоторые листы записей (II, XXXVII).
Сначала он искренне считал, что пишет для немногих и ненадолго, в самом прямом значении слов — для тех немногих близких и родных, которые его знают и переживут, и пока они еще будут хранить о нем память. Только успех книги придал ему сознание весомости его труда. Вначале он писал маленькие главки, подобные кратким заметкам «на случай», потом, когда книга вышла из печати и получила широкую известность, появилась забота о читателе, желание высказаться более основательно, преподнести читателю какую-то систему взглядов, — он перешел на большие главы...
Форму своей книги Монтень сравнил с гротесками.
О происхождении этого термина рассказывают любопытную историю. В конце XV века в Риме случайно был открыт засыпанный землей и «пылью веков» дворец Нерона («Золотой дом»). Комнаты напоминали гроты со странной живописью на стенах. Взору предстали удивительные фантастические картины. Реальные лики мира изображались в самых невероятных связях и сочетаниях (цветок мог закончиться головой человека и пр.). Итальянские художники, а их в то время собралось немало в «вечном городе» для выполнения заказов папы, не знали, как отнестись к творениям древних мастеров.
В конце концов решили, что это тоже искусство (художник не обязательно должен придерживаться реального, быть рабом натуры, что-то следует оставить и для его фантазии).
Так родилось искусство гротеска. Романтики XIX века придали ему блеск и теоретическое обоснование (В. Гюго. Предисловие к «Кромвелю»).
Однажды, наблюдая, как художник, приглашенный им для работ в его замке, заполнял свободные пространства стен причудливыми рисунками, в которых сочеталась фантазия и реальность, он пришел к мысли, что подобное возможно и в литературе. Его увлекло это свободное, не знающее никаких логических пут и вместе с тем мощное движение воображения. Какой простор, какая творческая свобода! Трезвый реализм факта и вольный полет мысли. Заранее установленный план стесняет автора, не дает ему развернуться. Оглядка на общепринятые мнения, забота о композиции, о гармонии целого, о стройности частей и тысячи других препон мешают художнику творить свободно. А тут рожденное в мысли немедленно воплощается в линию, краску. Творец выявляется сразу, каждое его движение — это уже созидание. Рука художника чертила странные и самые разнообразные фигуры, и от этой странности и разнообразия исходило особое очарование.
Монтень понимал под гротеском хаос и фантасмагорию. С известной долей самоуничижения (что, конечно, не следует принимать за чистую монету) он писал о своих «Опытах»: «Мой ум порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу» (I, VIII).
Гротеск имелся уже у Рабле и Эразма.
В какой-то степени Монтень искал образцов у античных авторов, или, вернее, невольно переносил в свою книгу те черты, которые его в них восхищали (сознательно он решительно отвергал какие-либо образцы), и эти восхищавшие его образцы соответствовали искусству гротеска. В диалогах Платона он увидел восхитительную небрежность композиции, как бы по воле случая течение всего диалога, непреднамеренность, отступления и возвращения к покинутой нити рассуждений («чудесное искусство отдаваться уносящему нас ветру, или, может быть, уменье делать вид, что отдаешься ему», III, IX).
Нечто подобное пленило его и у, Плутарха, — прелестная беспечность, забывчивость, небрежность. Плутарх забывает о теме своих рассуждений, иногда он набредает на нее как бы случайно. Он весь соткан из странностей. Взгляните на его рассказы о Демоне Сократа («Боже, как хороши эти мальчишеские замашки, это разнообразие, эта небрежная свобода», III, IX).
Искусство гротеска нашло свое место и в драматургии Шекспира. Ярчайшим примером может служить его комедия «Сон в летнюю ночь».
Мир реальностей нисколько не извращается, поэт верно отображает действительность в ее главных закономерностях и связях, но изображается он в «ином ключе» (выражение самого Шекспира). В этом есть особый смысл, новая возможность углубленного постижения вещей.
Поэта взор в возвышенном безумье Блуждает между небом и землей,
Когда творит воображенье формы Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто» Дает и обиталище и имя.
(«Сон в летнюю ночь», акт V, сцена 1)
Шекспир утверждает право искусства на воображение, на известную трансформацию действительности. Воображение поэта, иначе говоря его субъективность, есть отличительная черта художественного мышления. Здесь сфера сердца, эмоций. У поэта своя логика. Безумец, влюбленный и поэт живут воображеньем.
Та же мысль и в «Буре», построенной в том же гротескном ключе.
Монтень писал без всякого плана, и композиция его книги, как и отдельных глав, самая причудливая, если вообще можно в данном случае говорить о какой-то композиции. Это поток мыслей, воспоминаний, реминисценций из прочитанного, это неожиданные отступления, это столь же неожиданное возвращение к оставленной недосказанной мысли; и поток этот устремляется вперед то бурно и шумливо, то спокойно и широко. По форме это чудесное, умное лирическое мечтание («Я прислушиваюсь к моим грезам»). Он объявляет себя заклятым врагом усидчивости и постоянства, признается, что не имел достаточного прилежания для строго обдуманного труда, что его манере чужд пространный рассказ, что часто прерывает себя, что часто ему не хватает дыхания и т. д.
* * *
Монтень пишет: «Я позволяю себе идти, как я себя нахожу», по-русски это нескладно, как нескладно покажется иностранцу русское выражение «Я иду себе». Это — просторечье, опускающее обременительные логические связки, просторечье лаконичное, несущее в себе значительную, иногда много говорящую недосказанность, прелестное даже в своей грамматической неправильности. Русский переводчик изъяснил мысль Монтеня верно по существу и литературно правильно: «Я излагаю их так, как они есть» (И, X,). (Речь идет о мыслях. — С. А.) Но просторечье Монтеня, метафоричность его языка утрачены. По-русски его выражение надо бы перевести как: «Я иду себе как мне идется». Для Монтеня дорога непредвзятость, полнейшая свобода речи, а следовательно, и оригинальность ее. «Я хочу, чтобы видели мою естественную и обычную походку, как бы испорчена она ни была». Русский переводчик и здесь постеснялся монтеневского просторечья и пошел даже на искажение мысли ради благопристойности: «Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их (мыслей. — С. Л.) во всех зигзагах». Ни о каких «зигзагах» автор не говорит.
Итак, никакой цели, никаких преднамеренных планов, никакого, даже от себя идущего принуждения.
Нельзя говорить о какой-то заранее продуманной и принятой композиции той или иной главы и тем более всего труда в целом. Те, кто пытается сделать это сейчас, совершают ошибку. Это свободное парение ума, это даже не просто мысли, а поток мышления. Монтень не хотел ограничивать себя ничем. Он честно записывал ход своих «мечтаний». Иногда эти мысли теснились толпой, торопясь на бумагу, иногда они шли ровной цепочкой, как сообщает он сам.
Сама эта принятая им система изложения освобождала его от необходимости быть последовательным и доказательным. Он мог говорить все: и то, что вынашивалось годами, и рожденное сию минуту, легкое, едва различимое в облаке вопросов и сомнений. Эти «фантазии», эти порхающие мечты не требовали тяжеловесных аргументов, не притязали на бесспорность, не обрушивались на души читателей тяжелым грузом докторальных истин. Они не притязали ни на что и потому обладали поистине непреодолимой силой убеждений. Может быть, Монтень лукавил, наперед зная эффект этого своего свободного и непринужденного разговора с читателем?
Сквозь небрежно набросанное сплетение мыслей, цитат, исторических примеров прослеживается в книге Монтеня единая связующая идея. Внимательный читатель ее видит, и на это рассчитывает автор. («Это бедный читатель теряет нить моего сюжета, но отнюдь не я», III, IX.)
Иногда кажется, что никаких логических связей в его рассуждениях нет, что мы в водовороте наплывающих на нас разных, очень важных, но часто противоречащих друг другу мыслей. Где найти нить Ариадны, которая бы нас вывела на свет божий? Но, как пишет сам Монтень, всегда где-нибудь в уголке окажется какое-нибудь словечко, отнюдь не инородное, как бы глубоко оно ни было затиснуто. «Я делаю резкие переходы, нескромно и бурно. Мой стиль и мой ум одинаково бродяжничают» («vont vagabondant de meme», III, IX).
Монтень очень дорожит этой своей манерой письма.
Это его творческое кредо. «Каждый узнает меня в моей книге и во мне самом мою книгу» (III, V). Даже система исправлений построена на том, чтобы удалять все инородное, несвойственное ему и оставлять пусть неправильное, но присущее ему — «несовершенства, которые суть во мне» («les imperfections qui sont en moi», III, V).
Скептическая философия требовала и особого стиля, особой манеры речи. Прежде всего необходимо было отказаться от какой-либо категоричности в самом языке. Монтень признавался, что начинал ненавидеть самые вероятные истины, когда ему их преподносили как совершенно непреложные. Потому он полюбил слова, смягчающие категоричность суждений, вносящие в них малую толику сомнения: «говорят», «я думаю», «некоторые», «возможно», «может быть» и т. д.
Он полагает, что и детей надо учить этой манере говорить и мыслить, давать им ответы не бесспорные, а влекущие к размышлению, к дальнейшему изучению предмета, и того же требовать от них. «Пусть уж лучше человек в шестьдесят лет имеет вид ученика, чем в десять — профессора» (III, XI).
* * *
Сент-Бёв остроумно раскрывает метод Монтеня, его лукавство, его тонкую игру с читателями. «Беря вас за руку, чаруя восхитительной беседой, он вводит вас в лабиринт мнений. Каждый раз, когда вы вознамеритесь приметить какие-либо детали, чтобы ориентироваться, он вас отговорит от этого, заявляя, что эта деталь всего лишь игра воображения и сомнения, что вообще не нужно слишком пристально глядеть на вещи в надежде найти выход, единственно верная вещь вот эта лампа (Сент-Бёв имеет в виду лукавое заявление Монтеня о вере как «священной лампе истины». — С. А.). Бросьте все остальное, этой божественной лампы вам вполне достаточно. И вот после того, как вы вдоволь нагулялись, наблуждались по тысячам закоулков и устали, он вдруг одним мигом гасит лампу. Вы оказываетесь в кромешной тьме, и лишь тихое хихиканье доносится до вас» (Sainte-Beuve, Port-Royle, III, III).
Скептицизм Монтеня предопределял и манеру его письма, и композицию его глав, да и самих рассуждений. Если схематически изобразить манеру его рассуждений, к примеру, в его главе «О педантизме», то вот что мы увидим:
Ученость От многих знаний ум крепнет и ширится
Так что же, спросим мы у автора, ученость — это зло или благо?
«На этот счет я еще пребываю в сомнении»,— ответит он.
Монтень, предельно ясный, умеющий говорить без обиняков, часто блистательно неуловим. Вот-вот, кажется, вы ухватили мысль и ту магическую ниточку, которая связывает самые с виду разрозненные примеры, ссылки, намеки, как вдруг неожиданный пируэт, и вы снова в самом забавном неведении насчет того, к чему же клонит автор.
Глава XXXII первой книги озаглавлена весьма благочестиво «О том, что нужно осторожно судить о божественных предначертаниях». Какие же возражения могли бы представить против этого самые ортодоксальные католики? Но уже с первой строки вы начинаете сильно подозревать, что здесь подкоп под религию. Мы узнаем, что ложь и обман лучше всего удаются в тех сферах, в которых люди менее всего осведомлены, что лгут больше всего алхимики, прорицатели, судейские чиновники, хироманты, врачи. И наконец: «Я охотно присоединил бы к ним толпы истолкователей воли господней».
Далее опять самая благочестивая фраза, поданная в наивной простоте: «...христианину достаточно верить, что все идет от бога». Как трогательно это звучит в устах скептика, который чуть ли не на каждой странице своего сочинения призывает к сомнению и проверке, учит не верить ничему на слово. Читаем дальше. Церковники стремятся укрепить веру ссылками на преуспевание истинно верующих людей, и, наоборот, на неблагополучие всяких отступников. Монтень приводит в подтверждение исторические примеры (но какие примеры!). В нужнике от желудочных колик умерли Ариан и папа Лев. Оба еретики. Гнев господен понятен, хотя у читателя, воспитанного на скептицизме, в чем повинен Монтень, закрадывается подозрение, что господь здесь ни при чем, скорее всего их отравили. Но, оказывается, такая же участь постигла и святого Иринея. Это уж совсем непонятно. Богу было не за что гневаться на него. Словом, тут сам черт не разберет. Монтень тоже разводит руками и сетует на несовершенство человеческого разума.
В финале главы снова призыв к безоговорочной вере. «Не стоит слишком пристально глядеть на солнце, можно ослепнуть». Так образно представляет читателю свою мысль философ, и следует цитата из Библии, рекомендующая не тщить себя надеждой постичь премудрость господа.
Признайтесь, вы толком все-таки не разобрались, что к чему. Нас призывают не верить обманщикам, а в их стане церковники, и тут же предлагают безоговорочно верить в премудрость бога, а о ней и о нем нам говорят опять же церковники (обманщики). Далее мы узнали, что святой Ириней погиб в нужнике (какая некрасивая смерть! И как это бог мог допустить такое!), что сфера религии менее всего известна и потому более всего пригодна для лжи и обманов.
Монтень объясняет свою манеру беседовать с читателем: он ничего не утверждает, ничему не учит, он сталкивает противоположные мнения, противоположные факты и в сфере этих противоположных мнений и фактов оставляет читателя.
Анатоль Франс в своих лекциях о Рабле, которые он прочитал в Америке, чистосердечно признавался, что не всегда понимает своего собрата по скептицизму Монтеня.
«Гибкий гасконец, подвижный, как волна, и разноликий! С Монтенем, право, приятно и полезно говорить, но мысль его трудно уловить, она ускользает, выпархивает из ваших pyк. Только профессора уверены, что понимают его, ибо такова их профессия все понимать. Я его читаю, я его люблю, восхищаюсь им, но не уверен, что хорошо его знаю. Его ум меняется от фразы к фразе и даже в пределах одной фразы, которая к тому же совсем не длинна. Если это правда, то он нарисовал в «опытах» самого себя, то он дал свой образ более расплывчатым, чем лик луны на морской волне».
Однако, вопреки заявлению Анатоля Франса, точка зрения Монтеня все-таки достаточно ясно просматривается. Он лукав, нет спору, он не так-то легко идет на сближение с читателем, но исподволь он ведет читателя за собой. Он пишет: «Сознание своего и вообще людского несовершенства и слабости нашего ума избавит нас от гордыни, от излишней самоуверенности и от фанатизма. Мы не будем мучить и убивать себе подобных только потому, что их взгляды и их убеждения не похожи на наши». Такова логика Монтеня.
Он пишет смело, не гнушась грубого слова, подобранного на улице («Я не отказываюсь ни от каких слов, которые в употреблении на французских улицах», III, V). Он пишет смело не только по форме выражения своих мыслей, но часто и по существу, то есть обнажая те сокровенные стороны человеческого бытия, которые обычно стыдливо прикрываются и замалчиваются. Он вполне отдает себе отчет в этой смелости и как бы бравирует этой дерзостью, чтобы подвигнуть своих читателей к откровенности, сбросить с их глаз повязку ложного стыда и предрассудков.
* * *
Монтень обильно цитировал. Особенно в первых двух книгах. В последней — третьей — цитат становилось все меньше и меньше.
Пожалуй, своей первоначальной славой «Опыты» были обязаны этим цитатам и Многочисленным историческим примерам. Перед читателем открывался особый мир, мир своеобразной экзотики. Древний Рим и Древняя Греция, древний Египет и Индия, страны Западной Европы и народы первобытной культуры. Диковинные нравы, странные обычаи и удивительные люди, удивительные события.
Некоторые полагают, что «Опыты» Монтеня писались для знатоков, для умов утонченных, для, так сказать, гурманов мысли. В какой-то степени это справедливо, ибо текст книги пестрит греческими и латинскими цитатами, приведенными без перевода. Но и неискушенный читатель находил для себя немало интересного в книге. Не всегда он, конечно, мог постичь тонкую, лукаво завуалированную мысль писателя, но факты, исторические эпизоды, сообщаемые им, были конкретны, понятны и красноречивы сами по себе.
Так, к примеру, читая нижеследующие строки бордоского автора, читатель, конечно, проникался ужасом перед картиной жестокостей, творимых во имя богов.
Аместрида, мать Ксеркса (жена. — С. А.), когда состарилась, следуя религии своей страны и желая умилостивить какого-то подземного бога, приказала однажды закопать в землю живыми четырнадцать персидских юношей знатного происхождения...
Странной фантазией было платить за милость богов нашими страданиями; так поступали, например, лакедомоняне, услаждавшие свою Диану истязанием юношей, которых они в угоду ей часто бичевали до смерти» (кн. II, гл. XII, с. 223—224). Современники Монтеня с любопытством вглядывались в только что открытую античность. Языческий мир древности с его более высокой цивилизацией, сравнительно со средневековьем, интересовал не только высокообразованных гуманистов, но и средних людей, обладавших не столь уж большой начитанностью. Этим всеобщим интересом к античности можно объяснить и исключительную популярность переводов современника Монтеня Амио.
Образованный европеец эпохи Возрождения, в сознании которого значительно поколебались устои средневекового схоластического и теологического мировоззрения, искал ответов на многие жизненные вопросы у поэтов, философов или государственных деятелей древности. Собственных знаний не всегда хватало для самостоятельных исследований и поисков. Не все хорошо знали классическую латынь. Судя по некоторым замечаниям Монтеня, в тех местах, где он жил, таких вообще не было. Греческий язык знали единицы. Оставался один путь — путь посредничества. Обращались к тем, кто изучал и знал древние языки. Духовная потребность общества немедленно была замечена. Всевозможные сборники сентенций, переводы знаменитых античных авторов стали все чаще и чаще выходить из печати. Даже Монтень не всегда обращался к первоисточникам. Он использовал сочинения своего современника Юста Липса, из которых заимствовал значительное количество цитат, а также Жана Бодена и др.
В известной степени эта мода на «цитатники» уживалась с тем, что уже имело средневековье в своем книжном наследии. При том огромном значении, какое придавалось книжному слову в условиях догматического мировоззрения средневековья, цитаты и ссылка на авторитеты были главным и неоспоримым аргументом при всяком умствовании и рассуждении. От отцов церкви и священного писания перешли к языческим авторам. Новое вино вливали в старые мехи. На первых порах в этом большой беды не было. Даже глубоко оригинальные и выдающиеся произведения Ренессанса не избежали этой проторенной стези. Роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» буквально до краев наполнен ссылками и цитатами, иногда с самыми серьезными основаниями, а чаще из озорства, в пародийных целях.
Среднеобразованный француз времен Монтеня воспринял первоначально его «Опыты» как увлекательное собрание сентенций и удивительных исторических эпизодов. Монтень сам признался, что прибегал к цитациям, уступая «капризу века» («la fantaisie du siècle», III, XII, 229). В первых двух книгах их было огромное множество. Монтень, не высказывая своего собственного суждения, нанизывал один эпизод на другой, одну сентенцию на другую по принципу противоположностей. Один пример разрушал «мораль» второго, одно высказывание начисто отвергало второе и т. д.
Читатель терялся. Он не находил ответа. Его будоражили противоречивые суждения. Он привык к готовым формулам, к готовым умозаключениям, которые принимал на веру, полагаясь на авторитет печатного слова. Здесь этого не было. Нужно было самому думать, решать, искать ответа. Это было непривычно, немножко страшно, ибо пугала ответственность перед богом, вера в которого еще была сильна, и вместе с тем удивительно увлекало. Читатель начинал «творить мысль сам».
Вольтер высоко оценил этот метод Монтеня. «Он подтверждает свои мысли мыслями великих людей древности, он разбирает их, вступает с ними в спор, беседует с ними, со своим читателем, с самим собой, всегда оригинальный в манере изображать предмет, всегда полный воображения, всегда живописный и, что я люблю, всегда умело сомневающийся» (письмо Вольтера к графу де Трессо от 21 августа
* * *
Монтень взял в качестве объекта для наблюдений и размышлений человека в самом общем его значении и не позволил себе никаких умолчаний, никаких домыслов, никаких привнесений. Свои наблюдения он излагал по-писательски, артистически. Его книга полна многозначительных картин. Перед нами предстают или его современники, его друзья, знакомые, соседи или исторические лица минувших эпох.
Он размышляет как философ. Его теоретические посылки выдержаны в рамках чистой мысли. Их же оформление дано художественным, метафорическим, образным и часто эмоционально окрашенным языком, чего не терпит научное изложение. Примеры, приведенные им для аргументации своих мыслей, часто представляют собой образцы настоящей художественной прозы.
В XIII главе второй книги он рассуждает о том, что трудно бывает человеку примириться с мыслью о наступающей последней минуте жизни. Эта мысль не нова. Мы, пожалуй, согласились бы с автором без особого спора, согласились бы холодно, спокойно и, может быть, даже не без некоторой досады (кому же это не известно? Что за банальные истины!). Но тут же Монтень рукою художника набрасывает облик умирающего человека, дает несколько штрихов, и мы слышим шепот больного, слова надежды на краю могилы: «Другие хворали больше и выжили. Не так уж все плохо со мной, как думают. Пусть даже будет хуже. Что ж! Бог немало совершил чудес...» (VI).
И от нашего равнодушия не осталось и следа. Мы охвачены тревогой. Кто этот человек, цепляющийся за жизнь? Он, ты, я и, в конце концов, все мы. Когда это было? Вчера, сегодня, всегда и ныне присно и во веки веков. Никакие логические построения не могут взволновать так, как эти немногие строки, показавшие реального, живого человека. А ведь в этом и заключена тайна искусства.
В другой главе (VIII) он рассказал о скорби отца, потерявшего сына, и высказал при этом суждение, тоже не новое. Оно сводится к следующему: часто родители с притворной холодностью держат своих детей на расстоянии и лишают самих себя счастья дружеского общения с ними. Вряд ли эта истина, достаточно банальная, могла бы нас взволновать. Но Монтень тут же и опять рукой опытного художника нарисовал нам живую картину.
Психологические портреты современников начертаны рукой смелой и сильной. Они предстают перед нами живыми. Таков, как мы видели, маршал Монлюк, жестоко подавивший движение протестантов в Гиени, необщительный и отчужденный даже с теми, кого уважал и любил. Другой портрет столь же выразителен. Это некий декан монастыря св. Илария в Пуатье, имя которого Монтень не пожелал сообщить, более двадцати лет просидевший в своей келье, в добровольном одиночестве, в бессмысленной и самоубийственной вражде с миром и людьми. Мы видим этого человека, нервно шагающим каждодневно в узком пространстве затхлой клетушки, — туда и сюда, туда и сюда, — постоянно покашливающим, недовольным собой и людьми, позволявшим только раз в сутки своему слуге приносить ему пищу.
* * *
Монтень много писал о себе, иногда даже, пожалуй, несколько навязчиво. Рассказывал о некоторых подробностях своей жизни и бедах своего бренного тела. Его «саморазоблачения» сводятся к иллюстрации того, как нужно познавать самого себя, присматриваться, наблюдать, выслеживать самого себя с близкого расстояния.
Монтень наблюдал в себе, по сути дела, универсальные черты, как положительные, на его взгляд, так и отрицательные.
Цель самопознания, самонаблюдения — научиться правильно жить и умирать.
Наблюдение за собой, за своим поведением, даже за своим мышлением — занятие восхитительное, по мнению Монтеня. Он избрал героем своей книги самого себя. Описал свою внешность — свое лицо, свою фигуру — весь свой внешний облик (II, XVII), свою манеру одеваться.
Он говорит о своих пышных усах, к которым пристают ароматы поцелуев. «Когда-то, в дни юности, крепкие поцелуи, сладкие, жадные, сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них», о своих привычках: он любит ходить с палкой. Он не оставляет ее, даже едучи верхом. В этом он усматривает некое изящество, особый род франтовства (II, XXV). Далее рисует свой духовный облик. Он относит себя к уравновешенным натурам. Никаких внутренних разладов не знал. Он человек веселый, хотя и несколько созерцательный. Дурное настроение и печаль противны его натуре. Он любит возиться с книгами. От книг он ищет разумной занимательности и науки самопознания. У него неодолимая тяга к истине и независимости мысли.
Писатель рассказывает о себе, не таясь и не скрывая своих недостатков, своих мелких побуждений, не умалчивая из ложной скромности о своих достоинствах.
Каждый человек несет в себе частицу всего человечества, говорил Монтень. И художественный такт писателя проявился как раз в том, что эта частица всего человечества в отдельной личности была им показана и убедительно, и неоскорбительно для других. Может быть, «Опыты» следует назвать исповедью Монтеня?
Однако слово «исповедь» предполагает покаяние. Это в ритуальном значении — признание в грехах, перечень грехов — моральных изъянов. «Исповедь» Руссо в значительной своей части — покаянная книга. Но Монтень не кается, он без стыда и раскаяния рассказывает о себе. Он сообщает, что его называют осторожным, потому что несколько раз он счастливо миновал опасность. А это всего лишь случай, что его хвалят за смелость и терпение, а это всего лишь результат холодных рассуждений, что он отнюдь не герой, способный выдержать серьезные испытания судьбы и побороть в себе веления страстей. Его счастье, что страсти его не так сильны, с ними ему было легко справиться, и в том, что он не совершил больших преступлений, особых заслуг нет, ему просто не хотелось их совершать. Он не питал в себе ни злобы, ни склонности к раздорам и разногласиям отнюдь не по долгу и обязанностям, а по внутренней антипатии ко злу и пороку, потому что таковы были его воспитание, впечатления детства, добрые примеры отца и родных. Отсюда следует общий вывод о целях нравственного воспитания человека — разучиться злу.
Он признается в том, что он добр, но добр глуповато, уступчиво и без всякого искусства. Он слишком любит жизнь и все живое, чтобы равнодушно видеть гибель, смерть, пресечение жизни любого существа. Сколько радости людям его круга приносит охота. А ему больно видеть, как преследуют несчастного оленя, постигать страдания затравленного животного, его безмолвную мольбу о пощаде (II, XI).
Он мягок, упорядочен в своем поведении, течение его жизни спокойно. Он аккуратно слушает мессу, он выполняет все предписания церкви, он не позволяет себе никаких вольностей. Жизнь идет не бурливо и шумно, а безмятежно и ровно. Не таковы его мысли. Здесь царство иное. Здесь смелость и дерзание, здесь случается иногда и такое, скажем мы от себя, за что можно оказаться и на костре, если заранее не предпринять своих мер. Монтеню было 13 лет, когда в Париже, на площади Мобер, был сожжен книгоиздатель Этьен Доле, «мученик идей», «один из светочей Ренессанса», как называют его ныне французы (
Монтень сообщает о себе, что он непостоянен. Мысль, решение, чувство и само действие зависят от многих причин, от внешних обстоятельств и внутреннего состояния его организма. Менее всего он способен предаваться печали и пассивному созерцанию. Его физические и духовные силы влекут к действию. И тем не менее он предается и меланхолии, и созерцанию, ибо проявить активность в политической жизни, скажем мы за него, значит включиться в борьбу религиозных партий, на стороне одной из них, а ни одной из них он не сочувствует. Чтобы не бездействовать, он берется за перо писателя, никогда до того не мысля стать им.
Монтень откровенен не только в своей книге, он откровенен в быту, в общении с людьми, мягко высказывая им свои взгляды и свою оценку их действий. Впрочем, он не станет разубеждать, если видит в своем собеседнике укоренившуюся, не знающую сомнений веру.
Главное литературное достоинство «Опытов» — их стиль, или, вернее, слог. Это слово («слог») ныне почти вышло из употребления в литературоведческих и эстетических работах, а между тем оно необходимо при чрезвычайно расширившемся понятии слова «стиль». Сам Монтень употребляет, однако, слово «стиль».
О слоге Монтеня, об особенностях его языка много писали французы. Мы позволим себе здесь сообщить собственные наблюдения. Они будут касаться двух, на первый взгляд взаимоисключающих, особенностей его письма, а именно: безыскусственной («наивной») речи и, наоборот, речи усложненно-изощренной («барочной»),
Монтень не любил, когда хвалили его слог. Он боялся «красиво говорить», ибо красивая фраза, по его мнению, всегда наносит ущерб выраженной в ней мысли; потому, как он подчеркивает сам, он писал сжато, давал, по сути, одни лишь «заголовки», наименование мыслей. Он заявляет, что если бы ему пришлось развивать и украшать их, то потребовалось бы значительно увеличить размеры книги. На основе того, что дано в сжатой номинативной форме в его произведении, можно создать бесконечное число «Опытов».
Так он рассуждал сам. У нас нет оснований не соглашаться с ним. Он называет свой слог «слишком сжатым, беспорядочным, отрывистым, своеобразным». В этом тоже есть доля истины. Однако главное все-таки в наличии тех двух особенностей его прозы, которые были названы выше.
Монтень постоянно говорит о безыскусственности своего творения. В этом он видит, пожалуй, главное достоинство прозы.
Монтень с уважением отзывается о безыскусственной простоте народного творчества, именно той «наивной форме», которую он избрал и для себя; она, эта «наивная форма», предполагает искренность, сердечность и естественность. Он не хочет поражать читателя блеском риторических фигур и обретает то неотразимое красноречие, которое идет именно от безыскусственности речи.
Под «наивным стилем», наивным языком Монтень и его современники понимали важную эстетическую категорию. Вокруг нее шли споры.
Авторы середины XVI века (деятели Плеяды) сформировали свое особое понимание «наивного стиля». Для них это язык, вобравший в себя национальное своеобразие, это непереводимый язык. Вот что писал по этому поводу Дю Беле: «Каждый язык имеет нечто свое, присущее только ему, и если вы постараетесь передать наивное на другом языке, придерживаясь строгих правил перевода, которые предписывают не слишком удаляться от оригинала, ваш перевод будет противоречив, холоден и дурно скроен».
В те же годы (1548) Сибеле в «Поэтическом искусстве» давал то же самое определение искусства «наивного»: «Автор и его произведение заслужат большей похвалы, когда сумеют точно и наивно выразить на своем языке то, что свойственно языку другому».
Понимание наивности у Монтеня было другое, он стремился не к тому, чтобы выдержать национальное своеобразие языка, а лишь к простоте и непосредственности речи. При редактировании своей книги он выбрасывал устаревшие слова, тогда как поэты Плеяды, исходя из своего понимания «наивности» языка, обильно их вводили. О понимании Монтенем «наивности» речи можно судить по его отзыву о литературных качествах летописи Филиппа де Коммина: «Язык нежный и приятный, с той наивной простотой, в которой искренность автора так ярко сверкает, свободная от тщеславия в суждениях о себе, — зависти и пристрастия в суждениях о других».
В XVI столетии еще не выработался общенациональный французский литературный язык. Областнические, выражения, областническая лексика широко использовались в печати. Не было точно установленных грамматических норм. Монтень ввел в текст своих «Опытов» немало гасконских языковых форм, за что его упрекали современники. Однако особенно преувеличивать его речевое областничество не следует.
Монтень свободно пользовался языком и, когда это было необходимо, смело вводил в речь новые слова. От него пошли слова «diversion» (отвлечение), «enfantillage» (ребячество).
Итак, писать «наивно» значит, по Монтеню, писать просто, безыскусственно, искренне и без самолюбования. Однако «наивная» безыскусственность Монтеня отнюдь не была так уж безыскусственна. Искусство потребовалось большое, чтобы сделать из своего сочинения шедевр литературного мастерства, и здесь, как ни странно, как ни парадоксально, мы вынуждены говорить о совершенно противоположном: а именно о чрезвычайно усложненной литературной форме «Опытов», которая причудливо сочетается с простой и «наивной».
Монтень не терпел «педантического» ученого стиля (style barocque). Термин «барокко» тогда употребляли как синоним неуклюжего, тяжеловесного, уродливого. Не терпел он и цицеронианства, пышного, риторического стиля. Гюстав Лансон усматривает в этом некое фанфаронство дворянина, презирающего ученых и полагающего, что дворянину не след походить на грамматиков и стремиться к правильности языка.
Потому, как полагает Лансон, язык Монтеня то собранный и стремительный, то беспорядочный, подчас тяжеловесный. Фраза то коротка, то тянется на несколько страниц, то делится скобками. Фраза подобна костюму Арлекина: каждая клеточка имеет свой цвет.
И тем не менее мотивы барокко явно слышатся в полфонической прозе бордоского автора. Только слово это (барокко) мы употребим здесь в нашем современном его понимании. Философия Монтеня выражает мотивы и тенденции позднего Ренессанса, и сама литературная форма его сочинения тоже несет в себе своеобразие кризисных черт западноевропейского гуманизма второй половины XVI столетия. Еще в 20-х годах XVI века во Флоренции среди художников возникли новые веяния. Появился особый стиль искусства — маньеризм (Я. Понтормо, И. Дж. Б. Россо и др.). Форма как бы вышла из-под подчиненного положения и заявила о своих правах на главенствующее место в произведении. Она, форма, должна была занять все внимание человека. Художники начали соревноваться в стремлении подчеркнуть достоинства самой формы, ее своеобразие, выявить виртуозность своего мастерства, сделать ее наглядной, резко бросающейся в глаза. Маньеризм распространился по всей Италии, увлек за собой крупных мастеров (А. Бронзино, Ф. Приматиччо, Б. Челлини, Дж. Вазари и др.). А далее маньеризм перешел итальянские границы и перенесся в пределы других стран. В Испании — Эль Греко, во Франции — А. Блумарт. Маньеризм дал жизнь более широкому движению — барокко. Форма по-прежнему была как бы на первом плане, многоцветная, пышная, помпезная. То, что у маньеристов только намечалось, теперь в искусстве барокко приобрело более четкие черты и уже вполне узаконило себя в искусстве. Вычурность и виртуозность, выгнутые, капризно прочерченные линии, изысканно криволинейные очертания, кричащие, подчас контрастирующие краски в архитектуре, живописи, скульптуре. Резкие движения, лица в состоянии аффекта, экстатические позы, широкие, поражающие глаза и подавляющие душу композиции.
Однако то, что в маньеризме выглядело лишь капризом художника, его любованием своим искусством, теперь в барокко прониклось новой философией, новым взглядом на мир. Теперь форма стала выражением этого нового содержания. Художник не любовался своей виртуозностью, а через вычурность и контрасты выражал свое неверие в гармонию мира. «Мир подобен саду, поросшему плевелом», — скорбно бросает Гамлет с подмостков лондонского театра:
Если в пору первого цветения гуманизма человек представлялся Рабле, Томасу Мору, раннему Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэлю тираноборцем Прометеем, защитником угнетенных Гераклом, идеалом классического совершенства Аполлоном или, наконец, мудрецом, подобным Сократу, то теперь, в эпоху позднего Ренессанса, он уже выглядит как Эрихтоний (юноша с божественным лицом и уродливыми ногами, сын богини мудрости, которую изнасиловал Вулкан).
Монтень и Шекспир еще живут идеями и чувствами раннего Ренессанса, но прежней душевной ясности уже нет. На светлые лики богов легли тени. Ощущение гармонии утратилось.
В Англии в одни годы с Монтенем писал свой роман Джон Лили. Его «Эвфуес, или Анатомия остроумия» (1579-1580) вышел из печати одновременно с книгой Монтеня. Там такое же обилие цитат и ссылок на античных авторов, фразы построены на антитезах, контрастах с использованием аллитераций и других эвфонических приемов. Ему недоставало лишь глубины, страстности и бесконечной мудрости Монтеня.
Лили вошел в моду. Украшательство речи стало чуть ли не обязательным для писателя. Эвфуизмом на некоторое время увлекся и Шекспир, что шекспироведы великодушно ему простили как грехи молодости. Однако только ли украшательство было у Джона Лили? Он назвал свою книгу «Анатомией остроумия». Но не только в остроумии было дело, а в особой форме самого мышления. Старая форма была слишком метафизической: да — да; нет — нет. Теперь мышление утончилось. Теперь стали понимать, что в «нет» есть частица «да», а «да» несет в себе частицу «нет». Вот эту диалектику миропонимания и нес в себе эвфуизм. В этом было что-то от постижения двойственности явления, двойственности в едином. Ведь человек — «краса вселенной» и «квинтэссенция праха». Эта форма мышления более тонкая, более глубокая и многосторонняя, чем та, которой пользовались до того. Писатели ощущали как бы избыток мысли. Мысль перехлестывала через края, уходила от главного в стороны, приобщая к себе множество наблюдений, суждений, мысль мгновенно перевоплощалась, представала умственному взору в каких-то новых ракурсах, распадалась, раскалывалась и снова переплеталась в самых причудливых и захватывающих комбинациях. Потому так трудно буквально понимать и Монтеня и Шекспира.
Утонченность, изысканность самого мышления шла, пожалуй, и от средневековья. В дни господства церковной идеологии думать о чем-нибудь серьезном было опасно. Церковь следила за деятельностью умов и жестоко пресекала всякое вольномыслие. Она это делала методично и весьма искусно. Но человеческий мозг не мог оставаться в праздности, он искал себе поля деятельности, пищи, труда. Оставалось одно поприще — игра. Люди интеллекта, зажатые в тисках догматизма, позволили себе единственную радость — логические хитросплетения, по сути дела ни к чему не обязывающую игру. Церковь в этом им не препятствовала.
Они изощрялись в схоластических спорах, решали замысловатые логические загадки. И в конце концов чрезвычайно утончили само мышление. В поэзии это выразилось в своеобразной диалектике чувств. Очень интересно в этой связи поэтическое состязание, которое предложил герцог Карл Орлеанский в 1460 году в Блуа. Он дал в качестве темы для баллады первую строку своего стихотворения: «Je meurs de soif a coté de la fontaine» (от жажды умираю y воды).
Тема, как видим, призывала поэтов к поискам диалектического единства противоречий. Сам герцог написал изящные, утонченно холодные стихи, в которых тем не менее мысль сверкала в сложной инкрустации поэтического артистизма.
От жажды умираю у фонтана,
В огне любви я холодом сражен,
Слепой, вести других не перестану.
Вот эту диалектику мышления у средневековой интеллектуальной элиты переняло позднее Возрождение, когда снова, после восторженного энтузиазма ранних гуманистов, стала ощущаться трагическая утрата гармонии мира. Монтень, Шекспир, Сервантес привнесли чувство трагической разорванности мира в свое творчество. Барочные поэты сделали его главным содержанием своего искусства.
У Монтеня много черт, роднящих его с искусством барокко. Когда он сравнивает человека с бушующим морем, что, шумя и пенясь, обрушивается на самого себя, натолкнувшись на преграду скал, — разве не проявляется здесь тенденция барочного искусства изображать человека в состоянии аффекта? При этом он прибегает к картинным сравнениям. Чтобы показать человека, объятого гневом и уже неспособного сдержаться, он рисует перед нами отвесную скалу, по которой стремительно катится вниз сорвавшийся человек. Какова причина этого падения — может быть, самая ничтожная, — не имеет значения, падение дойдет до самого конца, заключает он.
Когда он делает из своей книги «причудливую смесь» — разве он чем-нибудь противоречит искусству барокко?
Отсюда и странные противоречия в самой форме «Опытов». Монтень отказывается подчиняться какому-то заранее намеченному художественному плану, у него нет системы, он «бросает перо на ветер», он прислушивается лишь к своим фантазиям. Подобно барочным поэтам, Монтень позволяет себе речевые изыски. Он играет со словом: «Je hay... cruellement la cruauté» — «Я жестоко ненавижу жестокость», «...qu’ils soient’également vices, ils ne sont égaux vices...» — «пусть они равно пороки, они не равные пороки...» и пр. и пр.
Монтень как поэт наслаждается музыкой слова и строит фразу, используя подчас аллитерацию: «Je jette le plus souvenf la plume au vent» (II, XII) — «чаще всего я бросаю перо на ветер»). Напряженность, страстность речи подчеркиваются синтаксическими повторами. Короткие эмоционально-выразительные фразы, следуя одна за другой, создают впечатление бурного каскада.
Монтень называл свою книгу «плохо связанной инкрустацией», «собранной по случаю, сочинением, состоящим из надерганных отрывков», с листочками прорицательницы Сивиллы Кумской (как свидетельствует Вергилий, Сивилла писала свои прорицания на листьях деревьев).
Были попытки «исправить» Монтеня, изложить его мысли в виде строгой, логически связной философской системы. Это сделал большой его поклонник Пьер Шаррон в книге «Трактат о мудрости». Но вместе с утратой художественной формы в такой «перелицовке» «Опыты» утратили и свое содержание. Мысли потускнели, книга разрушилась.
Между формой и содержанием есть подчас загадочная, магическая связь. Кажется, ну что особенного, переставил местами слова в обычной фразе, ведь смысл не изменится. Ой, порой как изменится! Сравните два слова в различных сочетаниях: «кровь с молоком» и «молоко с кровью».
Итак, «Опыты» Монтеня — это литературное произведение. Оно открыло новый литературный жанр, связавший, объединивший научную прозу и прозу художественную.
Ренессанс философичен. Философия наполняет романы («Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Дон Кихот» Сервантеса), театр (Шекспир), поэзию (сонеты Петрарки, сонеты Шекспира), живопись («Афинская школа» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи), зодчество (статуя Ночи Микеланджело). Художественное и научное мышление в эпоху Ренессанса предстает перед нами в своеобразном синтезе. И примером этого могут служить «Опыты» Монтеня, которые следует рассматривать больше как произведение искусства, чем плод чистой мысли.
Л-ра: Писатель и жизнь: сборник статей. – Москва, 1987. – С. 288-313.
Произведения
Критика