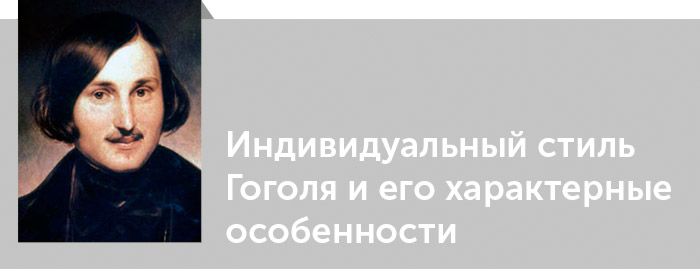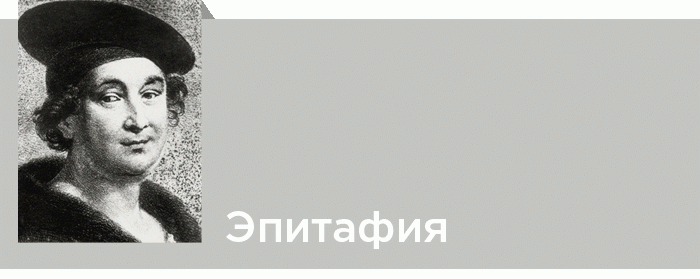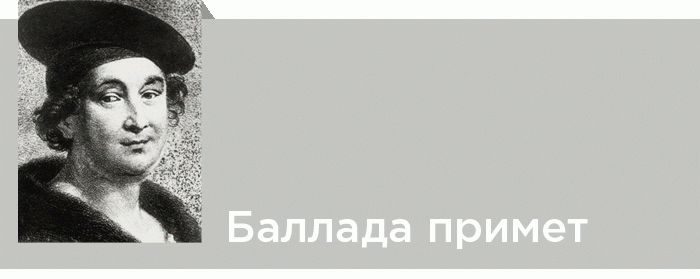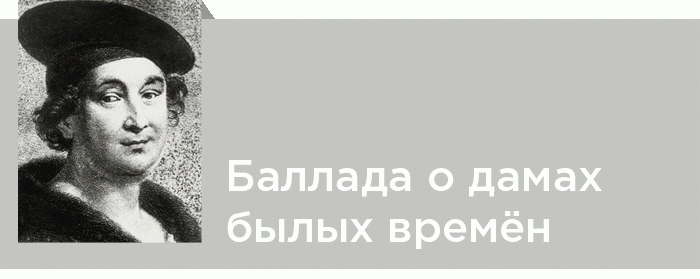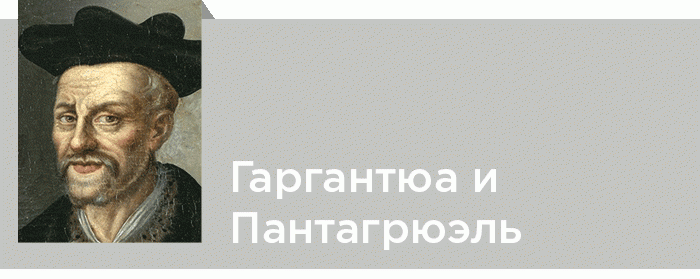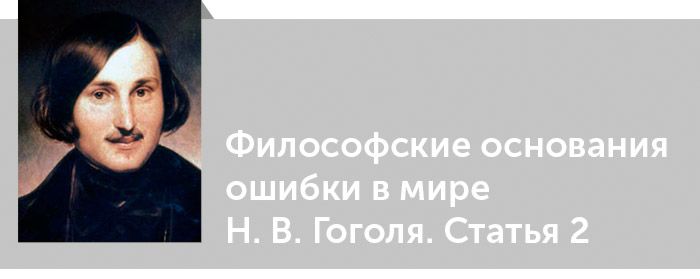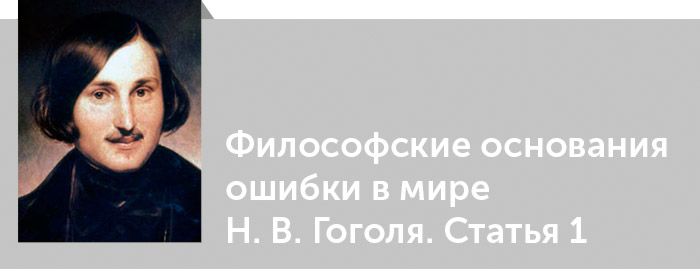Проблема человеческой глупости у Рабле и Флобера
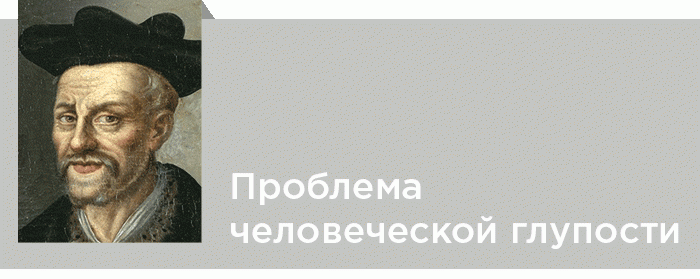
В.М. Рыкунов
Казалось бы, что может быть проще — отказаться от таких явных анахронизмов, как диктуемая остротой настоящего момента необходимость постоянного повышения уровня постановки и решения актуальных проблем, созвучных переживаемому времени, и сразу перейти к сути дела? Однако не всегда правильный путь самый короткий и не так-то легко называть вещи своими именами, даже если этого требует «острота настоящего момента». И вовсе не из какой-то там осторожности, а хотя бы из-за элементарного желания быть правильно понятым. Да и какие тут могут быть опасения, если речь идет о двух романах классиков французской литературы — «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле (XVI в.) и «Бувар и Пекюше» Флобера (XIX в.)?
Сразу несколько замечаний относительно того, что глупо было бы считать классикой все созданное кем-либо из великих. Рабле, кроме всего прочего, был автором научных трактатов, а Флобер — драматургом, но кто помнит об этом, кроме профессиональных хранителей наследства, цель которых — его экстенсивно-исчерпывающее освоение? Если отвлечься от политической конъюнктуры и ее поразительной способности превращать любое имя в разменную монету радикальной демагогии, сопровождающей любую возню в верхних эшелонах власти, то можно сказать, что классическое произведение искусства отличается от рядового шедевра своей способностью к постоянному возвращению к истокам, в бытие и сознание общества. Разумеется, с учетом общеобязательного проходного минимума художественности. Иными словами, классичность классики определяется ее вкладом в универсальный инструментарий категорий культуры, в то, что является ее образной плотью, без которой невозможна никакая, даже самая абстрактная, рефлексия.
Флобер с такой точки зрения — это прежде всего автор «Госпожи Бовари», а не комедии «Кандидат»; без его романа о провинциальных нравах рассуждения о судьбах континентов едва ли имели бы такую, например, форму: «Пустота, присущая субъекту, бегущему от собственной реальности и пытающемуся реализовать себя вне ее, — это тот «боваризм», о котором говорил мексиканец Антонио Касо. Флоберовская Эмма Бовари обладала «способностью воспринимать себя иначе, чем была на самом деле». Эта способность присуща каждому человеку, ибо он так или иначе воспринимает себя иным, чем есть на самом деле. То же самое может происходить с целыми народами, в том числе с народами нашей Америки».
Однако подобный выход на уровень безусловной образной адекватности категориям культуры — вещь довольно редкая в творчестве даже больших художников. Превращение произведения искусства в одно из бесконечных «за» или «против» жизни зависит не только от таланта автора. Необходимы еще, во-первых, готовность общества отказаться от старых иллюзий либо приобрести новые и, во-вторых, субъективное умение соотносить цели и средства, без чего картина так и остается покрытым красками холстом, а книга — покрытой буквами бумагой, немым объектом «слепого» созерцания и поклонения. Попытаемся пояснить это на примере двух романов, цель которых — одна, а используемые средства — разные.
Последним, так и не законченным, литературным предприятием Флобера была фундаментальная «Критическая энциклопедия человеческой глупости» в форме фарса. С самого начала эта книга задумывалась как нечто большее, чем просто сатирический роман «Бувар и Пекюше». Судите сами. Художественный метод «отшельника из Круассе», его «душа визионера» требовали основательной «нехудожественной» подготовки, он вообще не принимался за работу без предварительного прочтения всего, что имело хоть какое-то отношение к избранной теме, но здесь Флобер превзошел самого себя: для рассказа о злоключениях двух «добряков-переписчиков» было проштудировано около 1500 томов по самым различным отраслям человеческих знаний. Имея столь солидную базу, автор заставляет своих героев с одинаковым неуспехом заниматься сельским и домашним хозяйством, химией, медициной, геологией, историей и т. д. Предполагаемым финалом первого тома романа должно было быть решение Бувара и Пекюше оставить всякую «активную» деятельность и «переписывать как прежде»; во второй том, «состоящий почти из одних цитат», вошли бы самые разнообразные нелепости, обнаруженные автором в своем исходном материале (в тех самых 1500 томах). Кроме того, с романом тесно связан «Лексикон прописных истин» — своеобразный словарь (около 700 слов) культурно-бытовой лексики «образованного» буржуа, который Флобер составлял более тридцати лет, так что монументальность замысла весьма очевидна.
Внешне повествование строится приблизительно следующим образом: принимаясь за какое-либо дело (лечение и воспитание людей, производство ликера, выращивание дынь и т. п.), наши верные друзья неизменно терпят поражение, причина которого, по их мнению, в недостаточной теоретической подготовке. Так, решив заняться изготовлением консервов, они, вместо победы над «круговоротом времен года», получают испортившиеся продукты и «невыносимую вонь». Почему? Из-за незнания химии! Через ряд опосредующих звеньев (анатомия, физиология, медицина, астрономия, биология и начала генетики, палеонтология, геология и теория катастроф, археология, история, мнемоника, литература, поэтика) упорные герои Флобера от химии приходят к эстетике.
«Прежде всего что такое прекрасное?
Согласно Шеллингу, это бесконечное, воплощенное в конечном. Для Рида — непознаваемое качество. Для Жоффруа — нечто нерасторжимое. Для де Местра — то, что согласуется с добродетелью. Для отца Андре — то, что соответствует разуму.
Существует несколько видов прекрасного. Прекрасное в науке — геометрия. Прекрасное в мире нравственном: смерть Сократа, бесспорно, была прекрасна. Прекрасное в животном царстве: прекраснейшее свойство собаки — ее чутье. Свинья не может быть прекрасной из-за ее гнусных привычек, змея — из-за того, что вызывает в нас мысль о низости.
Цветы, бабочки, птицы могут быть прекрасны. Наконец, главное условие прекрасного, основной его принцип — это единство в разнообразии.
— Однако же, — заметил Бувар, — два косых глаза разнообразнее двух прямых, а на вид совсем не так красивы!
Они приступили к проблеме возвышенного».
Не знаю, достигается ли подобным образом комический эффект, но мысль о взаимонесоответствии теории и практики весьма прозрачна. Как относиться к подобным эпизодам, из которых, собственно, и построен роман? Что это — просто иллюстрация повсеместной неуместности дилетантизма или же непроизвольное желание привлечь внимание к вещам более любопытным, например, к таким, как закономерное и неизбежное обессмысливание официальной культуры, намертво связанной с определенной формой государственности? Скорее второе, иначе к чему эта тревожная неоднозначность возможного подзаголовка сатирического романа — «О недостатке метода в науках»? Интересно, что такой проницательный мыслитель, как Э. Гуссерль, анализируя «кризис европейского существования», в своем диагнозе вполне солидарен с писателем: «Все науки в затруднении, в конечном счете это трудности метода».
Не углубляясь в детальное обсуждение корректности умозаключения от методологических трудностей науки к общему кризису культуры, заметим только, что речь идет о капитализме эпохи свободной конкуренции и анархии производства, специфичность культуры которого во многом определялась «духом позитивной научности» с ее дезантропоморфизмом и антителеологизмом. У Флобера не возникает никаких сомнений в универсальности подобного стиля отношения к внешнему и внутреннему миру; более того, свое неприятие окружающей действительности, которая, по его мнению, перенасыщена глупостью, он связывает прежде всего с недостаточной научностью ее организации и даже высказывает неоригинальные идеи превращения правительства в одну из секций Академии наук или создания общества «просвещенного мандарината». И если при знакомстве с медициной Бувар и Пекюше с удивлением обнаруживают, что «успокоительные лекарства применяются иной раз как возбудительные, рвотные — как слабительные, что одно и то же средство дается при различных показаниях, а болезнь при противоположных способах лечения проходит сама собой», то это просто из-за того, что данная наука еще чересчур метафизична и недостаточно позитивна. И все! Никакой бессмысленности официальной культуры, никакого ее вырождения в небескорыстное лукавое мудрствование и забвение дела ради слова. Поэтому в своем смутном ощущении неблагополучия писатель не идет дальше героического мифа о науке как панацеи от всех бед, мифа, который в системе государственной идеологии уточняет, дополняет, а иногда и замещает религию, но не задает иных, кроме санкционированных, перспектив. Вероятно, этим в значительной степени и объясняется относительный неуспех романа, ведь именем нарицательным стал «боваризм», а не «буваризм». Несмотря на значительность темы и талант автора, современники не увидели в этом произведении формы, адекватной новому опыту; если и назревал кризис основ, то после анализа «недостатков метода в науках» он не стал более очевиден.
С точки зрения марксизма ясно, что жизнь общества определяется производством и потреблением материальных ценностей, но не менее ясно и то, что ее духовное освоение происходит не только в категориях политэкономии. Отсюда вполне естественный вопрос: доступно ли художественной литературе образное воплощение такой, например, категории культуры, как ее крах и мировоззренческий хаос? Если да, то последний роман Флобера не является здесь классикой, во-первых, потому, что сам кризис еще только угадывался, а, во-вторых, для решения такой задачи необходимы иные художественные средства, нежели те, которыми располагает бытовой реализм, или, по выражению М.М. Бахтина, «реализм подсматривания и подслушивания». Но поскольку все-таки «да», то обратимся к такому образцовому произведению жанра «веселых похорон былых кумиров», как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле.
В предисловии к пятой книге романа собственное время автора (позднее Возрождение и Реформация) характеризуется как мир «без соли, пресный, безвкусный, бесцветный, а в переносном смысле — глупый, тупой, бестолковый, безмозглый»6; это — «век лицемерия и: готики», век зимнего расцвета всех разновидностей неразумия и безумия, концом которого будет «юбилейный» 1550 год. Не думаю, что подобная глупость есть просто недалекость, столь распространенная в быту и иногда забавная; скорее это освященная авторитетом высшей власти претензия на какое-то абсолютное суждение, безусловно истинное здесь и везде, теперь и всегда. Поскольку реальный мир (общество и человек, их природа) с принципиальной незавершенностью (несовершенством) его становления является не самым подходящим материалом для реализации этой претензии, то создается особый (совершенный) мир официальной культуры, которая по мере своего развития становится все более герметичной, закрытой для диалога и безответственной. Иначе и быть не может, если рассуждать по примеру богослова из Сорбонны: «...всякий колокол колокольный, на колокольне колокольствующий, колоколя колоколительно, колоколение вызывает у колокольствующих колокольственное. В Париже имеются колокола. Что и требовалось доказать».
Время этого мира внешней ритуальности и внутренней иерархичности лишено своего естественного ритма и направления; лексика же официальной культуры в конце концов вырождается просто в знаки различия пристойного, уместного и приличного; любое отклонение от стандарта систематически нейтрализуется здесь с помощью нехитрой методики какой-нибудь элиминирующей экспликации авторитетного мнения. Нарастающие усилия профессиональных интерпретаторов демонстрируют прогрессирующую бессмысленность только книжной мудрости, ориентированной в идеале на универсальный синтез Энциклопедии и Библии. «Когда же мир поумнеет... груды книг с виду цветущих, цветоносных, цветистых, словно бабочки, на самом деле невразумительных, утомительных, усыпительных, несносных и вредоносных, как творения Гераклита, и туманных, как числа Пифагора... погибнут, никто их и в руки не возьмет, никто не станет их ни листать, ни читать».
Игнорирование реальности, той самой «почвы», культивированием которой, собственно, и жива культура, превращает ее официальный суррогат в стерилизованную химеру по имени апологетическая ксенофобия. Тень большой политики как питательная среда и правовая (правоохранительная) система как порождающая модель создают крайне благоприятные условия для достижения официальной культурой того уровня своего развития, когда она почти перестает отличаться от способа и результатов деятельности слепоглухонемого паралитика преклонных лет, который обеспечивает себе вполне приличное существование и всеобщее уважение, обучая нарисованных попугаев танцевать и говорить. Осознание того, что общество стало нелюбопытным, является тревожным симптомом превращения организационных принципов данной формы порядка в иерархию степеней несвободы, а значит, и реальной перспективы быстрого перехода от детально регламентированной гармонии к хаосу, доказывающему иллюзорность любой незыблемости. Искусство, как это видно на примере Рабле, по-своему реагирует на абсурдную чистоту символов готового мира, обращаясь от возвышенного совершенства к земной правде. А так как уравновешенная соразмерность творчески непродуктивна, не чревата ничем, кроме более четкого очерчивания границ допустимого, то главное внимание начинает уделяться парадоксальному соприкосновению определенного и беспредельного в едином, т. е. гротеску, который «раскрывает возможности совсем другого мира, другого миропорядка, другого строя жизни. Он выводит за пределы кажущейся (ложной) единственности, непререкаемости и незыблемости существующего мира. «Смеховое начало и карнавальное мироощущение, лежащее в основе гротеска, разрушают ограниченную серьезность и всякие претензии на вневременную значимость и безусловность представлений о необходимости и освобождают человеческое сознание, мысль и воображение для новых возможностей».
Одним из самых печальных последствий синдрома официальности является некоммуникабельность культуры, необщезначимость ее основного языкового кода, который искусственно внедряется в речевую практику и оказывается негодным инструментом общения. В середине XVI в. таким мертвым языком был латинский, навязывание которого в качестве образца для сложившегося национального языка выглядело уже просто нелепо и не могло остаться безнаказанным со стороны доктора медицины, мэтра Франсуа Рабле. Вот, например, эпизод из шестой главы второй книги романа «О том, как Пантагрюэль встретил лимузинца, коверкавшего французский язык». Ситуация самая обыкновенная: прогуливаясь после ужина, Пантагрюэль и сопровождающие его лица встречают «весьма миловидного студента». Самый обычный вопрос: «Откуда это ты, братец, в такой час?» И настораживающий ответ: «Из альмаматеринской, достославной и достохвальной академии города, нарицаемого Лютецией». «Братец» явно желает показать, что он ох как непрост, раз уж учится в Сорбонне. Выяснив у одного из своих спутников, что Лютеция — это Париж, Пантагрюэль задает новый вопрос: «Ну как же вы, господа студенты, проводите время в этом самом Париже?» А проводят его «господа студенты» весело, шляются по городу, горланят песни, бражничают, не чураются покладистых женщин. Однако лимузинец — человек ученый и серьезный, поэтому и ответ его торжествен и величав: «Мы трансфретируем Секвану поутру и ввечеру, деамбулируем по урбаническим перекресткам, упражняемся в многолатиноречии и, как истинные женолюбусы, тщимся снискать благоволение всесудящего, всеобличьяприемлющего и всеродящего женского пола. Чрез некоторые интервалы мы совершаем визитации лупанариев и в венерном экстазе инкулькируем наши веретры в пенитиссимные рецессы путенд этих амикабилиссимных меретрикулий, а затем располагаемся в тавернах «Еловая шишка», «Магдолина» и «Мул», уплетандо отменные баранусовые лопаткусы, поджарентум кум петруцка». Еще несколько реплик и общая оценка подобной учености с указанием точного места ее предназначения: «А, да пошел он в задницу! — воскликнул Пантагрюэль. — Что этот сумасшедший городит? Мне сдается, что он нарочно придумал какой-то дьявольский язык и хочет нас обморочить».
Издевательство над языком и здравым смыслом («он совершенно уверен, что говорит на прекрасном французском языке — именно потому, что говорит не по-людски») не может продолжаться бесконечно. У носителя высокой культуры слабым оказался низ, и хотя Пантагрюэль не привел к исполнению свою угрозу «содрать с живого шкуру», все же «господин студент» был настолько потрясен, что «наложил полные штаны» и спустя несколько лет умер, «в чем явственно виден гнев божий, и пример этого лимузинца подтверждает правоту одного философа у Авла Геллия, утверждавшего, что нам надлежит говорить языком общепринятым и, по выражению Октавиана Августа, избегать непонятных слов так же старательно, как кораблеводитель избегает подводных скал».
Это уже не просто вежливая, «гневно бичующая сатира», а скорее праздник поругания авторитетов. Подобную бесцеремонную свободу Флобер, всю жизнь восхищавшийся Рабле, позволял себе только в общении и переписке с близкими друзьями, в своем же романе он только ироничен и насмешлив, по сути своей его критика есть лишь школьная (схоластическая?) работа над ошибками, работа аккуратная и нерадикальная, после которой усеченная символика господствующей культуры становится еще более непроницаемой и бездуховной, а сознание ее носителей — еще более готовым для усвоения свежих догм. Выше отмечалось, что порождающей моделью официальной культуры является правовая система с ее принципом внутренней согласованности и непротиворечивости, поэтому работа Флобера по выявлению непоследовательной множественности точек зрения лежит в русле официальной установки. Более того, такой скрупулезный и искренний перебор мнений вообще необходим для нормальной работы аппарата идеологии.
Например, Бувар и Пекюше обращаются к философии после того, как занятия спиритизмом и магией убедили их, что «экстаз зависит от материальной причины». Отсюда вопросы: «Что такое материя? Что такое дух? Чем объясняется их взаимодействие?» Поиск ответов, изображенный в виде «борьбы» спиритуализма (Пекюше) и материализма (Бувар), приводит друзей сначала к усталому скептицизму и разочарованию («Такое множество систем только сбивает с толку. Метафизика бесполезна»), а затем к мыслям о смерти («главнейшая проблема»), взаимной отчужденности и неудачной попытке самоубийства. Из любопытства заходят они в церковь, там «грянуло ликующее песнопение, призывающее весь мир пасть к ногам владыки ангелов. Бувар и Пекюше невольно стали подпевать, и казалось им, что в душе у них занимается заря».
Правда, и в религии не находит удовлетворения жаждущий единственности истины и покоя рассудок. Хождение героев Флобера по кругам отчужденного пространства официальной культуры будет продолжаться, встреча же с таким важным ее элементом, как философия, лишь еще раз показывает, что односторонне серьезное отношение к умозрительному поиску последних причин и основ через неочевидность, множественность и равнообоснованность предлагаемых решений, скептицизм и страх смерти неизбежно ведет к капитуляции перед той или иной разновидностью абсолютного. К тому же подобная схема не является для академической философии чем-то неожиданным, она осознается, учитывается и довольно удачно эксплуатируется.
Для успешного противостояния миру узаконенной непрактичной мудрости недостаточно одной только завуалированной иронии рефлексирующего субъекта, необходим еще и здравый смысл, столь презрительно третируемый профессионалами от функционирования именно потому, что это их единственный достойный противник. При чуть более внимательном рассмотрении здравый смысл оказывается одним из самых драгоценных приобретений развитой личности, сформировавшегося характера, который отнюдь не сводится к совокупности только индивидуальных качеств и черт; скорее это — предел ассимиляции внешних требований, то сокровенное, отказ от которого ради каких угодно целей подобен чисто утилитарному отношению к природе, как бы то ни было сначала это предательство, а потом — катастрофа. Здравый смысл как общее чувство реальности и здоровое чутье на ерунду имеет один крупный недостаток — он не умеет оперировать бесконечными величинами и чистыми абстракциями, да, впрочем, это и не его стихия, он рождается и живет только в атмосфере межличностных связей, в свободном общении и диалоге; вне своей среды он возможен только как скудоумие или политиканство. Невозможный без определенной суммы знаний, здравый смысл тем не менее не является простой функцией информационной эрудированности, вероятнее всего это — новое качество личного, практического опыта, знания о нереальности абсолютно самодостаточного существования, о принципиальной невозможности чего-либо, о всегда возможной ограниченности собственной точки зрения и т. п. После этих предварительных замечаний можно, для ясности, процитировать Канта, который считал, что «под sensus communis надо понимать идею общего для всех чувства, т. е. способности суждения, которая в своей рефлексии мысленно (a priori) принимает во внимание способ представления каждого другого, дабы собственное суждение как бы считалось с совокупным человеческим разумом и тем самым избегало иллюзии, которая могла бы оказать вредное влияние на суждение ввиду субъективных частных условий, какие легко можно принять за объективные».
Приведенный выше эпизод с метафизикой достаточно наглядно демонстрирует специфику здравого смысла у Флобера, его ограниченную, рафинированную учтивость, которая претендует только на самостоятельность и не пытается встать на точку зрения другого. В результате перед нами скорее не критика, а защита высшей мудрости от посягательств пошлого обывателя, удел которого не «Этика» Спинозы (субстанция его пугает), а предназначенный для школьников учебник философии Генье. У Рабле же здравый смысл представлен во всех своих основоположениях и максимах, поэтому и понимание философии здесь не гегелевско-аристотелевское, а скорее эпикурейское, близкое к способу представления каждого.
Французский язык позволял Рабле слышать и видеть конец глупости в самом слове «философия» (philosophie — fin folie). В соответствии с этой комической этимологией и строятся некоторые эпизоды романа с ее (не этимологии, а философии) участием. Так, один из друзей Пантагрюэля — Панург — решает жениться, но его мучают сомнения — не наставит ли ему жена рогов? Чтобы не носить это невеселое украшение, он решает предварительно выслушать как можно больше советов самых разных людей. Вот его беседа с «эффектическим и пирроническим» философом Труйоганом:
«— Ныне, о верный наш подданный, факел вручается вам. Настал ваш черед ответить на вопрос: жениться Панургу или нет.
И то и другое, — отвечал Труйоган.
Что вы говорите? — спросил Панург.
То, что вы слышите, — отвечал Труйоган.
А что же я слышал? — спросил Панург.
То, что я сказал, — отвечал Труйоган.
Ха-ха! — засмеялся Панург. — Трюх, трюх — все на одном месте. Ну как же все-таки: жениться мне или нет?
Ни то, ни другое, — отвечал Труйоган»,
Все остальные расспросы ни к чему большему не привели, философ упорно придерживался правила, сформулированного лекарем Рондибилисом: «...будем нейтральны в медицине и пойдем средним путем в философии, сочетая и ту и другую крайность, отрицая и ту и другую крайность и поровну распределяя время между тою и другою крайностью». В соответствии с принципами логики гротеска Рабле отправляет Панурга после встречи с философом к «настоящему» дурачку Трибуле, совет которого ничуть не лучше совета Труйогана: «Чур меня, чур, дурак помешанный! Берегись монашка, волынка ты бюзансейская с рожками!» Как говорится, имеющий уши да услышит, а за интерпретацией дело не станет?!
Не знаю, удалось ли мне с достаточной ясностью показать, что кора официальности делает невозможным взаимодействие и взаимовлияние культур, без чего их развитие, если оно в этом случае вообще возможно, постепенно становится похожим на широкомасштабный эксперимент по изготовлению иллюзий, самая опасная из которых — образ внешнего и внутреннего врага. Это, собственно, и было моей основной задачей.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 7. – 1988. – № 6. – С. 79-86.
Произведения
Критика