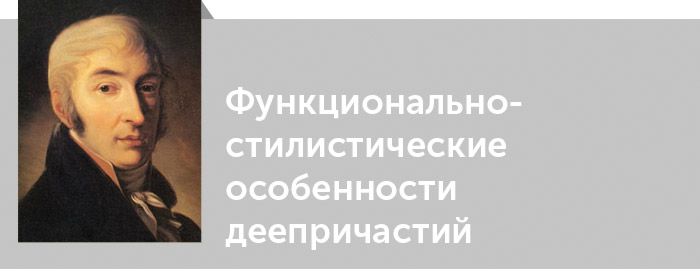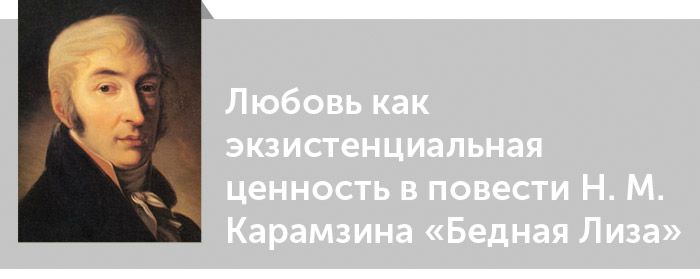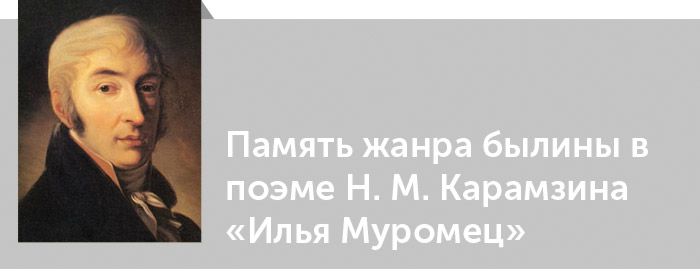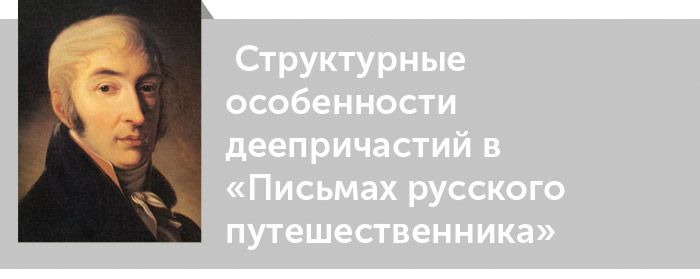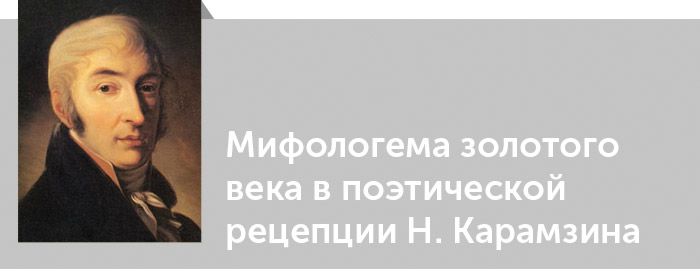О литературной критике Н.М. Карамзина

В.С. Валуев
Хрестоматийно известно сказанное в 1840-е годы В.Г. Белинским: «Первым критиком и, следовательно, основателем критики в русской литературе был Карамзин». Литературная критика Н.М. Карамзина — самобытное явление в словесности XVIII в.
В трудах по истории русской журналистики и критики комментируются крупные журнальные статьи Карамзина. Театроведческие работы «Московского журнала» анализирует И.А. Кряжимская, о Карамзине как критике этого журнала пишет Т.Ф. Пирожкова. Теоретико-литературные взгляды писателя охарактеризованы в трудах Б.Ф. Егорова, Ю.М. Лотмана, Г.П. Макогоненко. Следующая задача науки — дать специальный обзор обширного критического творчества первого русского литературного критика.
В Европе XVIII в. критика была делом обычным и популярным. Общеевропейской известностью пользовался английский литературный критик Сэмюэль Джонсон. Искусствоведческие критические очерки систематически публиковал Дидро. В России прецедентом критики Карамзина были лишь спорадические выступления писателей и введенный «Санкт-петербургским вестником» раздел, посвященный литературной критике. В своем моноиздании 1791-1792 гг. — «Московском журнале» — Карамзин ввел постоянные критические отделы «О книгах», «О русских книгах», «О иностранных книгах», «О иностранных журналах», «Театр», «Парижские спектакли», «Московский театр». В 1802 г. в «Вестнике Европы», издаваемом Карамзиным, появилась рубрика «Критика». Регулярная публикация рецензий, как свидетельствует развернувшаяся на страницах «Московского журнала» полемика между читателем и издателем о праве на критику, была новой и неожиданной для литературной России.
Мысль о необходимости и пользе критики для русской словесности возникла у Карамзина во время европейского путешествия после знакомства с западной критикой. «Что была бы немецкая литература за тридцать лет перед сим, и что она теперь? — пишет Карамзин. — И не строгая ли критика произвела отчасти то, что немцы начали так хорошо писать?». В начале 1790-х годов направленность литературной критики определяется Карамзиным более в западноевропейском, нежели в традиционном российском ключе: он характеризует ее как суд, в равной мере осуждающий и одобряющий. С одной стороны, критик доброжелателен к авторам: «...погрешности в сочинении подобны соломе, плавающей на верху воды, а красоты — перлам, лежащим на дне». С другой стороны, он публикует резко отрицательные, бичующие рецензии на спектакль Московского театра «Эльфрида», на перевод Палефатовых сказаний. Десятилетие спустя Карамзин, отказываясь и от европейской традиции, и от российского обычая критического «осуждения», утверждает принцип сугубо позитивной критики. Именно такая критика содействует, по его мнению, национально своеобразному развитию отечественной словесности. В программной речи на собрании Российской Императорской академии в 1818 г. Карамзин призывает академиков составить критическое — но в новом понимании этого слова — обозрение литературы: «Сие мнение ищет опоры: если академия посвятит часть досугов своих критическому обозрению российской словесности, то удовлетворит, без сомнения, и желанию общему и желанию писателей, следуя правилу: более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно <...> Где нет предмета для хвалы, там скажем все — молчанием». Н.М. Карамзин начал поиск отечественного образца литературной критики, чего впоследствии требовал Белинский: «У нас еще так зыбки понятия об изящном и вкус еще в таком младенчестве, что наша критика по необходимости должна отступать, в своих приемах, от европейской».
Для критического творчества Карамзина, как и для всех ранних форм литературной критики, характерно нерасчленение на виды словесности — всего того, что выражено в письменном слове. Подобно древнегреческой литературной критике Исократа и Аристотеля, оценивающей и художественные, и политические, и судебные, и философские произведения, Карамзин рецензировал оригинальные художественные произведения и переводы, спектакли Московского и Парижского театров, филологические труды, исторические изыскания, описания достопримечательностей, естественно-научные трактаты. При этом критика нельзя упрекнуть в непонимании разницы между искусством, историей и наукой. Искусство и наука строго различаются как подражание натуре и «умственное расчленение», препарирование природы; отличие литературы от истории заключается в вымышленности первой, в «вообразительной силе» литераторов. Синкретизм предмета карамзинской литературной критики связан не столько с неразвитостью жанра критики, сколько с просветительской эстетической позицией писателя. Если на всевозможные сочинения XVIII столетия взглянуть сквозь призму просветительской программы, то станет очевидным, что читателя в равной мере образовывают и поучают и стихи, «поющие успехи просвещения», и «естественная история» Бюффона, и описание путешественниками дорожных достопримечательностей.
Жанры критических сочинений Карамзина не обособлены и поддаются определению лишь проекцией на них позднейших жанровых образований. Монографическая рецензия, классическим образцом которой можно считать отзыв на «Кадма и Гармонию» Хераскова, имеет четко выраженную структуру. Если критик недоволен работой, он, лаконично ее описав, приводит из нее отдельные фрагменты, сопровождая их ироническими комментариями. Далее следуют рассуждения о неискусности слога и резюме, например: «Присланные в Москву экземпляры, почти все в один день были проданы. Вероятно, что всякой хотел иметь его как редкость истекающего века, и — не ошибся <...> За сим вздохнем и отложим перо». Одобрительная рецензия состоит из краткого представления, пересказа содержания с цитатами и восторгами критика, нескольких замечаний по поводу авторского слога и непременной похвалы в завершение. (Стилистический анализ произведения не является новацией Карамзина, он был распространен и в первой половине XVIII в. и в творчестве Новикова.) Жанр литературного портрета встречается у Карамзина в нескольких модификациях: краткого очерка жизни и творчества (переводы из Мейстера о Клопштоке, Геснере и Виланде в «Московском журнале»), краткого представления творчества («Леонтий Пилат» в «Пантеоне иностранной словесности», «Пантеон российских авторов») и развернутого литературно-биографического портрета («О Богдановиче и его сочинениях»). Достаточно отчетливо в творчестве критика выражены жанр аннотации, уже известный в русской литературе, а также учрежденный Карамзиным, но получивший распространение лишь в критике XX в., жанр сравнительной рецензии, предполагающий сопоставление отдельных произведений либо творческих биографий писателей. К разряду критико-библиографических композиций можно отнести жанр «пантеона», в котором составлен «Пантеон российских авторов», задуманный как продолжающееся историко-литературное издание. Это первый в России опыт словаря писателей, имеющий в качестве европейского аналога «Биографию поэтов» Сэмюэля Джонсона.
Решительный в суждениях о прошлой литературе, Белинский утверждал, что; характер карамзинского направления «состоял в сентиментальности, которая была односторонним отражением характера европейской литературы XVIII века». Критика Карамзина лишь условно и схематично описываема в категориях европейского сентиментализма. Эстетическая и критическая программа писателя отнюдь не тривиальна, она сформировалась на нескольких литературных традициях — западных и отечественных.
Говоря о Лессинге, критик подчеркивает, что именно живая натура дала ему живое чувство истины. О Шекспире он замечает: «Все великолепные картины его непосредственно натуре подражают; все оттенки картин сих в изумление приводят внимательного рассматривателя». Однако если эстетика классицизма требовала правдоподобия как согласия изображения с законами разумной логики, то Карамзин-критик настаивал на правдоподобии эмоций и страстей — «чувствований» человеческой натуры. «Все в природе стремится изъявлять внутренние свои чувства». Это и должен в первую очередь увидеть и отобразить художник, «сердценаблюдатель по профессии». «Выражение чувства (или ощущения) есть цель поэзии». Непревзойденным здесь, по мнению критика, является Шекспир, представивший «тончайшие человеческие пружины и сокровеннейшие побуждения» Цезаря и Брута. С этой точки зрения Карамзин критикует и недостаточно живое драматическое искусство актеров Московского театра Померанцева и Синявской, и неправдоподобную картину чувств, нарисованную современным прозаиком: «...не поздно ли уже зарождаться в человеке семенам самолюбия, — спрашивает Карамзин, прочитав у Хераскова о «зарождении в Кадмовом воображении семян самолюбия», — когда он родится с оными? Говоря фигурнее, можно сказать, что он родится с семенами оного».
Сентименталистская критика Карамзина обладает несколькими существенными свойствами, отличающими ее от эстетики европейских сентименталистов и составляющими лицо критика. Эстетика западного сентиментализма, предполагая имитацию естественности путем спонтанного излияния чувств, ориентирует авторов на нарочитую фрагментарность композиции литературного произведения. Критика Карамзина, выросшая на почве публицистики русской литературы, требует от автора не хаотичного нагромождения страстей, которое хотя и правдоподобно, но не действенно, а продуманного изображения чувствований. Литературное творение в силу богатства чувств и художественной палитры автора не может быть однопредметным — только умильно радостным или щемяще печальным. «Чувствительной душе не сродно ль изменяться? Она мягка как воск, как зеркало ясна, И вся Природа в ней с оттенками видна». Однако разнообразие художественного произведения должно быть разумно ограничено, имея некоторый стержень: «Поэзия избирает всегда один главный предмет, и не хочет делить своего внимания». «Сердце наше не может распространяться до бесконечности. Чувствуя слишком разнообразно, оно перестает чувствовать». Карамзин приветствует драму «Эмилия Галотти», в которой «приключения натурально связаны», завязка, кульминация и развязка действия органически соединены. В то же время он неодобрительно относится к произведениям «без порядка в действии», с непродуманной или нарочито противоречивой связью частей. Таков, по его мнению, «Кавказский пленник» Пушкина: «...слог жив, черты резкие, а сочинение плохо; как в его душе, так и в стихотворении нет порядка». В критике Карамзина мотив постигнутой рассудком гармонии переживаний с годами развивается и усиливается. Если критику «Московского журнала» вполне устраивало последовательное изображение чувств — она не принимала лишь калейдоскопического их смешения, — то Карамзин — создатель «Пантеона российских авторов» (1802) — считает литературной нормой «представление характеров», а не «описания чувств».
Однако гипертрофированная гармония чувств и характеров сродни пустой упорядоченности классицизма — «регулярному саду» с прекрасными аллеями и холодной душой. Карамзин предупреждает молодых сочинителей о вреде проявления излишней тщательности в построении гармонии — последняя в этом случае бывает утомительна для внимания и отвлекает читателя от самого предмета.
Другая существенная сторона сентименталистской критики Карамзина — устойчивая просветительская позиция. Если в западноевропейском сентиментализме идея наставничества литературы со временем приносится в жертву эстетической стороне словесности, то у Карамзина мысль о просвещении и воспитании русских — стабильная и наиглавнейшая. Она владела молодым Карамзиным — учеником Новикова и критиком «Московского журнала»; она «водила пером» многоопытного автора, открывавшего русским русскую историю. Литература — «святая поэзия» — должна быть наставницей человечества: одолевать чудовище эгоизма, разъяснять понятия о вещах, давать нравоучения политические наставления. При этом высокая литература пользуется не убеждением, как в классицизме, а несравнимо более живым средством — нравственно-психологическим потрясением читателя. Корнель в «Сиде», в отличие от бесстрастного историка, живостью страстей вызывает в публике способность к сопереживанию, а парижская опера воспитывает нравы сентиментальной коллизией, обличающей тиранов и злодеев, превозносящей добрых государей и добродетельных мужей. Назидания и поучения действенны лишь тогда — и это особенно ценит критик, — когда художник, подобно Шекспиру, видит человеческую натуру иначе, чем другие, — глубже или неожиданнее. В художественном произведении Карамзин особенно осуждает прямолинейность и «сухость моральной диссертации»: поэт — не философ. Идея просвещения тем действеннее, чем более она оживлена, чем изящнее завуалирована. «Поэт сопровождает мораль свою пленительнейшими образами, живет ее в лицах и производит более действия, — комментирует Карамзин «Кадма и Гармонию». — Таким образом, сочинитель Кадма хотел в привлекательной мифологической одежде <...> учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием вещей чудесных — одним словом, он хотел написать нам второго Телемака».
Европейская сентиментальная литература прошла путь от морализма, воспитующего искусства, к эстетизму — самоценному наслаждению изящно изображенными чувствительностями.
Чувственная неумеренность им решительно осуждается. «В изображении страстей всегда почти заходят они, — говорит автор «Писем русского путешественника» о «новейших английских трагиках», — за предел истины и натуры, может быть оттого, что обыкновенное, то есть истинное, мало трогает сонные и флегматичные сердца британцев: им надобны ужасы и громы, резанье и погребения, исступление и бешенство. Нежная черта души не была бы здесь примечена; тихие звуки сердца без всякого действия исчезли бы в Лондонском партере <...> Здесь Талия не смеется, а хохочет». В программной, во многом итоговой, речи в Российской Императорской академии (1818) Карамзин в категорической форме утвердил единство изящного искусства-удовольствия и литературы — служительницы нравственности: «Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств».
Карамзинской критике свойствен исторический подход к художественному произведению. Хотя отношение Карамзина к воссозданию исторических сюжетов в оцениваемых им сочинениях по сути не отличается от положений классицистической литературы, новация критика состоит в осмысленном определении этих идей. Нравоучительная миссия литературы, по его мнению, несравненно более значима, нежели копирующая историчность. Писатель может «только некоторым образом подделаться под древний колорит», главное — воздействовать прошлым на нравы настоящего. «Рецензент, читая Кадма, — пишет Карамзин, — при многих местах думал: «Это слишком отзывается новизною; это противно духу тех времен, из которых взята басня». Однако <...> согласился он сам с собою не почитать сих знаков новизны за несовершенство сочинения, имеющего цель моральную. Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова?».
Л-ра: Вестник МГУ. Серия Филология. – 1990. - № 5. – С. 20-26.