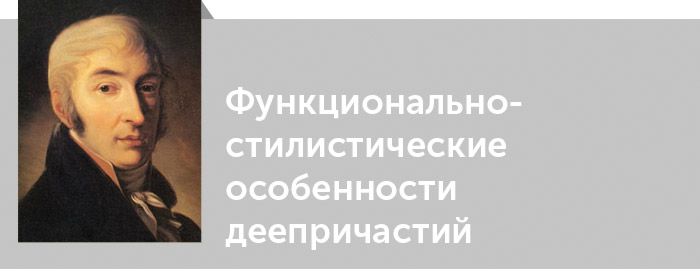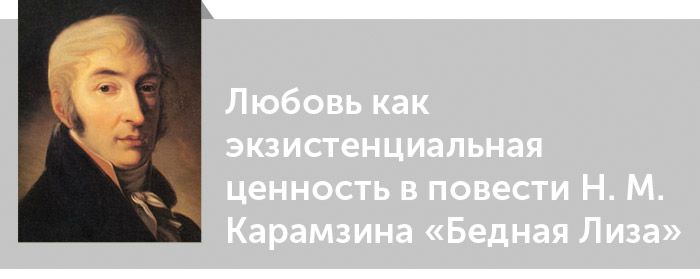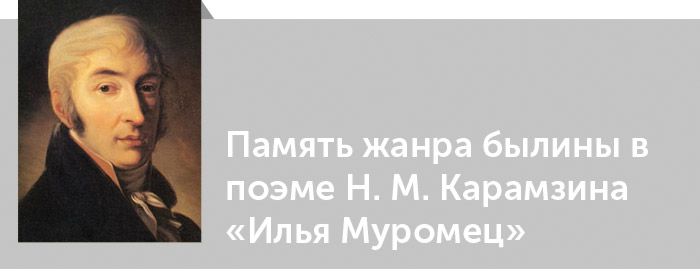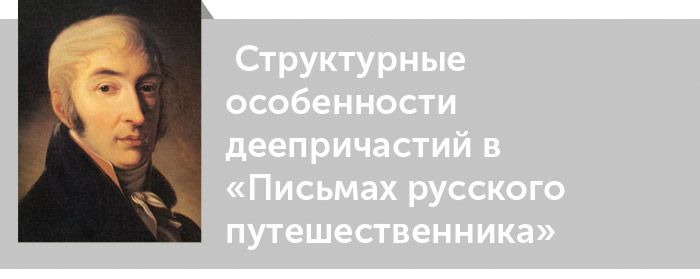Мифологема золотого века в поэтической рецепции Н. Карамзина
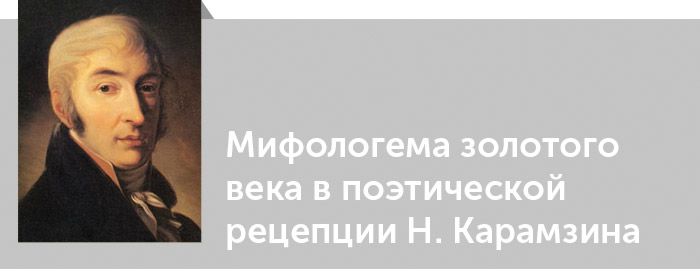
УДК 821.161.1 – 1 "17-18"
А. Попович
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков и литературы
Херсонского государственного университета
А. ПОПОВИЧ. МІФОЛОГЕМА ЗОЛОТОГО ВІКУ В ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ М. КАРАМЗІНА
У статті розглянуто специфіку інтерпретації міфологеми Золотого віку в поезії М. Карамзіна, здійснену поетом у контексті переходу від традиціоналістської до індивідуальнотворчої художньої свідомості, простежено модифікації міфологеми, її жанрово-стилістична специфіка. Виокремлено одичні та ідилічні варіанти потрактування міфологеми, її масонська інтерпретація, розглянуто індивідуальні варіанти просторової реалізації міфологеми та шляхи її деміфологізації.
Ключові слова: міфологема Золотого віку, міфотворчість, масонські уявлення, сентиментально-преромантична естетика, художні свідомість.
А. ПОПОВИЧ. МИФОЛОГЕМА ЗОЛОТОГО ВЕКА В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ Н. КАРАМЗИНА
В статье рассматривается специфика интерпретации мифологемы Золотого века в поэзии Н. Карамзина в контексте перехода от традиционалистского к индивидуальнотворческому художественному сознанию, прослеживаются основные модификации мифологемы и их жанрово-стилистическая специфика. Выделены одическая и идиллическая интерпретации мифологемы, ее трактовка в координатах масонской мифологии, индивидуальные варианты пространственной реализации мифологемы и ее демифологизации.
Ключевые слова: мифологема Золотого века, мифотворчество, масонские представления, сентиментально-предромантическая эстетика, художественное сознание.
A. POPOVICH. KARAMZIN’S POETICAL RECEPTION OF GOLDEN AGE MYTHOLOGEM
The article is devoted to the specificity of interpretation of Golden Age mythologem in N. Karamzin’s poetry, their genre-stylistic specificity in the context of transition from traditionalistic to individual-creative type of artistic consciousness. The author distinguishes the original interpretations of the mythologem in genres of ode and idyll, its realization within the bounds of Masonic mythology, spatial variants of the mythologem and the cases of its demythologization.
Key words: Golden Age mythologem, mythopoiesis, Masonic ideas, Sentimental and Preromantic aesthetics, artistic consciousness.
Нестабильный характер социокультурных процессов в России второй половины XVIII – начала XIX века закономерно продуцирует свойственное переходности стремление упорядочить хотя бы на ментальном уровне распадающуюся картину мира. Миф о Золотом веке, репрезентируя циклическую концепцию истории, представляет собой своего рода "готовую модель", посредством которой художественное сознание пытается укорениться в действительности. Имманентность топоса Золотого века русской поэзии второй половины XVIII века в традиционной совокупности мотивов, а именно: вечная весна, самопроизвольное плодородие земли, изобилие, идиллическая жизнь на лоне природы, безмятежное, не обремененное трудом существование, отсутствие золота, а следовательно, войн, справедливость, воплощенная в образе богини Астреи, расцвет наук и искусств, зафиксирована в работах А. Петрова, В. Проскуриной, И. Калинина, Т. Абрамзон.
В лирике Н. Карамзина мифологема Золотого века получает разнообразное художественное воплощение, отражая переходный характер русской литературы конца XVIII – начала XIX века. Поэтическое творчество автора "Истории Государства Российского" по сравнению с прозаическими произведениями изучено недостаточно. Наиболее емко его поэзия, насколько нам известно, рассматривается Ю. Лотманом, но мифопоэтика в избранном нами ракурсе ученым не исследуется. Цель данной статьи – выявить модификации и жанрово-стилевые доминанты мифологемы Золотого века в лирике Н. Карамзина.
К карамзинскому "тексту Золотого века" (В. Топоров) можно отнести оды "На случай присяги Павлу I" (1796), "Александру І, на восшествие на престол" (1801), "На торжественное коронование Александра I" (1801), стихотворения "Поэзия" (1787), "Протей, или Несогласия стихотворца" (1798), "Песнь мира" (1791), "На разлуку с Петровым" (1791), "Послание к Дмитриеву" (1794), "Долина Иосафатова, или Долина спокойствия" (1796), "Гимн глупцам" (1802). Оды, прославляющие монархов, созданы поэтом в формате одического канона, характерного для 60 – 70-х годов XVIII века, с использованием традиционных одических метрики и строфики. Неожиданные изменения в общественнополитической позиции Н. Карамзина, обратившегося к прославлению государственной власти, Ю. Лотман объясняет разочарованием поэта в прежних утопических идеалах: "Карамзина привлекает внешняя по отношению к человеческой личности сила — государственная власть" [4, с.48]. Поэтизация политики приводит к появлению жанра оды в творчестве Н. Карамзина, а одическая "память жанра" актуализирует укорененные в поэтическом сознании его эпохи топосы. Так, в одах поэта, посвященных Павлу и Александру, реализуются одические топосы "царь – солнце", отцовства / сыновства (монарх – отец народа), богоподобности, преемственности, райского сада, которые приобретают в поэзии Н. Карамзина новые черты.
Так, топос "царь – солнце", традиционно реализующийся путем уподобления государя солнцу, у Н. Карамзина получает оригинальное семантическое и образное оформление. В контексте своих просветительских взглядов поэт дополняет солнечный лик Александра как монарха новыми характеристиками: "Ты будешь солнцем просвещенья" [3, с.264], "Сиял, как солнце, на умы" [3, с.268], его правление – "царство света, а не тьмы" [3, с.268], что отсылает к космогоническим функциям, приписываемым одической традицией императору, творящему царство Божье на земле. Рисуя посредством традиционной солярной символики эмблематический образ Павла-Феба "в сиянии златом, / В венце блестящем, в славе мирной", маркирующий наступление нового прекрасного дня (Золотого века), Н. Карамзин, в отличие от предшественников, акцентирующих мотив грядущего бессмертия или долголетия самодержцев (М. Ломоносов, М. Херасков, И. Богданович), показывает "закат" правления Павла: "сольется яркими струями / С вечерней тихою зарей / И алый блеск оставит в ней" [3, с.190]. Как представляется, в изображении конечности царствования монарха сыграл свою роль масонский иррационализм с его любовью и готовностью к смерти, которому в юности отдал дань Н. Карамзин. Отрефлексированные автором масонские идеи, характеризуемые, по утверждению Ю. Лотмана, "вниманием к европейскому предромантическому движению" [4, с.24], позволяют идентифицировать его поэзию в русле художественных исканий новой эстетики.
Показательна еще одна тенденция в одической поэзии Н. Карамзина, которая фиксирует ее отличие. Скажем, сакрализация царской власти, реализуемая посредством топоса богоподобности монарха, в целом характерна и для предшествующей традиции. Но в оде "На коронование Александра I" (1801) Н. Карамзин отступает от одического канона, вслед за Г. Державиным видя в монархе, прежде всего, человека: "У вас на троне – человек!" [3, с.268] (Срв. у Г. Державина: "Будь на троне человек!" ("На рождение в Севере порфирородного отрока", 1777)), которому сопутствуют "Бог и добродетель" [3, с.269]. Отказ от сакрализации образа монарха выдвигает на первый план человеческие качества Александра, вследствие чего его царствование, соотносимое с Золотым веком, тем не менее, противопоставляется царству Астреи: "У нас Астрея! восклицаю, / Или воскрес Сатурнов век!.. / Ответу Клии я внимаю: / "У вас на троне человек!" [3, с.268]. Ответ музы истории Клио поэт "противопоставляет "своему "архаическому", каноническому восклицанию, соотнесенному со старой имперской традицией" [9]. Одическое клише теряет свою актуальность в пользу усиления внимания к личности, индивидуальности монарха, восприятия его как частного человека. Аксиологический приоритет личного над государственным, характерный для сентиментально-предромантической эстетики, выражается и в оде "На случай присяги Павлу I" (1796), где топос династической преемственности художественно воплощается в лице Петра I и Павла I, при этом богоизбранность этого союза подчеркивается прозрачной аллюзией: "их церковь вместе величает" [3, с.189]. Достоинства императоров как государственных мужей автор переосмысляет в пользу личностных качеств, авторитетных для христианской этики. Апостол Павел, характеризуемый как "нежный, мягкосердечный, чувствительный человек" [6, с.300], соотносится в поэтическом сознании Н. Карамзина с Павлом I, дарителем милости, отпускающим домой солдат и на свободу узников. Павел I наследует, таким образом, не только Петру I, одновременно противополагаясь ему, но и библейскому апостолу, причем христианская аналогия подчеркнута эпитетом "мил", маркирующим сентиментальнопредромантическое эстетическое пространство: "Петр был велик, ты мил сердцам" [3, с.189]. Как представляется, сочетая в своем мотивном и семантическом поле различные культурные и мифологические пласты (христианскую символику и образность мифа о Золотом веке), исследуемая мифологема отражает имманентный предромантизму эклектизм в рецепции мифологической образности.
В использовании традиционного для одической поэзии топоса райского сада Н. Карамзин актуализирует в образе монарха космогонические черты культурного героя: начало царствования выступает творением нового мира (Павел), весны (Александр), Золотого века, когда, творя на земле "мирные райские дни", император меняет и климатические условия: "среди сибирских льдов / Луга, покрытые цветами, / Поля с обильными плодами" [3, с.190], а условная райская топика принимает вид сентиментальнопредромантической пасторали: "прелестные картины / Избытка, сельской красоты, / Невинной, милой простоты; / Цветут с улыбкою долины, / Блистают класами поля – / Эдемом кажется земля" [3, с.267].
Среди других мотивов мифологемы Золотого века Н. Карамзин актуализирует мотивы: а) расцвета искусств, наук: "Павел… / Наук, художеств покровитель" [3, с.186], "Искусство украшает грады" [3, с.268]; б) всеобщего мира, покоя: "царство мирно, безмятежно" [3, с.185], "под сенью мирныя оливы" [3, с.187] (отметим подобный образ у М. Муравьева ("Ода (вторая)", 1776)), "мир всеобщий" [3, с.187], "под кровом мирной тишины" [3, с.268], "ты <Александр> будешь гением покоя" [3, с.263]. Показательно, что "барочноклассицистическая идея сакрализации монарха постепенно сменяется предромантическим представлением о гениальности властителя, его природном праве творить историю" [7, с.214]; в) отмечены этические характеристики монарха: Золотой век его царствования маркируется мудростью, справедливостью, искренностью, милостью, добротой, любовью: Россия "в добре и нравах процвела" [3, с.268]; г) акцентируется мотив справедливости, выраженный в образе монарха, в руках которого "весы Фемиды" [3, с.186]. Справедливость, персонифицированная в античной мифологии образами Астреи / Фемиды, а в западной эмблематике фигурой женщины "с завязанными очами, с весами и шпагою в руках" [12, с.33], является одной из ключевых характеристик Золотого века. В семантическом пространстве мифологемы образы Астреи и Фемиды сливаются, вследствие чего изображение монарха с их атрибутикой также отсылает к топике Золотого века. Правосудие ассоциируется у Н. Карамзина с установлением законов, обеспечивающих свободу и равенство людей, что поэт неоднократно подчеркивает как основную заслугу просвещенного монарха, творящего в России Золотой век: "Свобода там, где есть уставы, / Где добрый не боясь живет" [3, с.266].
Золотой век в творческом сознании поэта характеризуется богатством, всеобщим блаженством и счастьем. Главные добродетели монарха, равно как и его подданных – любовь и доброта, эпитет "добрый" – константа в обозначении царя и "россов": "для нас течет Астреин век; / Что росс, то добрый человек" [3, с.189]. Таким образом, несмотря на традиционные одические метрику и строфику, риторические приемы, лексическая наполняемость од Н. Карамзина уже сентиментально-предромантическая: "слезы счастия", "царь сердец", любящий "россов нежно", "мил сердцам" (Павел); "улыбка милая", "сердцу услажденье", "невинные радости", "монарх сердец" (Александр). Предромантическим характером обладают мотив "дружества", иллюстрированный образами сыновей Павла, приоритет семьи (возвращение домой солдат, освобождение узников, возвращающихся к домашним), акцент на чувствительности. Представляет интерес карамзинская интерпретация образа сердец, традиционного для одической поэзии XVIII века. Если предшествующие одописцы акцентируют этим образом жертвенность россиян, готовность принести сердца на алтарь монархини / отечества, то у Н. Карамзина сердца отданы Александру за его дела, символизируя всенародную любовь россов. На фоне сентиментально-предромантической лексики одическую торжественность подчеркивает образ "храма бессмертия и славы", который "воздвигнут в память всем векам" [3, с.269], представляющийся реминисценцией из оды М. Хераскова 1791 года "На день восшествия на престол", посвященной Екатерине, где на воздвигнутом монархами "храме российской славы" "строка златая зрится: "Созижден храм сей в век веков!" [11, с.72].
Обращения к мифологеме Золотого века Н. Карамзина осуществляются не только в формате торжественной оды, но и в стихотворениях, рефлексирующих поэтологические взгляды автора (программное стихотворение "Поэзия"). В первом случае в ряду великих поэтов, названных Н. Карамзиным исходя из предромантических взглядов, к мифологеме отсылают упоминания мифа о смене веков в "Метаморфозах" Овидия и перифрастическое именование С. Гесснера, оказавшего своими идиллиями, воспевающими пасторальную сельскую жизнь, значительное влияние на предромантическую эстетику, "другом Астреи". Но индивидуальная рецепция Н. Карамзиным мифа о Золотом веке выражается в осмыслении его как первых дней Творения, когда "человек, в невинности сердечной, / Как роза цвел в раю" [3, с.58]. Творца "любовию рожденный" человек почувствовал Бога, и "сердце у него в гимн нежный излилось" [2, с.58] – так родилась Поэзия (Срв. обращение к музыке в стихотворении Н. Львова "Музыка, или Семитония" (1796): "Не ты ль с небес к нам в век златой, / Богиня нежных душ, спустилась?" [5, с.37]). Мифологема Золотого века реализуется здесь в парадигме библейской мифологии, принимая здесь вид простого гармоничного существования человека-поэта до изгнания его из "эдемского сада". Подобная трактовка мифологемы родственна масонской ее интерпретации, тем более что "идея божественного происхождения поэзии восходит к литературным воззрениям московских масонов" [4, с.24]. Но если для вольных каменщиков наиболее значимы представления о небесном происхождении "высшей мудрости, которой обладал человек до грехопадения" [3, с.377], и этические константы Золотого века, утраченные человечеством (М. Херасков, В. Майков, И. Богданович), то в поэтическом сознании Н. Карамзина происходят изменения. Наивысшим ценностным статусом обладает поэзия, которая, привнося в жизнь отблеск блаженных времен, "всегда отрадою была невинных, чистых душ" [3, с.59]. Она воплощается в образах поэтов, среди которых первыми названы библейские Моисей, Давид, автор книги Екклесиаста. Мифологема Золотого века дана имплицитно, сочетая масонские представления и библейские образы; присущие мифологеме мотивы мира, гармонии, расцвета искусств, райская топика развернуты здесь в самостоятельную картину.
В стихотворении "Протей, или Несогласия стихотворца" появляется новый "авторский идеал" (Ю. Лотман) – мифотворчески созданный образ художника-Протея, пытающегося многообразием своих лирических героев отразить жизнь "в разнообразии естественных чудес" [3, с.243]. Из множества обликов художника к мифологеме Золотого века обращаются: поэт, пишущий идиллии, поэт-рационалист, и поэт, воспевающий любовь. Творец идиллий "в весенний день, среди лугов цветущих" видит в пасторальных картинах природы воплощение Золотого века, с присущими мифологеме мотивами братства, сельского труда, любви и радости. Неведение человека "что есть добро и зло" [3, с.243] актуализирует топос рая, в изображении которого чувствуется и влияние масонского сенсуализма в духе Э. Кондильяка: люди Золотого века "по чувству добры были" [3, с.243]. Лирический субъект Н. Карамзина видит счастье Золотого века в естественной жизни на лоне природы, где "душевный сладкий мир с веселостью живет" [3, с.243], где век пролетает "как день весенний ясный, / В невинности златой, в сердечной простоте" [3, с.243]. Сменив идиллическую свирель на одическую лиру, поэт-рационалист, рассматривающий мир как "машину хитрую, чудесное сцепленье бесчисленных колес; ума произведенье" [3, с.244], видит в блаженной Аркадии (пространственное воплощение мифологемы Золотого века, берущее начало во французской пасторальной литературе) "мнимый век златой, век лени, детства, сна", где идиллическая жизнь на лоне природы трансформируется в презрительное "в Аркадии своей ты был с зверями равен" [3, с.244], а эпитет "своей", обладающий уничижительными коннотациями, подчеркивает условный характер идиллии, принадлежность ее к воображаемому миру, что свидетельствует об исчерпанности традиционного содержания мифологемы. Лирический субъект, воспевающий любовь, противопоставляет Золотой век, "сто лет, счастливо проведенных / Без горя и беды в избытке благ земных" [3, с.249] "райскому" мигу взаимной любви.
Блаженство Золотого века как любовь, но уже всеобщая, изображается Н. Карамзиным в "Песни мира", написанной под влиянием "Гимна к радости" Ф. Шиллера, также захваченного настроениями о возможности братского единения людей всего мира, имевших истоки в утопических проектах "вечного мира", пропагандирующихся Б. СенПьером, Ж. Руссо. Идиллическая трактовка мифологемы Золотого века, акцентируя мотив мирной жизни, трансформированный в топос "вечного мира" (В. Фейт), актуализирует также мотивы весны, расцвета искусств, райскую топику. Мир в эмблематическом облике крылатого божества в венце "светлее Феба", с ветвью оливы (традиционный символ мира [12, с.53]) изгоняет хтоническую тьму, олицетворяющую войну. Творя на земле райский сад, мир, корреспондирующий с весной, стимулирует оживление природы, данное колористически: "роза расцветает, / Как весною в красный день", луга зеленеют, колосья "сребрятся", "плод златый"; отметим также апелляцию к обонянию: "бальзам веет в ветерке" [3, с.106]. Мир иллюстрируется общепринятой для мифологемы Золотого века библейской аллюзией: "Агнец тигра не боится / И гуляет с ним в лугах" [3, с.106]. Мифологические истоки подчеркиваются использованием условных образов античной мифологии, "закрепленных" за идиллической поэзией: нимф, фавнов, сатиров, Силена. Расцвет искусств, традиционно персонифицированных образами муз и граций, выражается в звуках лиры "на брегах кристальных вод". Анафорическое троекратное "вечно" в обращении к Миру предполагает темпоральную бесконечность Золотого века, а фраза "смертный ныне просветился" вызывает ассоциации скорее с просветлением, нежели с просвещением, в силу осознания этической максимы "блаженство есть любовь" [3, с.108]. Призывы к всемирному братству воплощаются в образе цепи, состоящей из взявшихся за руки "детей одного Отца", который, кроме древнего восточного символического значения единства и сплоченности [8, с.475] обладает ярко выраженными масонскими коннотациями (масонская "цепь союза – круг, составляемый братьями ложи либо во время посвящения в степень, либо при открытии или закрытии работ" [10]). Приобщение к Вечному миру Золотого века путем соединения рук корреспондирует с масонским ритуалом посвящения, а стремление возродить век Астреи также воспринимается в духе масонской мифологии. Хотя факт разрыва Н. Карамзина в 1789 году с масонскими кругами общеизвестен, его эстетическая позиция тех лет "не отличалась монизмом" [3, с.26], эклектически сочетая принципы просветительской эстетики и масонского субъективизма, актуализирующиеся в поэтическом сознании в зависимости от творческой задачи.
Пространственное воплощение мифологема Золотого века получает в стихотворении "Долина Иосафатова, или Долина спокойствия", выражаясь в ветхозаветном библейском образе долины, где Иегова будет производить суд над народами (Иоил 3:2, 3:12). Ключевая характеристика долины, "где судьбы рукою / Хранится таинство сердец" [3, с.211] – покой, мир, тишина, обеспечивающие состояние просветления, приближенности к вечности. Лирический субъект видит себя странником, водителем корабля в океане жизни (образ, укорененный в русской поэзии со времен М. Ломоносова), искателем "страны блаженной, святой" [3, с.212], то приближающейся, то снова удаляющейся. Подобный идеальный локус, к которому стремится лирический субъект, в какой-то степени предвосхищает состояние романтического двоемирия. Композиционно стихотворение делится на две равные части, завершающиеся повторяющейся строфой, своего рода рефреном, в котором выражаются надежды и чаяния лирического субъекта достичь желанного пристанища. Первая часть посвящена изображению блаженной долины, вторая – превратностям житейского моря. Строфа: "Навек в груди угасни пламень! / Пусть в ней живет единый хлад! / Пусть сердце превратится в камень! / Его чувствительность мне яд" [3, с.212], чужда идилликоэлегической сентиментальности, предвосхищая драматическое мироощущение романтиков (отметим ее лексику и эмоционально-экспрессивную окраску). Отказ от чувств, страстей, превратностей и ложных ценностей света, выраженных в античных мифологических образах (оксюморонные "мило-злобные цирцеи", "хитрый бог, любящий слезы, / Не мещет кипарисных стрел" [3, с.211]) и образах природы (громы, ветра ("бореи"), "змея под цветом розы" [3, с.212]), в пользу высшего счастья, истины желанен и недосягаем для лирического субъекта. Библейская долина Иосафатова как грозное место Страшного суда над притеснителями народа Израиля мифотворчески обретает в поэтическом сознании Н. Карамзина черты Золотого века, где царит тишина, и люди погружены в счастливый сон, не нарушаемый пением петуха. Усматривая в образе петуха символ "особого идеального мира, покоя, сна, забвения", исследователи акцентируют его использование в рамках "стремления поэтов к индивидуализации поэтического контекста" [2, с.142]. Соглашаясь, что Н. Карамзин оригинально использует и истолковывает орнитологическую символику, возразим относительно интерпретации образа петуха. В мифологической и эмблематической традициях петух "есть знак бдения, бодрствия, неусыпности, сражения и победы", посвященный Солнцу и Марсу [12, с.51; 120]. Изображенный поэтом как "забот печальный вестник", этот образ скорее символизирует жизнь во всех ее проявлениях, которой нет доступа в счастливый, безмятежный сон блаженных душ творимого Н. Карамзиным Золотого века. Индивидуальная интерпретация мифологемы свидетельствует о достаточно высоком уровне авторского мифотворчества, развивающегося в эстетическом пространстве предромантизма.
Иная линия развития мифологемы Золотого века в творчестве Н. Карамзина, как представляется, наследует поэзии М. Муравьева, выступая в образе естественной идиллической жизни на лоне природы, одухотворенной дружбой и творчеством. Так, в стихотворении "На разлуку с Петровым" в сентиментально-предромантическом ключе воспроизводятся мотивы тишины, радости, единения с другом, природой и Творцом. Но весна и обновление мира уже не являются непременным атрибутом Золотого века. Рецепция мифологемы дополняется еще одним семантическим оттенком – Золотым веком воспринимается и молодость, "приятнейшее время", "блаженны дни", которые "вовек не возвратятся" [3, с.105]. Сходная трактовка мифологемы наблюдается и в "Послании к Дмитриеву…" (1794), где юность представляется лирическому субъекту как "жизни алая весна", когда "нектар сладостный пием / Из полной олимпийской чаши" [3, с.136], наслаждением "надеждами и мечтами златыми", когда в человечестве видятся братья и друзья. Невозвратность молодости влечет за собой и разочарование, понимание, что наступление Золотого века, когда "Сатурн на землю возвратится / И тигра с агнцем помирит" [3, с.137], так же неосуществимо, как и наполнение сосуда Данаид. Идеал Золотого века недостижим, как невозвратима ушедшая юность. Показательно, что в предромантической и романтической поэзии начала XIX века мифологема Золотого века, приобретая коннотации прошедшей молодости, видоизменяется настолько, что к ее прежней семантике отсылают лишь лексемы "златой", "весна": "Моя уж юность отцветает; / Златое время протекло!" (Н. Гнедич); "Как призрак легкий улетели / Златые дни весны моей" (М. Милонов); "Златые дни! Златые дни! / Взываю к вам, и где ж они?" (Н. Языков); "Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни?" (А. Пушкин). Показательно, что к подобному выводу приходит Т. Абрамзон, анализируя в контексте разрушения мифологемы Золотого века творчество Г. Державина [1, с.36-37].
Мифотворчество Н. Карамзина также реализуется в деконструкции мифологемы, ее демифологизации путем снижения семантики (отметим подобную модель в "Стихах к деньгам" (1783) И. Богдановича). Так, в "Гимне к глупцам" (1802) блаженная жизнь людей Золотого века снижается до растительного существования, заботы о желудке, обесценивая мифологическую составляющую: "Когда был человек блажен? / Тогда, как, думать не умея, / Без смысла он желудком жил. / Для глупых здесь всегда Астрея / И век златой не проходил" [3, с.289]. Представляется обоснованным мнение В. Проскуриной о том, что в этом стихотворении поэт "по-своему распрощался с политическими пристрастиями, философскими дебатами и даже с воспетым некогда Державиным эпикуреизмом века Астреи" [9].
Подводя итоги, отметим, что мифологема Золотого века в поэтическом сознании Н. Карамзина интерпретирована следующим образом: 1) в рамках реализации имперского мифа, характерного для пиндарической оды второй половины XVIII века, с сохранением метрики, строфики, а также топосов, семантика и лексическое содержание которых расширено с учетом эстетики и стилистики сентиментально-предромантической поэзии; 2) в парадигме масонских представлений о Золотом веке как первых днях Творения, маркированных непорочностью, миром, всеобщим братством и рождением искусств; 3) в пространстве идиллической поэзии как естественная жизнь на лоне природы, где мифологема приобретает коннотации ушедшей юности. В поэзии Н. Карамзина нами зафиксированы индивидуальные варианты пространственной реализации мифологемы (долина Иосафатова) и ее демифологизации.
Литература:
1. Абрамзон Т. Поэтические мифологии XVIII века. Ломоносов. Сумароков. Херасков. Державин. – Автореф. дис. …докт. филол. наук. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 43 с.
2. Азбукина А.В. Три степени символизации образа птицы (эмблема, знак, символ) в поэзии конца XVIII – начала XIX века // II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11-13 декабря 2003 г.): Труды и материалы: В 2 т. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. – Т.2. – С. 141-143
3. Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. – Л.: Советский писатель, 1966. – 425 с.
4. Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. – Л.: Советский писатель, 1966. – С. 5-52
5. Новая русская словесность и культура. Т.1. Львов Н.А. Избранные сочинения. – СПб.: Пушкинский дом, Русский христианский гуманитарный институт, изд-во "Акрополь", 1994. – 423 с.
6. Нюстрем Э. Павел // Нюстрем Э. Библейский энциклопедический словарь. – СПб.: "Библия для всех", 1998. – С. 297-301
7. Петров А.В. Оды на Новый год, или Открытие Времени: (Становление художественного историзма в русской литературе XVIII века): Монография. – Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2005. – 272 с.
8. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 543 с.
9. Проскурина В. Миф об Астрее и русский престол // Новое литературное обозрение. –2003. – № 63.
10. Словарь масонских терминов.
11. Херасков М.М. Избранные произведения. – Л.: Советский писатель, 1961. – 411 с.
12. Эмблемы и символы / Вступит. ст. и комм. А.Е. Махова. – М.: Интрада, 2000. – 368 с.