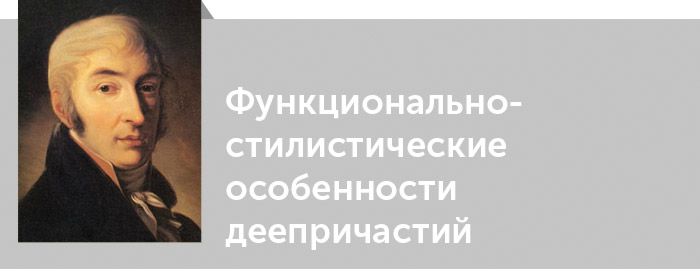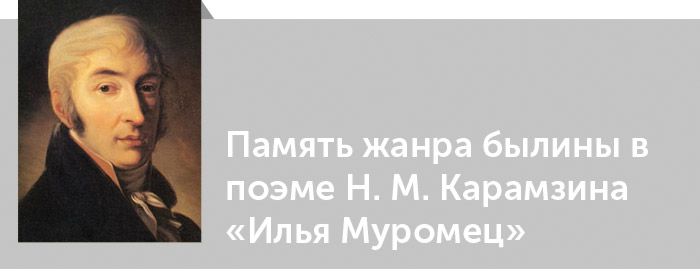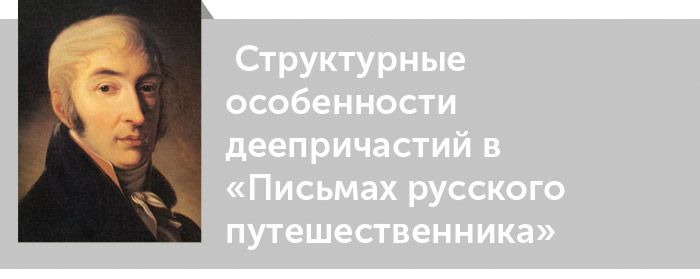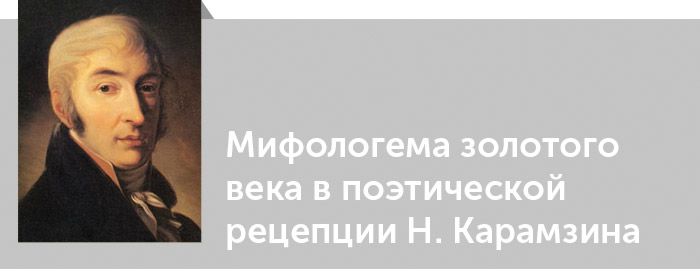Любовь как экзистенциальная ценность в повести Н. М. Карамзина
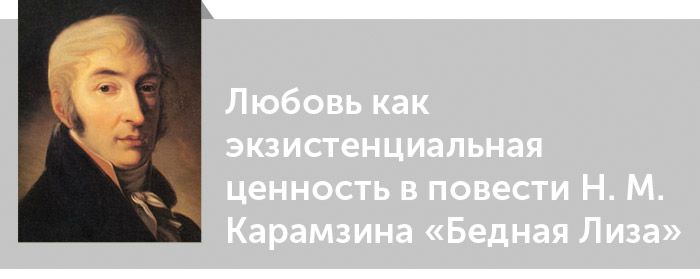
УДК 821.161.1-321.1(17/20)
Е. И. Романова
Днепропетровск
Любовь как экзистенциальная ценность в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»
У статті розглядається любовна колізія повісті Н. М. Карамзіна «Бідна Ліза» як засіб екзистенціального випробування героїв, поставлених в ситуацію особистісного вибору. Зрівнюючи в своєму художньому уяві історію Росії та історію Лізи, Карамзін до основ всякої історії докладає критерії моральності. Однак розуміння добра і зла у Карамзіна зазнає значних змін. Жорстка визначеність етичних приписів, по суті, виключає сам акт вільної волі вибору добра і зла індивідуумом, того «Entweder – Oder», що відкриває відповідальність особистості. Кьеркегоровская ситуація вибору цілком застосовна для характеристики стану Лізи. Падіння Лізи та її самогубство судяться Карамзиным не в контексті системи християнського протиставлення добра і зла, а в новій ціннісній системі любові. Карамзін не просто вводить в любовну історію перш табуйовані теми, але зміщує традиційні межі добра і святості і відкриває для російської літератури новий екзистенціальний простір особистості.
Ключові слова: любовна колізія, екзістенційне випробування, Карамзін, К'єркегор.
В статье рассматривается любовная коллизия повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» как средство экзистенциального испытания героев, поставленных в ситуацию личностного выбора. Отмечается, что разрыв Карамзина с жестко детерминированной этикой Просвещения особенно ощутим в повести «Бедная Лиза». Уравнивая в своем художественном воображении историю России и историю Лизы, Карамзин к основам всякой истории прилагает критерии моральности. Однако понимание добра и зла у Карамзина претерпевает значительное изменение. Жесткая определенность этических предписаний, по сути, исключает сам акт свободной воли выбора добра и зла индивидуумом, того «Entweder – Oder», открывающего ответственность личности. Кьеркегоровская ситуация выбора вполне применима для характеристики положения
Лизы. Падение Лизы и ее самоубийство судятся Карамзиным не в контексте системы христианского противопоставления добра и зла, а в новой ценностной системе любви. Карамзин не просто вводит в любовную историю прежде табуированные темы, но смещает традиционные границы добра и святости и открывает для русской литературы новое экзистенциальное пространство личности.
Ключевые слова: любовная коллизия, экзистенциальный выбор, Карамзин, Кьеркегор.
The article considers a love collision stories by N. Karamzin «Poor Liza» as a means of existential test heroes, set in a situation of a personal choice. It is noted that the gap Karamzin rigidly deterministic ethics Education is especially obvious in the story of «Poor Liza». Equating in his artistic imagination history of Russia and history Lisa, Karamzin to basics every story makes criteria of morality. However, the understanding of good and evil in Karamzin undergoing significant change. Moral choices without the participation of the will is not done, it happens. The hard certainty of ethical precepts, in fact, excludes the very act of free will of choice of good and evil individual, of what later Kierkegaard called «Entweder - Oder» - existential situation, opening the responsibility of the individual and threatening her with anxiety and despair. Kierkegaard choice is quite applicable to the characteristics of Lisa. And this choice does Lisa personality beyond the system of Patriarchal values. The fall of Lisa and her suicide judged Karamzin not in the context of the system of Christian opposition of good and evil, and a new value system of love.
«The fall Lisa» is a consequence of force and harshness of love. Karamzin not simply types in a love story first of taboo topics, but these topics are shifting the traditional boundaries of goodness and Holiness and opening up of Russian literature of the new existential space of the individual.
Keywords: Love collision, existential choice, Karamzin, Kierkegaard.
Н. М. Карамзин – человек, художник, мыслитель – занимает в истории русской культуры исключительное положение. Позади – пафос оптимистичного просветительства; впереди – трагическая эпоха романтизма. Как мыслитель, Карамзин открывает антропологическое измерение бытия, становясь, по сути, предшественником экзистенциализма; как человек, он в самом себе творит новый тип личности. Ю. Лотман писал о принципиально новом понимании личной свободы у Карамзина, в которой индивидуальное (не случайно, что именно Карамзин ввел в русский язык слово индивидуальность, т. е. личностное отличие одного индивидуума от другого) оказывалось выше исторического, политического, общечеловеческого: «Проблема политической свободы никогда не сливалась для Карамзина с проблемой личной независимости. Если политическая свобода определялась для него как отношение человека к государству, и здесь в определенные моменты он склонен был признавать авторитет государства как выразителя общих интересов, то независимость – право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь свою систему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой – была для него неотъемлемой от самого понятия человек» [6, с. 192]. Как художник, Карамзин начинает новую русскую словесность, а его «Бедная Лиза» надолго определит трагическую личностную напряженность русской прозы. Его положение в истории русской культуры можно определить как пограничное. Разрыв Карамзина с жестко детерминированной этикой Просвещения особенно ощутим в повести «Бедная Лиза», исполненной глубочайших философских предчувствий и предвидений. Целью нашей статьи является исследование экзистенциальных мотивов карамзинской повести.
Ощущение пограничности, подчеркнутой цветовыми контрастами, возникает в повести сразу же. Причем на двух уровнях – синхронном и диахроническом. Автор как бы помещает себя в пространственно-временную систему координат, наделяя ее философской значимостью. Точкой отсчета становятся развалины Си…нова монастыря. Горизонталь современности очевидна: отсюда «видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в виде величественного амфитеатра… На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под сению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают там летние дни, столь для них единообразные…» [2, т. 1, с. 605]. Доцивилизационный, идиллический и цивилизованный мир разделяет река – та самая водная стихия, в которой суждено будет погибнуть главной героине. Река – граница автономных миров, место разрыва и соприкосновения, где вневременное прошлое и актуальное настоящее сосуществуют, лишь подчеркивая их неслиянность: «течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом» [2, т. 1, с. 605]. Историческая вертикаль не столько противопоставляет, сколько сопоставляет историю России с незамысловатой историей любви Бедной Лизы. Развалины Си…нова монастыря рифмуются с развалинами хижины. Историческое сопоставление подчеркнуто и так же очевидно, как и пространственное противопоставление: «Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. <…> Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях» [2, т. 1, с. 606]. Совсем близко, саженях в «семидесяти от монастырской стены <…> стоит пустая хижина, без дверей, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкой, матерью своей» [2, т. 1, с. 607]. Лютые бедствия не минули и беззащитную вдовицу – мать Лизы. А «печальная история» прошлого России дана в тексте Карамзина на равных с «плачевной судьбой Лизы, бедной Лизы». Называя Карамзина «Колумбом русской истории», Ю. Лотман писал об особенностях историзма Карамзина: «Критики “Истории” напрасно упрекали Карамзина в том, что он не видел в движении событий глубокой идеи. Карамзин был проникнут мыслью, что история имеет смысл. Но смысл этот – замысел Провидения – скрыт от людей и не может быть предметом исторического описания. Историк описывает деяния человеческие, те поступки людей, за которые они несут моральную ответственность» [4, с. 587]. Для Карамзина, – отмечает В. Н. Топоров: «время не только помещается в антропологическую перспективу, но более того, оно “психично”, лично, личностно, и, значит, «портрет» времени отсылает к “портрету” души» [9, с. 207]. Уравнивая в своем художественном воображении историю России и историю Лизы, Карамзин к основам всякой истории прилагает критерии моральности. Однако понимание добра и зла у него претерпевает, на первый взгляд, незаметное, но особенно значительное изменение. Система добра и зла в «Бедной Лизе» перестает быть абсолютной, властно определяющей выбор человека: либо грех, либо святость. Она дополняется критерием свободы, выбора. Карамзин был хорошо знаком с философией Канта (о свидании с ним он рассказывает в своих «Письмах русского путешественника»). Кантовские нравственные кодексы претендовали на общезначимость, они создавались как универсальные, рассчитанные на все времена и на всех людей. Но универсальность и абстрактность неизменного как звездное небо категорического императива в «Бедной Лизе» не работает. Карамзин, по сути, стремится снять шоры категорического императива.
Универсальность категорий добра и зла, греха и святости четко структурирует миры по обе стороны реки. С одной стороны – идиллический мир «естественного человека». Центром этого мира является «горестная старушка» – мать Лизы. Нередко забывают, что комментарий Карамзина – «ибо и крестьянки любить умеют!» [2, т. 1, с. 607] относится не к Лизе, а к ее матери. Эта любовь неизменна, и смерть возлюбленного здесь лишь краткая отсрочка перед вечным соединением: «На том свете, любезная Лиза, <…> на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы: я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего» [2, т. 1, с. 607]. Несмотря на слезы, Лизина матушка живет в гармоничном божеском мире: «Как все хорошо у господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет» [2, т. 1, с. 613]. В идиллическом мире матери нет и не может быть проблемы трагического выбора. Лизина мать не выбирает добро, само добро выбирает ее. Все хорошее дается от Бога и им благословляется, и идиллия цепенеет, лишенная свободной воли.
С другой стороны реки – «алчная Москва». Этот мир сложнее и неоднозначнее. Мотив денег последовательно разворачивается в повествовании. Он определяет внешний сюжет истории любви Эраста. При первой встрече Эраст предлагает Лизе за букет ландышей вместо символических пяти копеек – рубль. Цветы как примета идиллического мира, и деньги как знак цивилизованного «modernity» здесь – структурообразующая антиномия. Актом покупки цветов Эраст пытается войти в мир идиллии. Уходя в армию, он оставляет за собой право на эксклюзивное владение плодами Лизиных трудов (попытка остаться в этом мире). И наконец, женившись на нелюбимой женщине ради денег, он дает Лизе те самые злополучные сто рублей, которые для него окончательно закрывают двери идиллии. А. Шенле в статье «Между “древней” и “новой” Россией: руины у раннего Карамзина как место “modernity”» отмечает: «Его бесцеремонное собственническое отношение к Лизиному труду выдает не только убеждение в том, что деньги являются валютой, потенциально конвертируемой в любые жизненные блага – и материальные, и духовные, но и уверенность в правоте своей идеологии, согласно которой практика обмена вещами, принадлежащими к различным сферам и уровням человеческой жизни, является признаком высокоразвитой цивилизации» [9, с. 137].
Эпоха Просвещения попыталась включить понятие «корысти» в рациональную систему ценностей. Отбросив идеал человека-аскета, век Просвещения выдвинул понятие разумно понятого эгоизма. А. Н. Радищев усматривал в нем основания для счастливо организованного общества: «Все деяния человеческие не суть бескорыстны»; «Причина к общежитию есть единственная каждого польза» [7, т. 3, с. 30–31]. «Польза», «корысть» – понятия не чисто экономические, но в повести Карамзина деньги – эмблема рационально выстроенных отношений. Рациональная по сути система любовных отношений вполне приемлема для Эраста, но не для Лизы. Не случайно она отказывается и от денег Эраста и не хочет выходить за сватающегося к ней сына богатого крестьянина. Кажется, что определение «алчная» не столько оценочный эпитет, сколько базовая характеристика нового соотношения рационально понятого добра и зла, характерного для Просвещения. Идея разумного эгоизма, сводящая проблемы этической свободы к элементарным составляющим пользы, правильно понятой прагматики, прочно укоренится в русском утопическом дискурсе. В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» на этих основаниях будут построены и образец идеальной любви, и образец идеального социального общества. У Карамзина стремление к естественности как удовольствию входит в систему «разумного эгоизма». «Естественный мир» идиллии выступает как альтернатива, «по крайней мере, на время», «большому свету». Выбор Эраста жестко детерминирован. На территории «алчной Москвы» он может быть только коварным соблазнителем. Это подчеркнуто и в повествовании: при первой встрече Лизы и Эраста в Москве «мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались» [2, т. 1, с. 617]. Эти «коварно усмехающиеся мимоходящие» как раз и предвкушают развитие сюжета в знакомой ситуации обольщения невинной девушки. Утопический, но тоже знакомый сюжет рисуется в идиллии – территориально, на другом берегу Москвы-реки: он мечтал о «страстной дружбе невинной души» [2, т. 1, с. 611].
Таким образом, Эраст «с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным» [2, т. 1, с. 609] оказывается перед лицом выбора. Этот выбор жестко детерминирован и системно организован. Для Эраста границу между добром и злом пролагает чувственность. «Изрядный разум» его не может подчиняться чувственности: «С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства» [2, т. 1, с. 605]. М. Хоркхаймер и Т. Адорно подчеркивают, что Просвещение побуждает самодостаточный интеллект отстраняться от чувственного опыта, чтобы затем контролировать чувства. Любовь к Лизе для Эраста предполагает выход к платоническим отношениям: «Я буду жить с Лизой, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив» [2, т. 1, с. 609]. Но, «Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?» [2, т. 1, с. 618], – горестно восклицает автор, и «падение» Лизы с неизбежностью выводит ее из нравственной системы Эраста. После падения «Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспламенял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми не мог гордиться, и которые были для него уже не новы» [2, т. 1, с. 618]. Следует согласиться с определением А. Шенле: «Эраст не просто человек, попавший под влияние словесности ХVIII века, в частности традиции литературной идиллии; он активный поборник Просвещения, пытающийся воплотить в жизни его главные установки» [9, с. 131]. Слабое сердце Эраста – это знак его слабой воли. Он может выбирать только между добром и злом, и выбор этот будет определен не его волей, но обстоятельствами. Трагическая разорванность, но в то же время и внутренняя системность характера Эраста будет позже почти пародийно уточнена самим же Карамзиным в очерке «Чувствительный и холодный». Кроме того, что Эраст в «Бедной Лизе» жестко определен социально (он дворянин, а Лиза – крестьянка) и экономически (проиграв деньги, он вынужден жениться на богатой вдове), он еще скован и характерологическими свойствами своей натуры. Продолжая анализировать человеческую природу, Карамзин называет одного из главных героев своего очерка Эрастом и, ставя диагноз, пишет: «Как бы то ни было, мы видим в свете людей умных и чувствительных, умных и холодных, <…> нравственное свойство их так независимо от воли, что все убеждения рассудка все твердые намерения перемениться нравом останутся без действия» [2, т. 2, с. 117–118].
Нравственный выбор без участия воли не делается, он случается. Эраст не может поступaть иначе, чем выбирать между двумя определенностями, по сути, отрицающими сам акт свободной воли. Определенность понятий добра и зла характерна и для христианской этики, и для этики эпохи Просвещения. Поэтому и Эраст, и мать Лизы не свободны. Природа их «несвободности» различна. Для матери Лизы она не нужна, Эраст же по своему характеру не способен к выбору свободы. Жесткая определенность этических предписаний, по сути, исключает сам акт свободной воли выбора добра и зла индивидуумом, того, что позже Кьеркегор назовет «Entweder – Oder» – «или – или» – экзистенциальной ситуации, открывающей ответственность личности и грозящей ей тревогой и отчаянием. В статье «Гармоническое развитие эстетических и этических начал в личности» С. Кьеркегор поставит проблему выбора («или – или»), то есть проблему выбора человеком самого себя, пути собственного развития, развития себя как человеческой личности, своего нравственного самосовершенствования. При этом он, религиозный мыслитель, отвергнет как несостоятельную и вредную для человека христианскую концепцию добра и зла, равно как и различные объективно-идеалистические концепции этих категорий, поскольку все эти концепции ориентировали человека на выбор между добром и злом. «Мое “или – или”» обозначает главным образом не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе. Суть дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле выбрать, чем само собой закладывается основание добру и злу. Путь к этому Кьеркегор увидит не в рассмотрении предметов выбора, а в «духовном крещении воли человека в купели этики» [3, c. 9].
Кьеркегоровская ситуация выбора вполне применима для характеристики положения Лизы. Лаконичная аллюзия изгнания из рая закрепляет в сознании читателя неизбежность перехода и невозможность возврата: «Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной, но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу» [2, т. 1, с. 615]. С грустью провожает она глазами проходящего мимо нее пастуха. И именно в тот момент, когда «пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим и скрылся за ближним холмом», с той стороны реки-границы появляется в лодке Эраст. Для Лизы любовь становится единственным и абсолютным центром бытия. Плачущая о своем умершем возлюбленном муже старушка-мать не отделяет себя от божественного мира: «Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали» [2, т. 1, с. 615], Лиза же противопоставляет свою любовь Богу: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!» [2, т. 1, с. 620]. Страшный выбор между Богом и любовью сделан. И этот выбор делает Лизу личностью, выходящей за рамки системы ценностей идиллии. Все последующие события – падение Лизы и ее самоубийство – судятся Карамзиным не в контексте системы христианского противопоставления добра и зла, а в новой ценностной системе любви. «Падение Лизы» – это следствие силы и безоглядности любви. Такое толкование «падения» было абсолютно новым. «Падение» Лизы исключает ее не только из мира идиллии, но и из мира рациональности «алчной Москвы». С самого начала Лиза понимает, что любовь к Эрасту не принесет ей счастья: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом» [2, т. 1, с. 619], – с тоскою думает она перед первым объяснением в любви. Тема невозможности соединения возникнет еще раз перед самым падением: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка» [2, т. 1, с. 613].
А. Зорин и А. Немзер формулируют вопрос, который со всей очевидностью вставал и перед первыми читателями повести: «Бедная Лиза – кто она? Страдалица, святая, жертва социального неравенства, грешница, блудница?» В ее образе обнаруживается весь спектр смысловых колебаний. Однако каждое из прочтений не является окончательным: «сквозь грех светится чистота, сквозь социальные контроверзы – общие психологические закономерности, сквозь сострадание – порицание» [1, с. 47].
В. Топоров подчеркивает, что образ Лизы был не просто открытием воплощения еще одного женского типа: «это был прорыв на доселе неведомую русской литературе глубину» [8, c. 283]. Чтобы оценить масштаб этого прорыва, он предлагает взять его в широкой перспективе. В литературе ХVIII века набор сюжетных ситуаций был достаточно ограничен: счастливая, несчастливая любовь, измена, соперничество. В предыдущем столетии колоритные женские образы были жестко закреплены в системе добра и зла. Скажем, «развратные» типа жены Бажена из «Повести о Савве Грудцыне», или «невысокой нравственности» типа Аннушки из «Повести о Фроле Скобееве», или даже добродетельными, как верная жена Карпа Сутулова Татьяна, проучившая любострастных поклонников – архиепископа, попа (ее духовного отца) и купца. Карамзин превратил любовь из движителя авантюрного сюжета в способ отыскивания смысла жизни. «Перед нами, – пишет В. Топоров, оценивая значение образа Лизы, – два полюса – развратная женщинаискусительница из авантюрных историй или «добродетельная» женщина из поучительных апологов, искушенная однако, и в этих авантюрных историях, с одной стороны, и истинно чистая душа, не изменяемая и «падением» ее носительницы, с другой» [8, с. 283]. Абсолютность любви выводит ее за рамки двух противопоставленных систем – идиллии и современности, делая ее выше законов Божеских и человеческих. «В системе Карамзина гибель героини, – отмечает Ю. Лотман, – является показателем того, что нарушен некий более справедливый порядок. Смерть – атрибут любви, и чувство, которое не увенчивается смертью, не может быть признано любовью» [5, с. 283]. Рассказчик отказывается судить Бедную Лизу, более того, ей – «падшей» и «самоубийце» он обещает вечную жизнь: «Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!» [2, т. 1, с. 621]. И там Лиза примирится с раскаявшимся Эрастом, который не смог переступить границы системы, где «падение» возлюбленной оставляет ее на стороне зла.
Карамзин не просто вводит в любовную историю прежде табуированные темы – «падение» женщины, самоубийство, инцест («Остров Борнгольм»), но эти темы смещают традиционные границы добра и святости и открывают для русской литературы новое экзистенциальное пространство личности. Культурная энергия мифа о бедной Лизе оказалась столь значительной во многом как раз потому, что «грех и святость оказались связаны в нем невидимыми и неразрывными узами» [1, с. 26]. Но, очевидно, не относительность добра и зла волновала Карамзина. Он, связывая прогресс с развитием личности, предвосхитил постановку проблемы выбора, определившую становление и самого экзистенциализма.
Библиографические ссылки
1. Зорин А. Л. Парадоксы чувствительности / А. Л. Зорин, А. С. Немзер // «Столетья не сотрут…» : Русские классики и их читатели – М. : Книга, 1988. – С. 8–55.
2. Карамзин Н. М. / Избр. соч.: В 2 т. / Н. М. Карамзин. – М. : ГИХЛ, 1964.
3. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал / С. Кьеркегор // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – К. : AirLand & Новый круг, 1994. – С. 225–419.
4. Лотман Ю. М. Колумб русской истории / Ю. М. Лотман // Карамзин. – СПб. : Искусство-СПб, 1997. – С. 565–587.
5. Лотман Ю. М. Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. (К структуре массового сознания XVIII века.) / Ю. М. Лотман // XVIII век : Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. – М.; Л. : Наука, 1966. – Вып. 7. – С. 280–285.
6. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина / Ю. М. Лотман // Карамзин.– М. : Книга, 1987.– 336 с.
7. Радищев А. Н. // Полн. собр. соч. : В 3 т. / А. Н. Радищев. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1952.
8. Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет / В. Н. Топоров. – М. : Изд.центр Российского гос.гуманит.ун-та, 1995. – 512 с.
9. Шенле А. Между «древней» и «новой» Россией: руины у раннего Карамзина как место «modernity» / А. Шенле // Новое литературное обозрение . – 2003. – 59 (1). – С. 125–141.
Надійшла до редколегії 31 березня 2014 р.